
Полная версия
Убить некроманта
Можно понять, правда?
И со мной заговорил в точности как отец. Так же благодушно, весело и снисходительно.
– А, – сказал, – славно, что тебя выпустили. Рад. Поглядишь, как это бывает по-человечески.
– Ага, – говорю. И смотрю в пол.
А он продолжил. Улыбаясь. Мой дорогой братец.
– Хорошо, хорошо. Тебе, в конце концов, надо учиться жить, как подобает принцу. На охоту со мной съездишь. Бал посмотришь. Танцевать с тобой, конечно, едва ли кто-нибудь захочет, но музыку послушаешь всё-таки…
– Ага, – говорю. Всё равно ему не нужны мои ответы.
Он улыбнулся так мечтательно.
– Невеста – Прекрасная Розамунда. Из Края Девяти Озёр. Ты уже слышал? Говорят, она увидела мой портрет – и даже обдумывать не стала.
– Ага, – говорю.
Не стала обдумывать. Ну да. Шестая дочь этого бедолаги из Края Девяти Озёр. Он себе чуть пупок не развязал, придумывая, что всей этой ораве девиц дать в приданое. Разорился, в долги влез. Король, н-да… Младшенькая, все говорили, хороша, как эльф. А денег у папаши больше нет. И за ней дают клочок земли размером с загон для гусей – три деревни, два села – и серебряные ложечки.
Но наша благородная фамилия за приданым не гонится. Были бы у невесты честь и добродетель. И древность рода.
Дерьма тоже… Ещё бы она стала обдумывать. Принц из Междугорья всё-таки. Страна небедная, может, при дворе будут три раза в день кормить.
– Поздравляю, – говорю.
– Завидуешь небось, – говорит. С сердечной улыбкой. – Сравнить прелести Розамунды с костями того дохлого пажа…
И в этот самый миг я вдруг почувствовал, как защита треснула. Смертную боль почувствовал, когда эта трещина пошла по сердцу, по уму, по нервам, по душе… чуть не заорал, так Дар жёг щит Святого Слова. Хотелось корчиться и по полу кататься. Едва стерпел.
И вдруг отпустило.
Я поднял глаза и посмотрел на Людвига. Смотрел и ощущал, как Дар протёк через трещину, то-оненькой струйкой. Как чёрный ручеёк влился в братцев мозг, но не разорвал мозг в клочья, нет – собрался где-то внутри маленькой лужицей, таким стоячим болотцем. Чтобы долго и тихо гнить.
А Людвиг ровно ничего не понял. Понятливость – вообще не наша семейная добродетель. Да ему бы и в голову не могло прийти, что он сейчас сломал мою защиту. И что именно ему нужна эта защита как воздух. И что мой ошейник – это уже просто побрякушка. Цацка. Как любой его дурацкий перстень.
Он посмотрел мне в глаза – мне казалось, что в них моя смертная злоба горящими буквами выжжена – и захохотал.
– Что?! Проникся? Ну то-то. Беги, малыш, играй – сейчас портные придут. К этому костюму ещё плащ полагается – белый с золотым подбоем, представляешь?
– Очень красиво, – говорю.
Еле выдавил из себя. И ушёл.
Я сам не знал и никто не знал, что мой Дар так силён, чтобы проломить три освящённые печати на серебре. А тем более – что я могу наносить раны, которые открываются не сразу. Это уже высшие ступени, многим старцам, высохшим в злодеяниях, не под силу. Но этой мощью меня не Те Самые Силы одарили, это я понял точно.
Это я такой подарок получил от своих родных и близких. Это мои собственные боль, ярость и беззащитность. Всё могло быть иначе, но они сами сковали мне меч против себя же самих, закалили этот меч и подвесили к моему поясу.
И я им за это тоже не благодарен, потому что, если бы этого не случилось, на моей душе было бы гораздо меньше шрамов.
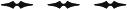
Людвиг умирал целую неделю.
Смешно, но меня даже в мыслях никто не заподозрил. От меня же одни кости остались за время моего затворничества, на мне же ошейник был со Святым Словом. Я же был меньше, чем ничто. И потом – меня, как всегда, перестали замечать.
Они возились с Людвигом.
Лейб-медик сначала сказал: похоже на чёрную оспу. Потом понаблюдал-понаблюдал: нет, скорее на проказу, но осложнённую и нетипичную. И тогда собрали консилиум.
И все эти лейб-медики, просто медики, лекари, знахари, святые отцы кружились вокруг Людвигова ложа, как вороньё вокруг падали – чёрные, хмурые. Обсуждали, советы давали, поили его всякой дрянью…
Ни одного некроманта, конечно, не позвали. Любой некромант с ходу сказал бы, в чём дело: чужая, мол, злоба его убивает. Но кто их слушать будет? От лукавого. И потом, где бы взяли некроманта в таком-то благочестивом государстве. Так что мне ничего не грозило.
Обо мне говорят, что я не знаю жалости… Очередная ложь.
Я не наслаждался, не верьте слухам. Я смотрел на него, на его смазливое личико в язвах, на руки, высохшие, потрескавшиеся, покрытые струпьями – и мне было ужасно больно, физически. Под лопаткой резало. Меня корчило от жалости. Я ненавидел себя за то, что сделал именно так. Я бы его добил с облегчением, из сострадания добил бы, по-другому ему нельзя было помочь – но они-то надеялись, что он выздоровеет…
Ох, если б он меня позвал и попросил смерти! Если бы он что-нибудь понял, хоть перед самым концом! Я бы, наверное, плюнул тогда и на корону, и на власть – я бы отпустил его душу, а сам в монастырь ушёл бы. И никогда больше не использовал бы Дар. Даже чтобы муху прихлопнуть.
Но так не бывает.
Он смотрел на знахарей бешено и хрипел:
– Быдло тупое! Холуи ленивые! Что, ни один идиот не может придумать, как скорее меня вылечить?! Мне же больно, гады! У меня же невеста! Вам что, всё равно, да?!
Ему и в голову не могло прийти, что кому-то может быть всё равно. С ним всегда все носились. Да что там! Весь белый свет существовал для его удовольствия. Все люди служили ему игрушками. Он никогда не страдал, мой братец Людвиг. Он был здоровый, его никогда не били, ему давали всё, что он попросит – а тут…
О, как его бесило, что Господь Бог его не слушается! Он же просил – дай мне поправиться, ясно просил – а Бог не даёт!
Уже перед самым концом он скулил как щенок:
– Папенька, сделайте что-нибудь! Ну сделайте! Я жить хочу!
И папенька смахивал скупую мужскую слезу, а маменька просто в конвульсиях билась. Но как бы они ни оплакивали его – горе им не мешало меня ненавидеть.
Я же теперь стал наследником. Вот так.
Людвиг мне сказал напоследок:
– Ты, Дольф, сам знаешь: ты в наследные принцы не годишься. Ты выродок. Но судьба за тебя, будь всё неладно – радуйся давай! Радуйся!
А отец с матерью меня взглядами просто в пол впечатывали. Они тоже так думали, слово в слово. Меня их отвращение к земле гнуло, в узел завязывало, но ненависть распрямила.
Если бы не неделя с Нэдом, они бы меня стоптали в пыль. Но теперь у меня было оружие, хорошее, надёжное оружие – и я даже глаз не отводил. И не раскаивался.
Когда Людвига хоронили, я придерживал гробовую пелену и ощущал на себе взгляды двора. И как всегда – принимал к сведению.

В день его похорон как раз собирались устроить помолвку.
Прекрасная Розамунда стояла в сторонке, вся мокрая от слёз, вся в чёрном: замученный пушистый котёночек, который попал под ливень. Маленькая такая, тоненькая – в свите своей, среди громадных баронов и толстых фрейлин. Всё, помню, пожималась – ветрено было, пасмурно, хоть и июнь, – и платочек мусолила.
Кого я всерьёз жалел – так это её. Так хорошо пристроили девчонку – и вот такое разочарование страшное. И какими глазами она смотрела на Людвига в гробу – не передать. Смесь жалости, ужаса, отвращения, нежности – порох такой внутри души. Одна посторонняя искорка – рванёт, и сердце разорвёт в клочья.
Я думал – ишь, ещё не невеста, а уже вдова. Бедняжка.
Ребёнок я ещё был, ребёнок. Не знал, на что Те Самые Силы способны, но на что обычные люди способны, чтобы соблюсти свою выгоду, я ведь тоже не знал до конца. То, что дальше вышло, меня поразило, просто, можно сказать, ошарашило.
Государь-то Края Девяти Озёр вовсе и не собирался рвать брачный контракт с моим батюшкой и терять для любимой доченьки такую выгодную партию, хоть весь мир сгори или провались. Сам лично приехал договариваться и разбираться. На Совете резал правду-матку, аж клочья летели. Старший принц умер – пустяки какие, в самом деле! Младший-то остался! Он что же, не мужчина у вас?
Папенька, как я слышал, ответил: «Да не совсем».
Ну и что? Кому это интересно-то? Кого волнует? Ещё подрастёт, чем бы дитя ни тешилось… И потом – ему уже, считай, сравнялось четырнадцать, а девочке ещё не исполнилось пятнадцати: ровесники!
Батюшка мой слабо отбивался. А папенька Розамунды наседал. И в конце концов слово прозвучало – некромант.
Только это никого не остановило. Они были в таком раже от заботы о престолонаследии и собственных деньгах, что им уже на всё плевать хотелось.
Подумаешь, некромант. Хоть вурдалак.
Я же бедную девчонку больше жалел, чем её собственная родня. И я всё понимал, несмотря на возраст – она ж не первая девчонка была, которую я видел в жизни. И ей показывали портрет Людвига, она, может быть, даже поболтать с ним пару раз успела, с нашим белым львом, потанцевать… а теперь должна как-то смириться вот с этим… что я в зеркале регулярно вижу.
Меня лейб-медики осматривали, и озёрный, и папин – стыдобища. О таких вещах спрашивали, за такие места хватали – думал, сгорю на месте. Но обоим государям донесли, что, невзирая на свой юный возраст, я уже вполне мужчина, что бы я там о себе ни вообразил. Короче, подписали приговор нам обоим.
В городе объявили, что наша помолвка состоится сразу по истечении срока траура. И весь город шептался все три траурных месяца, что отдали, мол, кривобокому шакалу белого ягнёночка. Я об этом знал, потому что при дворе болтали то же самое, только злее.
А я сидел в любимой клетушке на сторожевой башне и строил иллюзии. Нэда вспоминал, вспоминал, как славно, когда рядом… как сказать… ну, когда обнимают тебя горячими руками, по голове гладят, говорят что-нибудь доброе, пусть хоть пустяковое. Я же одиночкой рос, меня никто не ласкал – проклятая кровь, – а хочется, хочется ведь…
Клянусь Той Самой Стороной или Господом, если вы так легче поверите: ни о каких непристойностях не думал. Ни о самомалейших. Просто размечтался: как я Розамунде объясню, что я ей не враг, что обижать не стану и другим не позволю… Что лапать её, как все эти придворные кавалеры – своих девок, нипочём не буду, а в первую ночь поцелую ей руку, только руку… Ну если только в уголок рта ещё, если она захочет.
Что вопросами престолонаследия станем заниматься, только когда она сама позволит. Когда подружимся. Расскажу ей, думал, как Нэду, всё честно. Чтобы она поняла, что я не законченная мразь… и что не завидовал Людвигу – другая причина была… Если только когда-нибудь посмею ей сказать, что Людвига убил…
И не из-за неё.
А к ней подойти не получалось. Она вечно с дуэньями ходила. А у дуэний был вид цепных собак. И я решил, что это, видно, против правил каких-то – разговаривать с невестой до свадьбы. Не стал настаивать.
Я не влюблён в неё был, нет… но она меня занимала. Даже очень. Я всё думал, что она мне станет подругой, родным человеком. Что всё будем обсуждать вместе, разговаривать…
Поговорить иногда ужасно хотелось. Это у меня редкое удовольствие было: разговор. Я иногда даже романы читал, как там люди разговаривают, хотя не любил романы, кислятину сопливую. А тут, думаю, повезло мне. Девчонки любят болтать, просто сами не свои. А я буду слушать. Им же нравится, когда их слушают. Узнаю, что она ещё любит, почитаю книжки об этом… даже если это будут платья или пудра, всё равно…
Скромные мечты… Я даже пару уроков танцев взял, хоть на балы никогда не ходил и танцевать терпеть не мог. Может, думал, она все эти танцы-шманцы любит, девчонка же…
Тяжёлые выдались три месяца, как вспомнишь. Я про всё забыл, даже книг не читал, ходил как в тумане каком-то. Всё казалось, теперь начнётся совсем другая жизнь. Не то чтобы даже счастливая, а просто потеплее, чем эта. Всё равно что отдали бы мне Нэда, и он бы спал в моей постели, и обнимал бы меня осенними ночами, когда за окном льёт и ветер воет, каменный холод, весь мир против тебя, и ты кусаешь подушку, чтобы не взвыть на весь дворец…
Мне тогда хотелось только тепла – больше почти ничего.
А она была тоненькая, с тёмно-золотой косой, с длинной шейкой, с громадными глазищами, синими, бархатными, будто дно у них выложено фиалками… с маленьким ротиком, бледно-розовым, как лепесточек. И таскала свои тяжеленные роброны, чёрные с золотом, несла подол впереди стеклянными пальчиками…
Ужасно была похожа на эльфа, как их на старинных миниатюрах изображают. Только один мой авторитет, некромант, конечно, в своём историческом труде утверждает, что эльфов на свете никогда не было.
Что это выдумка. Правда, красивая.

Лето, помню, тогда выдалось холодное, а осень и подавно – холодная, туманная… Выглянешь утром из окна – туман лежит пластами, хоть режь его, сумеречно так, пасмурно – и на душе смутно, беспокойно, будто её царапает что-то… Тяжёлый был год, тяжёлый. Очень для меня памятный и тяжёлый…
Свадьбу назначили в начале октября.
Мне тоже сшили такой костюмчик, как покойному братцу, царствие ему небесное. Белый с золотом. Только если Людвиг в этом белом выглядел как солнце на снегу, то я – вроде облезлого грифа, переодетого гусем. Умора, право слово.
Я давно заметил: если когда и выгляжу более-менее сносно, так это только в виде небрежном, растрёпанном, что ли, немножко. Когда волосы взлохмачены, воротник расстёгнут, манжеты выдернуты из рукавов… Конечно, по-плебейски смотрюсь. Но, по крайней мере, не как зализанное чучело.
Но церемониймейстер, портной и вся эта компания во главе с моим камергером просто, похоже, сговорились меня поэффектнее изуродовать. С Господом Богом им, разумеется, не тягаться, но определённых успехов они достигли.
Запаковали меня в эту парчу и атлас, как флейту в футляр. Воротник накрахмалили, и он перекашивался так, что мои разные плечи за милю было видно невооружённым глазом. А волосы завили и напудрили. И лицо от этого выражение приобрело совершенно идиотское, как ни погляди.
Потом стало всё равно. Потом. Но в четырнадцать лет это кажется жутко важным: хорош ты внешне или плох. Глупо. Ребячество. Но ничего не поделаешь. Вот я стоял у зеркал, глотал комок в горле и думал, что лучше сбежать в дикие леса и стать там отшельником, чем в таком виде показаться перед двором, который только и ищет, над чем бы зубы поскалить.
А тем паче – перед Розамундой.
Тем более что она вплыла в храм лилией из инея, в острых бриллиантовых огоньках, бледнее кружева вокруг её личика, на белом – одни глаза, тёмные сапфиры, а в них отражаются свечи. И пока она ко мне подходила – я себя и этак, и так… Всеми словами. Про себя.
Смотреть я на неё не мог, надо же на святого отца – но рука у неё, помню, холодная была и влажная. И дрожала. И я думал, что она озябла и боится. Я бы её Даром прикрыл крепче крепостной стены, от любого несчастья, от всего мира…
Там, в храме, я всё плохое, что о девчонках и о романах думал, будто куда-то в дальний ящик запер. Я поверил, в собственные мечты поверил, в хорошее поверил… в то, во что верить нельзя. Очередная глупость.
Потом был обед. Скучный, церемонный. Розамунда сидела раскрашенной статуэточкой, ничего не ела, всё молчала. И мне не лез кусок в горло. Я только слушал, как батюшкины придворные скрепя сердце или, как Нэд однажды сказал, «скрипя сердцем», меня поздравляют: всё это враньё, дешёвое враньё, издевательское враньё, насмешливое враньё…
Вот тут-то мне и закралась в голову мысль, что эта свадьба – тоже кусок моих постоянных налогов Той Самой Стороне. Я это додумать до конца побоялся, до холодного пота между лопатками, но это-то сущая правда была. Правда.
Единственная правда на том пиру, будь он неладен.

Я еле дождался, чтобы нас оставили, наконец, одних.
Шут отца Розамунды, гнидка горбатенькая, ещё вякнул, что, мол, юного жениха снедает нетерпение наконец взглянуть, в тон ли робам на невесте подвязки, – и все заржали. А я опять почуял, как Дар во мне загорелся тёмным пламенем… он всё это время как бы тлел, будто угли под пеплом, а тут полыхнул так, что щёки вспыхнули. Но я сдержался.
Я решил, что со всей этой сволочью потом посчитаюсь. Подал руку Розамунде, а она только сделала вид, что подала свою – чуть-чуть прикоснулась. И когда мы уходили, мне снова было жаль её до рези в сердце… но кроме жалости оттуда прорезалась и ненависть.
Ждала своего часа. Я ещё не знал какого.
Мы пришли в спальню. Поганое брачное гнёздышко, как в самых гнусных романчиках – розовенькие кисейки, золотые бордюрчики, хмель везде… И меня вдруг затошнило, но не как бывало раньше, когда я за Людвигом шпионил. Предчувствие появилось, нехорошее до невозможности. Всё внутри тремя замками замкнуло от ужаса.
Я посмотрел на Розамунду, а она опустила глаза. И мне стало ещё страшнее – до судорог.
– Вы устали, да? – говорю. Ничего умнее на язык не идёт.
– Да, – отвечает. Еле слышно. Она в моём присутствии в полный голос ещё ни разу не говорила.
– Может, – говорю, – вы, сударыня, глинтвейна хотите выпить? Или орешков вам насыпать?
– Нет.
Тихо, но резко. Нет. Всё нет. И я сказал:
– Вам плохо?
Она подняла голову, встретила мой взгляд – как щитом. И лицо у неё было напряжённое, упрямое и какое-то ядовитое – совсем не эльфийское, я бы сказал, а настоящее девчоночье. Вздорное. Не вызов, как у парня, а желание ранить и не получить рану в ответ.
Они не признают никаких законов поединка. Бьют в больное место и прикрываются чем-нибудь непреодолимым, вроде слёз или обвинений. Я об этом совсем забыл. Размечтался. И теперь мне напоминала Та Самая Сторона – из её глаз.
– Мне прекрасно, – сказала она. – Я счастлива. Вы же всё сделали для моего счастья.
Я не понял. И растерялся.
– Ну как же, – продолжает. И в голосе яда всё больше и больше. – Вы же некромант, все говорят. Это вы убили Людвига.
Достань она из корсажа кинжал и воткни мне в горло – то на то и вышло бы. Я задохнулся, только смотрел на неё во все глаза. А она продолжала, негромко, как будто спокойно – и ядовито, будто у неё тоже был Дар своего рода:
– Я много о вас знаю, Дольф. Вы упиваетесь смертями, как гиена. Вы с детства завидовали Людвигу. Вы похотливы – да, мне об этом тоже сообщили! Вы развлекаетесь омерзительными вещами. И вы убили Людвига из зависти и из похоти – я об этом легко догадалась. Вы влюбились в меня и разбили моё сердце. Вам хотелось меня получить – и вы получили. Как вы жестоки и как вы низки!
Я сел. Я потерял дар речи. А она продолжала:
– Людвиг был лучше вас в тысячу раз, Дольф. Он был красив, он был благороден, он был добр и любезен. Он был способен любить, понимаете? Вам, верно, и слово-то это неизвестно. Он говорил мне удивительные вещи…
И заплакала.
А я подумал, что он говорил удивительные вещи фрейлинам, прачкам, горничным, бельёвщицам – даже кухаркам. И уж что другое – а любить он был способен так, что только мебель трещала. И что её благородный Людвиг с доброй улыбкой наблюдал, как Нэд стоит и плачет куда горше, чем Розамунда, а на его шею накидывают петлю.
У меня сжались кулаки сами собой, и лицо, видимо, тоже изменилось, потому что она посмотрела на меня сквозь слёзы и сказала:
– Вам нестерпимо слушать правду, да? Вы уже и меня убить готовы, палач?
А я не привык говорить. Не умел оправдываться, не умел быть галантным, вообще ничего такого не умел. И я сказал как умел.
– Если я палач, – говорю, – что ж вы сказали «да» в храме?
Она разрыдалась в голос. Её всю трясло от слёз, мне хотелось погладить её по голове или обнять, но я боялся, что она это не так поймёт. Я не злился на неё, нет. Я понимал, что её обманули маменькины статс-дамы, забили ей голову всяким вздором… я не знал, что с этим делать, но мне казалось, что она не виновата.
Я чувствовал ледяную бессильную ярость на судьбу. Но не на неё.
Я тогда ещё не знал, что очень красивые и очень беспомощные с виду люди могут быть самыми изощрёнными врагами. Беспомощность Розамунды совершенно меня обезоружила.
А она, рыдая, выкрикнула:
– Теперь у вас хватает жестокости попрекать меня послушанием! Как я могла ослушаться отца, как?!
– Сказали бы, что я убил брата, – говорю. – Отправили бы меня на костёр.
– Я говорила! – всхлипывает. – Но мне никто не верит!
– Вот здорово, – говорю. – Вы вышли замуж за того, кого хотели убить?
Она вытерла слёзы и пожала плечами. В этом вся соль. Добавить нечего. Она ведь тоже была ещё ребёнком – такая непосредственная. Ещё не умела врать, как взрослые дамы – по-настоящему.
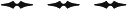
Самое отвратительное, что мы в ту ночь легли в постель вместе.
Я сидел на краешке ложа и ел конфеты. Миндаль в сахаре, точно помню. С тех пор ненавижу этот вкус до рвоты: как случается что-нибудь стыдное, тяжёлое, больное, так во рту этот привкус. Сладкий, горьковатый, ореховый.
Я вообще сладкое не люблю. Но хотелось руки чем-нибудь занять и рот занять, а, кроме этого миндаля мерзкого, нам ничего не поставили.
А Розамунда сидела с другой стороны и тоже ела миндаль. Всхлипывала и хрустела конфетами. Я понимаю, что это глупо выглядело, но на самом деле я чувствовал, что нас просто заставили быть вдвоём в одной спальне, железными крюками стянули. Надо было как-то барахтаться, чтобы не утонуть, в стыде, в злобе, в гадливости – кому в чём.
Мы ужасно долго так сидели. Часы на башне пробили четверть одиннадцатого, потом половину, а мы всё ели орехи и не могли больше ничего сделать.
В конце концов я сказал:
– Сударыня, я спать хочу. Я тут лягу на краю, ладно?
Похоть? Какая похоть?
Я чувствовал себя как каторжник в цепях. Или как узник в тюрьме. И бежать было некуда.
А Розамунда посмотрела на меня презрительно и говорит, ещё холоднее и ядовитее, чем раньше:
– Вы, значит, совсем не мужчина? Да?
Я проглотил злой смешок. И сказал:
– Вы решите для себя, сударыня, кто я – похотливая скотина или вообще не мужчина. А то нелогично.
Розамунда прищурилась и выпалила:
– А, так, значит, это вы решили надо мной поиздеваться? Показываете, что я вам не нужна? Так вот, не подумайте, что я желаю ваших ласк, сударь! Просто всё должно делаться по обычаю, если вы не помните. И иначе – я не знаю, какими глазами буду смотреть завтра на вашу мать.
– У вас что, – говорю, – несколько пар глаз?
Розамунда вздохнула устало, и глаза – единственная пара – у неё наполнились слезами, а я подумал, что можно было сарказм и приберечь для другого случая.
Она была нереально красива. И беззащитна. А я чувствовал себя злобной тварью. Нестерпимо хотелось это хоть как-то исправить, помочь ей, утешить – но я даже представить себе не мог как.
И сказал, смягчив тон, как мог:
– Да я ничего такого не имел в виду. Я же не слепой, вижу ваши неземные совершенства… и это… запредельное изящество.
Из неё на мгновение радость полыхнула, этакой вспышкой – р-раз и нет. Я подумал, что правильный комплимент вспомнил и что стоило свеч читать романы.
Я сейчас понимаю, что я тогда подтвердил ей, что у меня одна похоть на уме. Но тогда… слепым щенком я был тогда. Безмерно наивным.
Я ужасно долго расстёгивал крючки у неё на роброне, корсаж ей расшнуровывал, потом вытаскивал какие-то штуки, вроде тонких длинных гвоздей, у неё из причёски и думал, что камеристкам нелегко живётся. А Розамунда передёргивалась, если я случайно дотрагивался до её голого тела. А мне от её вздрагивания было как от ударов.
Я не мог это сделать, не прикасаясь – а прикасаясь, чувствовал себя палачом. Я уже понял, что ничего, называемого «утехами», не предвидится, что это будет неприятно и невесело. И не согреет нас. Что это будет не игра, а работа, причём тяжёлая и неприятная.
Потому что, если тебе нужно делать что-то против воли, это моментально превращается в работу. Даже любовь.
Дальше был затянувшийся кошмар. Розамунда не хотела, чтобы я её целовал, дёргалась, когда я пытался её обнять, и отчаянно старалась на меня не смотреть – но немедленно полоснула взглядом, как ножом, когда я попытался отступиться. Ей надо было. Ей приказано было довести обряд до конца, ей надо было стать дамой – и она собиралась стать дамой, несмотря на отвращение ко мне. Мне передалось её отвращение, мне было мерзко от собственной наготы, я был сплошное клеймо Тех Самых… и до сих пор дивлюсь, как вообще сумел довести ритуал до конца. И когда мы кое-как отработали эту кошмарную повинность, оставаться рядом не было сил. Я думаю, мы оба казались себе гадкими, как замаранные в чём-то. Я, во всяком случае, чувствовал себя грязным с головы до пят.








