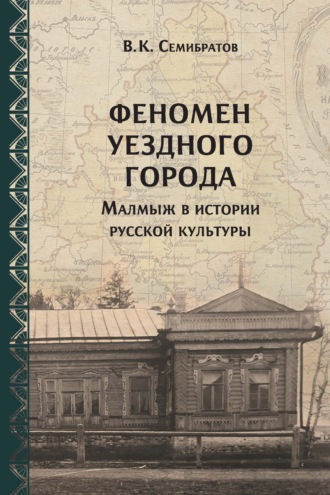
Полная версия
Феномен уездного города. Малмыж в истории русской культуры
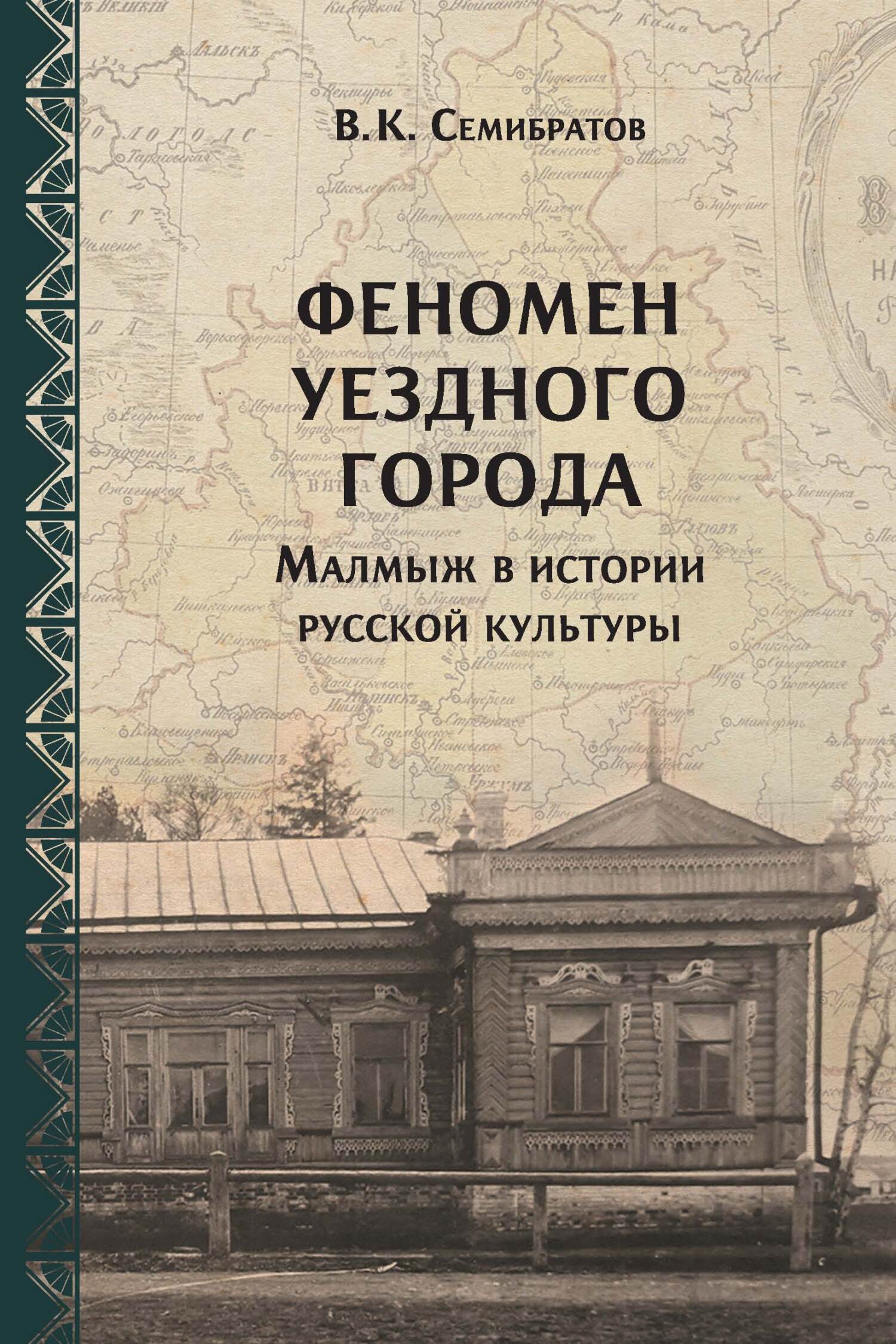
Владимир Константинович Семибратов
Феномен уездного города
Малмыж в истории русской культуры
© Семибратов В. К., 2021
© Издательство «Редкая птица», 2021
Введение
Где-то плещет Вятка,Шелестит камыш,И в истоме сладкойНежится Малмыж.Ни высок, ни низокЭтот городок.Путь отсель не близок,Но зато широк.Олег ЛасунскийВ первой половине 1980-х годов, вернувшись из Москвы, директор Малмыжского краеведческого музея Владимир Николаевич Липатников (1960–1990) рассказал автору этих строк о том, как познакомился в первопрестольной с Александром Васильевичем Карзановым (1932–2007). Услышав произнесённое в разговоре гостем столицы название маленького вятского городка, тот удивлённо воскликнул: «Как, вы из Малмыжа?!» И, обращаясь к коллегам по работе в редакции «Литературной газеты», радостно добавил: «Ребята, он из Малмыжа! Из самого Малмыжа!»
Возможно, известный фотокорреспондент знал о городе на Шошме по «нобелевскому» роману Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960) «Доктор Живаго». Или был знаком с Александром Александровичем Калягиным, волею судьбы родившимся в Малмыже, куда родители знаменитого актёра были эвакуированы в военное время из Москвы в числе других преподавателей Московского педагогического института. Может быть, имел представление о классике отечественной кинематографии операторе Юрии Анатольевиче Невском, чей жизненный путь начался в Малмыже в годы всё того же лихолетья. Или был осведомлён о печально известном Мултанском деле, интерес к которому не утихает до сей поры…
Как бы там ни было, эпизод запомнился. И захотелось рассказать как можно большему кругу людей о том месте, где сам автор этой книги появился на свет, где некоторое время жил и работал и интерес к истории и своебразию которого сопровождает его на протяжении почти полувека.
За это время накопилось огромное количество информации о городе, что изначально был столицей небольшого марийского княжества. После присоединения к России этих земель подчинялся Казани, пока в 1780 году не был переведён Екатериной Второй (1729–1796) в состав Вятского наместничества.
С 1796 года Малмыжский уезд прекратил своё существование, поскольку был поделён между двумя соседними уездами: Уржумским и Елабужским. Восстановившись в 1816 году, уезд стал третьим по площади после Глазовского и Слободского. В рамках именно этой максимальной территории и рассмотрена нами малмыжская земля, значительно уменьшившаяся в период советских преобразований и ставшая районом Кировской области.
Из-за необъятности темы хронологические рамки книги ограничены XVII – началом XX века, тем более что после 1917 года ситуация в стране коренным образом меняется, будучи полностью подчинена диктату новой власти. При этом Малмыж рассматривается не изолированно от окружающей местности, а в контексте её общего развития, поскольку практически все родившиеся в сёлах и деревнях уезда деятели из мира литературы, искусства, науки, образования так или иначе были связаны с городом на Шошме.
На явлениях, фактах и именах именно из этого мира и сделана попытка показать значение типичного провинциального городка для истории отечественной культуры. Отдельный разговор идёт в книге о Малмыже как центре развития населяющих округу татар, удмуртов и марийцев. Большое внимание уделено деятельности хозяев дворянских усадеб, подчас принимавших участие в эпохальных для страны собятиях и связанных родственными узами с деятелями государственного масштаба. Приведены фрагменты записок проезжавших по проложенному через город и уезд Сибирскому тракту российских и иностранных путешественников. Эти живые свидетельства, будучи опубликованы в различных изданиях, в немалой степени способствовали известности вятского городка.
Целью автора является также намерение развеять нелепые слухи и легенды, появившиеся с лёгкой руки несведущих рассказчиков, которым верят на слово даже почтенные авторы. К таковым относятся, например, россказни о посещении Львом Николаевичем Толстым (1828–1910) помещичьего парка в селе Савали в то время, когда им владели помещики Александровы, и тайном венчании в церкви села Дерюшево Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841).
В одном из размещённых в интернете разухабистых и полных нелепостей текстов чёрным по белому написано о пребывании в Малмыжском тюремном замке Александра Николаевича Радищева (1749–1802), Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881) и Иосифа Виссарионовича Сталина (1878–1953). При этом первый в Малмыж вообще не заезжал, о посещении вторым тюрьмы документальных подтверждений нет, а третьего везли в Сибирь совсем другим путём.
В ходе работы над книгой возникали те или иные вопросы и проблемы, разобраться в которых автору помогли, прежде всего, его земляки: Людмила Владимировна Толмачёва, Рауза Нурахметовна Сабирова (Малмыж), Владимир Александрович Слесарев, Елизавета Михайловна Янникова (Вятские Поляны), Владимир Алексеевич Ветлужских, Любовь Борисовна Ручникова (Уржум), Елена Николаевна Загайнова (Кирово-Чепецк), Вадим Григорьевич Долгушев, Владимир Сергеевич Жаравин, Галина Александровна Леванова, Тамара Константиновна Николаева, Сергей Иванович Самоделкин, Алексей Валентинович Сергеев, Павел Андреевич Чемоданов (Киров).
Посильную лепту также внесли: Андрей Владимирович Доронин, Валерий Анатольевич Журавлёв, Сергей Владимирович Кузьминых, Алексей Яковлевич Невский (Москва), Константин Маркович Азадовский (Санкт-Петербург), Алексей Леонидович Мусихин (Нижний Новгород), Людмила Яковлевна Григорьева (Йошкар- Ола, Марий Эл), Алексей Геннадьевич Комиссаров (Набережные Челны, Татарстан), Ольга Викторовна Чиркова (Глазов, Удмуртия), Роман Андреевич Лизогубов (Саратов), Надежда Александровна Бурдиян (Чита), Людмила Васильевна Ольховская (Полтава, Украина), Джамиля Ильгизовна Айтматова (Бишкек, Киргизия), Надежда Филипповна Сосинович (Тараз, Казахстан).
Любезно откликнулись на просьбу о переводе на русский текстов с английского, немецкого, итальянского, финского и японского языков: Олег Владимирович Теребов (Москва), Светлана Михайловна Бушмелева (Киров), Александра Александровна Бурхайло (Неаполь), Ильдико Лехтинен (Хельсинки), Коити Иноуэ, Кимитака Мацузато (Саппоро), Василий Элинархович Молодяков (Токио).
Всем вам, дорогие друзья, сердечное спасибо и низкий поклон!
Отдельная благодарность Нине Алексеевне Мальцевой (Киров).
Глава 1
Малмыж литературный
1.1. «Литературные» фамилии XVIII столетия
Первой «литературной» фамилией, связанной с Малмыжем, является Грибоедов. Именно её носил подьячий Алексей, который вместе со стольником Тимофеем Фёдоровичем Бутурлиным (?–1651) в 1646 году составил Переписную книгу Казанского уезда с описанием пригорода Малмыжа[1], имеющую исключительное значение для истории города и его населения.
До этого времени А. Грибоедов в 1633 году «с тихвинским игуменом Сергием собирали пятину у Выми Яренской (по поводу Смоленского похода)», в 1634–1635 годах – «подьячий в объездах на Москве»[2], где у него в 1638 году и был зафиксирован собственный двор.
Не исключено, что Алексей Грибоедов был в родстве с подьячим Казанского дворца, а затем дьяком Казанского приказа Фёдором Акимовичем (Иоакимовичем) Грибоедовым (ок. 1610–1673).
Служивший затем в Разрядном приказе, последний известен, в частности, тем, что по заказу царя Алексея Михайловича написал «Историю о царях и великих князьях земли Русской» и стал одним из тех, кто трудился над текстом важнейшего в истории России документа – Соборного уложения 1649 года. Ф.А. Грибоедов является предком писателя-классика Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829) по материнской линии, представители которой, относящиеся к другой ветви рода, носили ту же фамилию.
Любопытно, что происходившая из той же ветви родословного древа бабушка автора «Горя от ума»[3] по материнской линии Прасковья Васильевна Кочугова (Грибоедова) была двоюродной тётей писателя-демократа А. Н. Радищева. Почти через полтора столетия по пути в сибирскую ссылку «бунтовщик хуже Пугачёва» окажется в местах, население которых переписывал некогда подьячий Алексей Грибоедов.
Кстати, о Емельяне Ивановиче Пугачёве (17401775). Отряды мнимого императора тоже прошли по Малмыжской земле, двигаясь летом 1774 года от пермского города Осы через Ижевский и Воткинский заводы на Казань. Жаль, что, констатируя это в «Истории Пугачёва»[4], Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) не описывает маршрут пугачёвцев. Тогда, возможно, это не дало бы оснований автору исторического романа «Чёрный год» («Пугачёвщина») Григорию Петровичу Данилевскому (1829–1890) утверждать следующее:
«Путь от Осы до Узы [ныне село Узи Селтинского района Удмуртии. – В.С.] и до обоих Кильмезей [имеются в виду сёла Большая и Старая Кильмезь; ныне соответственно центр района Кировской области посёлок Кильмезь и село Троицкое Кильмезского района. – В.С.] был пройден без всякого отпора и преград. Везде самозванца встречали с хлебом-солью; сельские причты ожидали его у церквей с хоругвями, а чернь, выслушав от него указ о воле, присягала ему, целуя крест. Подошли к Малмыжу. Наутро готовились переправиться через Вятку»[5].
На несоответствие сказанного действительности не мог не обратить внимания непревзойдённый знаток местного прошлого Михаил Георгиевич Худяков (1894–1936). Критикуя это «фантастическое место»[6] романа в «Историческом очерке города Малмыжа», он указывает на то, что «Пугачёв шёл не по Сибирскому тракту, а стороною, и вступления “наутро” в Малмыж быть не могло»[7]. Наиболее реальным историк считает продвижение пугачёвского войска через вошедшие через несколько лет в Малмыжский уезд сёла Сюмси (ныне центр района Республики Удмуртия), Водзимонье (ныне в Вавожском районе Удмуртии), медеплавильные заводы Бемышевский (ныне село Бемыж Кизнерского района Удмуртии) и Пыжманский (позднее деревня Пыжман- Завод; ныне не существует)[8], близ которого, у села Сосновка (ныне город в Вятскополянском районе), и состоялась, как полагает учёный, переправа через Вятку с левого берега на правый[9].
В любом случае тогдашний «пригород Казанской губернии и провинции» Малмыж, находящийся «при реке Вятке, 140 вёрст от втечения ея в реку Каму»[10], разорению не подвергся. А если бы в него пугачёвцы вошли, то увидели бы то, что четырьмя годами ранее предстало очам адъюнкта Российской академии наук капитана Николая Петровича Рычкова (17461798). Это был достойный сын Петра Ивановича Рычкова (1712–1777), названного А. С. Пушкиным «нашим славным академиком», труды которого «ознаменованы истинной учёностию и добросовестностию – достоинствами столь редкими в наше время»[11].
В июле 1770 года путь Н. П. Рычкова, прославившегося своими путешествиями «по разным провинциям Российского государства», пролёг через Малмыж. В изданном вскоре в Санкт- Петербурге «Журнале, или Дневных записках» автор отметил:
«Наконец, прибыл я в пригородок Малмыш, стоящий на берегу реки Шошмы в трёх верстах от сего селения впадающей в реку Вятку. По словам Малмыжских жителей и по крепостям, данным их предкам для владения тутошними землями, пригородок Малмыш до взятия Казани был Черемисский город, в котором жил Князь Болтуш, владевший древними Черемисами. Сей Князь хотя и видел все области великия Татарии покоренныя Российской державе, однако ж не хотел добровольно подвергнуть народы свои под власть победителей: а сие принудило Царя Ивана Васильевича послать некоторую часть ратных своих людей, дабы наказать непокориваго Князя. По прибытии Российских войск Черемиса отвсюду собравшись дерзнули им сопротивляться; но видя превосходную храбрость сражающихся с ними людей, немедленно разбежались, оставив город во владение победителям, и при том лишившись своего Князя, поражённаго пушечным ядром. Черемисы погребли его тело на высокой горе, которая поныне Болтушевою горою называется:
и сим сохранена память имени сего владетеля. Видно, что княжеское жилище не имело никакого различия от простой черемисской деревни; ибо ни знаков бывшаго укрепления, ниже остатка каких-либо развалин и внутрь и вне пригородка не видно.
Когда тишина установлена была во всех завоёванных областях, тогда Малмыш отдан был во владение заслуженным стрельцам; и нынешние жители сего местечка суть их потомки. В пригороде Малмыше нет ни торжища, ниже зажиточных людей. Всё нынешнее поселение его составляют две деревянныя церкви и сто обывательских домов, в которых… живут пахотные солдаты и бедные купцы, не имеющие иного промысла, как только хлебопашество»[12].
Как заметил М. Г. Худяков, кратковременность пребывания Н. П. Рычкова в городе на Шошме не помешала ему «собрать первые исторические сведения о Малмыже. Записью устных преданий и рассмотрением старинных документов, не дошедших до нас, любознательный путешественник оказал ценную услугу малмыжской истории»[13].
И не только малмыжской. Не случайно рычковский текст кочевал затем из издания в издание, будучи повторяем авторами почти один к одному с тем, что было напечатано в «Дневных записках».
Так поступил, например, составитель «Словаря географического Российского государства…» князь Афанасий Михайлович Щекатов (ок. 1753–1814), дополнивший почти не изменённое описание малмыжского взятия данными о географическом положении безуездного на тот момент города Вятской губернии и расстояниях от него до Санкт-Петербурга, Москвы и Вятки, а также описанием герба[14].
Следом за ним, в 1810 году, также не боясь обвинения в плагиате, рычковские сведения о «заштатном городе Малмыше», что «в Уржумском уезде заключается»[15], использовал в своём «Землеописании Российской империи для всех сословий» известный географ и статистик, в то время ординарный профессор педагогического института в Санкт-Петербурге, Евдоким Филиппович Зябловский (1764–1846).
Благодаря широко растиражированной легенде о покорении Малмыжа «ничтожный в существе своём… уездный город» превратился в «знатный по событию». Не случайно именно эти слова, сказанные в 1845 году городским головой Корнилием Ермиловичем Сунгуровым (1835–1864)[16], взял эпиграфом к своему «Историческому очерку города Малмыжа» М. Г. Худяков[17].
Показательно, что отголоски предания будут фигурировать в литературе и по прошествии полутора веков с того времени, как оно было обнародовано Н. П. Рычковым. Яркий пример тому – путеводители по Вятке и другим рекам Поволжья[18]. А в издававшемся несколько раз в 1940–1950-е годы своеобразном путеводителе по «нанизанным» на главную водную артерию области районам кировский писатель-краевед Николай Фёдорович Васенёв (1906–1977) не только использовал рычковские сведения, но и не поленился процитировать записки адъюнкта Российской академии наук, правда серьёзно текст исказив[19].
1.2. Из окружения А. С. Пушкина
Появлению образа Малмыжа в литературе способствовала эпитафия Александра Ефимовича Измайлова (1779–1831)[20], помещённая в апрельской книжке журнала «Благонамеренный» за 1818 год:
Я русский дворянин,Родился я в Малмыже,Воспитан был в чужих краях. И ах!В России кончил дни! Но здесь мой только прах:Душа моя в Париже[21].Справедливости ради надо сказать, что иногда в компанию с городом на Сене и городом на Шошме попадал ещё один, расположенный в нижнем течении Вятки. Вот и получалось: «– Как, вы не знаете Малмыжа? На свете есть три всемирно известных города: Париж, Малмыж и Мамадыш»[22].
Произведение А. Е. Измайлова, как полагают, посвящено одному из Мосоловых, владевших заводом в селе Шурма Уржумского уезда. Строчка «Родился я в Малмыже» не случайна: она обоснована тем, что на протяжении двух десятилетий, с декабря 1796 по октябрь 1816 года, Малмыж с подчинённой ему территорией входил в состав Уржумского уезда.
Выходцы из семьи тульских оружейных дел мастеров, Мосоловы ещё в 1748 году сначала арендовали, а вскоре купили у одного из хлыновских купцов Шурминский медеплавильный завод[23]. После кончины в 1768 году главы семейства хозяином предприятия стал его младший сын Антипа Максимович Мосолов (1682–1778). Именно его упомянул в своих процитированных выше путевых записках Н. П. Рычков[24].
После кончины А. М. Мосолова Шурма перешла к его сыну Ивану-меньшему (?–1810), известному, в частности, своим библиофильским собранием. Ему принадлежала, например, напечатанная в 1644 году в Москве «Кириллова книга» («Книга иже во святых отца нашего Кирилла, архиепископа Иеросалимского, на осьмый век»), хранящаяся ныне в отделе редких книг Российской государственной библиотеки[25]. У И.А. Мосолова и его супруги Антонины Митрофановны (урождённой Еллинской) было четыре дочери и сын Николай, от имени которого, возможно, и излагается текст измайловской эпитафии. В 1812 году поручик Н. И. Мосолов (ок. 1782–1861) явился одним из тех, кто поставил своих крестьян в формировавшееся для борьбы с войсками Наполеона Вятское ополчение[26].
Журнал «Благонамеренный» имел непосредственное отношение к салону писательницы и переводчицы Софьи Дмитриевны Пономарёвой (1794–1824)[27], известному как Общество любителей словесности и премудрости. Не кто иной, как А. Е. Измайлов и руководил этим «полудомашнимполулитературным»[28] объединением.
Кстати, о содержании журнала «Благонамеренный» хорошо знал А. С. Пушкин, правда относившийся к изданию с большой иронией, что подтверждают следующие строки из третьей главы «Евгения Онегина»:
Я знаю, дам хотят заставитьЧитать по-русски. Право, страх!Могу ли их себе представитьС Благонамеренным в руках![29]Мало того: поэт даёт к выделенному им курсивом слову такое примечание: «Журнал, некогда издаваемый покойным А. Измайловым довольно неисправно. Издатель однажды печатно извинялся перед публикою за то, что он на праздниках гулял»[30].
«…Издавшийся… в 1818 по 1826 гг. журнал “Благонамеренный”, – замечает в комментарии к «Евгению Онегину» Ю. М. Лотман, – был мишенью насмешек Пушкина, Дельвига, Баратынского и Вяземского»[31].
Тем не менее те же Антон Антонович Дельвиг (1798–1831) и Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844) не считали зазорным печататься в «Благонамеренном», как и столь же широко известные в литературном мире Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797–1846), Александр Александрович Бестужев (1797–1837), Пётр Александрович Плетнёв (1792–1865/66), Владимир Иванович Панаев (1792–1859), Орест Михайлович Сомов (1793–1833)[32].
Возможно, журнал А. Е. Измайлова попадал и в руки Надежды Андреевны Дуровой (1783–1866), имя которой стало широко известно русскому обществу после появления в 1836 году её «Записок кавалерист-девицы» на страницах пушкинского издания.
Предваряя публикацию, великий поэт отметил: «С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным. Надежда Андреевна позволила нам украсить страницы “Современника” отрывками из журнала, ведённого ею в 1812–13 году. С глубочайшей благодарностью спешим воспользоваться её позволением»[33].
По сведениям священника и краеведа Николая Николаевича Блинова (1839–1917), когда Н.А. Дурова жила в Сарапуле, она из этого города «много раз отлучалась то в Малмыж к сестре, то в Елабугу и изредка в Петербург»[34].
Надо полагать, малмыжан «кавалерист-девица» так же шокировала своим видом, как и питерцев, например Авдотью Яковлевну Панаеву (1819–1893), в мемуарах которой читаем:
«Александрова уже была пожилая и поразила меня своей некрасивой наружностью. Она была среднего роста, худая, лицо земляного цвета, кожа рябоватая и в морщинах; форма лица длинная, черты некрасивые; она щурила глаза, и без того небольшие. Костюм её был оригинальный: на её плоской фигуре надет был чёрный суконный казакин с стоячим воротником и чёрная юбка. Волосы были коротко острижены и причёсаны, как у мужчин. Манеры у неё были мужские: она села на диван, положив одну ногу на другую, упёрла одну руку в колено, а в другой держала длинный чубук и покуривала»[35].
Под жившей в Малмыже сестрой имеется в виду Евгения Андреевна (в девичестве Дурова; 1790–?), вышедшая замуж за Михаила Феопемтовича Пучкина (?–1849). Будучи сначала мальчиком на побегушках у отца «кавалерист-девицы» Василия Андреевича Дурова (1752–1826), он «учился в училище, потом “писал” в полиции, где “усмотрел” его губернатор и увёз в Вятку. Там Пучкин дослужился до столоначальника и наконец назначен был стряпчим в Малмыж. Тогда он приехал в Сарапул и женился на дочери Дурова. По смерти ея, он служил вице-губернатором в Астрахани, оттуда, переезжая на губернаторство в Томск, дорогой умер»[36].
В одной из статей кировского краеведа Николая Александровича Горева (1921–1996) утверждается, что в Малмыже жил муж Н.А. Дуровой Василий Степанович Чернов[37], однако тезис этот аргументами, к сожалению, не подтверждён.
повествования говорится о том, как в крещении вятских марийцев-язычников принял участие мусульманин Девлет- Кильдеев. Будучи местным исправником, он получил за своё усердие от правительства перстень с бриллиантами. Поскольку описанные события происходили за несколько лет до прибытия писателя на Вятскую землю (в 1829–1830 годах), а описывались в мемуарах через много лет по памяти, неудивительно, что они ошибочно оказались датированы 1835 годом, перстень же превратился во… Владимирский крест.
«По несчастию, – пишет А. И. Герцен, – татарин-миссионер был не в ладах с муллою в Малмыже. Мулле совсем не нравилось, что правоверный сын корана так успешно проповедует евангелие. В рамазан исправник, отчаянно привязавши крест в петлицу, явился в мечети и, разумеется, стал вперёд всех. Мулла только было начал читать в нос коран, как вдруг остановился и сказал, что он не смеет продолжать в присутствии правоверного, пришедшего в мечеть с христианским знамением.
Татары зароптали, исправник смешался и куда-то спрятался или снял крест»[38].
Надо сказать, что интерес к живущим на территории северо- восточной губернии финно-угорским народам пробудился у А. И. Герцена вскоре по прибытии в Вятку. Не случайно он посвятил им опубликованные в «Вятских губернских ведомостях» статьи «Вотяки и черемисы»[39] и «О вотяках, черемисах и татарах Вятской губернии»[40] Несмотря на эпизодичность личного общения А. И. Герцена с удмуртами и марийцами, писатель, как показало время, создал труды, отличающиеся проницательностью наблюдений и основательностью выводов. Это касается, например, особого отношения марийцев- язычников к пятнице, считавшейся у них таким же священным днём, как воскресенье у христиан. В этот день особая честь воздавалась «пятничному богу – уишиян уму»[41].
Одним из тех этнографов-профессионалов, кто позднее подтвердил запечатлённое пером мастера художественного слова, был хорошо знавший обычаи марийцев член-сотрудник Императорского Русского географического общества С. К. Кузнецов. В работе «Черемисская секта Кугу Сорта», опубликованной в 1908 году в журнале «Этнографическое обозрение», он, например, отмечает: «Пятница у всех черемис издревле почитается. Равносильна нашему воскресенью и называется кугарня (т. е. кугу арня) – “великая неделя”, “большой недельный день”; к этому молению приурочены все крупные моления черемис в честь добрых богов…»[42].
На более раннюю работу С. К. Кузнецова – «Четыре дня у черемис во время сюрэма» – вскоре после её выхода в свет в 1879 году под эгидой Русского географического общества обратил внимание непревзойдённый мастер русского слова Николай Семёнович Лесков (1831–1895).
Основой 53-страничного этнографического очерка явился доклад, сделанный перед членами почтенной организации в декабре 1878 года. Со своими коллегами С. К. Кузнецов поделился свежими впечатлениями от «торжественного жертвоприношения в честь добрых богов»[43], которое ему довелось наблюдать в «Китяке – черемисской деревне на 29-й версте от города Малмыжа Вятской губернии, по елабужскому тракту»[44].
Найденные в издании ценные сведения Н. С. Лесков использовал в очерке «Епархиальный суд», впервые напечатанном под названием «Духовный суд» в трёх номерах газеты «Новости» от 12, 13 и 18 июня 1880 года.
В главе восьмой автор сетует на то, что «вера… наша, несомненно, страдает и подвергается самым ужасным, почти неслыханным в христианстве порицаниям не по влиянию “заносных учений”, на которые мы охочи всё сваливать, а по причинам, зависящим от устройства нашей церкви»[45]. В доказательство этого тезиса он приводит «недавно обнаруженный» им в исследовании С. К. Кузнецова «случай… чрезвычайно тяжелый и мучительный для сознания христианина»[46].

