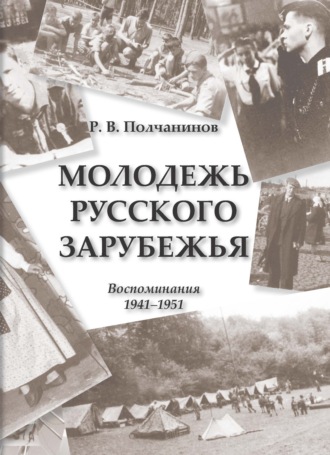
Полная версия
Молодежь Русского Зарубежья. Воспоминания 1941–1951
Женщина в Холме до вступления в НТС была членом БРП – Братства русской правды. Она на шее носила крестик с надписью «Боже, спаси Россию» и подарила мне такой же на память. Она была украинкой, как и большинство жителей Холмщины, но, как и многие, считала себя русской. Холм был захвачен в 1939 г. советскими войсками, но только на короткое время. По договору Холм должен был быть под немецкой оккупацией. Большевики, кажется, не успели никого арестовать, во всяком случае, ее не тронули. Она познакомила меня с Машей Олесюк, из семьи, считавшей себя русской. Я пригласил ее в русский летний лагерь, но она сказала, что не может, так как если об этом узнают школьные власти, то будет скандал. Она училась в украинской школе, где велась полуподпольная работа украинских пластунов (скаутов). Она показала мне свою тетрадку, в которой рисовала знакомые мне узлы и дорожные знаки. Она показала мне журнал, издававшийся типографским способом в Львове для украинской молодежи в Генерал-губернаторстве. На обложке был мальчик с треугольным флажком, похожим на скаутские звеновые флажки, только без изображения зверя. Одним словом, под каким-то безобидным названием украинские скауты вели свою работу, как и мы, русские, только мы вели ее в более скромных масштабах. В Галиции и на Холмщине проживало несколько миллионов украинцев, и церковь и общественность поддерживали деятельность пластунов.
Маша была немножко поэтессой. Она перевела на украинский стихотворение Лермонтова «И скучно и грустно…»:
I скучно i сумно, i нiкому руку податиВ хвилини для щастя пропащi.Бажання? I пощо даремне i вiчно бажати?Лiта ж проминають – лiта що найкращi!Любити? Кого ж i на скiльки? На рiк, чi на два,Не варто трудитись, а вiчно любити не сила.Мне очень понравился и перевод и то, что девушка любит поэзию, и особенно Лермонтова. Я записал перевод под ее диктовку. Ей было приятно, что взрослый человек заинтересовался ее творчеством, но на мое письмо она не ответила. Вероятно, не хотела связываться со «стариком», хотя мне было тогда только 23 года.
В годы польского правления на Холмщине поляки разрушили много православных церквей, а некоторые переделали в костелы. Так, в Холме был переделан в костел православный собор, который немцы вернули православным. Там служил архиепископ Илларион (Огиенко), и служил не по-церковнославянски, а по-украински. Когда кончилась литургия, хор запел украинскую молитву: «Боже Великий, Творче всесвiту, На нашу рiдну землю поглянь! <…> Люд у кайданах, край у руiнi, Навiть молитись ворог не дасть… Боже Великий, дай Украiнi Силу i славу, волю i власть».
Моя спутница потом рассказала, что многие православные, не желая посещать украинское православное богослужение, стали ходить к униатам, которые продолжали служить по-церковнославянски.
Наш член НТС в Перемышле рассказал мне, как в 1939 г. город был разделен на две части. Та часть, которая оказалась под немецкой оккупацией, была названа Deutsch Pschemisl (Немецкий Перемышль), хоть он и не был присоединен к Германии, а только входил в состав Генерал-губернаторства. Он же рассказал мне, что, когда ему выдавали советский паспорт и он сказал, что он по национальности русский, то милиционер ему по-дружески посоветовал сказать, что он украинец, чтобы не попасть «к белым медведям».
Ни в Перемышле, ни в Львове я с русской молодежью не встречался.
Одним из дел, которые поручил мне Мартино, было поддерживание связи с подпольными харцерами. Мы поехали вместе к польскому руководителю Тадеушу Квятковскому, с которым Борю Мартино познакомил Женя Поздеев. Он хоть и был русским, но до войны работал в Варшаве c харцерами и знал Квятковского по харцерской работе.
Для курса для руководителей нам надо было достать кое-какую польскую харцерскую литературу, и я отправился к Квятковскому узнать, чем бы он мог нам помочь. Друг Тадеуш (харцеры обращаются, как принято у поляков, друг к другу в третьем лице, называя друг друга «druh» или «druhna»), дал мне адрес книжного магазина, где можно купить харцерскую литературу, и научил меня, как спросить и что отвечать хозяину. Магазин находился на маленькой улочке, выходившей на Театральную площадь. Там я должен был незаметно спросить: «Могу ли купить Harcerstwo dla сhłopco’w – польский перевод Scouting for Boys)»? Продавец, конечно, скажет, что таких книг он не продает, на что я должен был ответить, что пан Тадеуш сказал, что у него такую книгу можно найти.
Я сразу поехал в указанный магазин, спросил, как мне было сказано, и получил предусмотренный ответ. Я, разумеется, сослался на пана Тадеуша, и торговец сказал мне так, чтобы никто не слышал, что такие книги он не имеет права продавать, а употребляет их для разжигания в печи огня, и чтобы я посмотрел в мусоре, может быть, там случайно найдется нужная мне книга. Я так и сделал и под щепками, дровами и мусором обнаружил растерзанный экземпляр «Харцерства для хлопцув» без первых и последних страниц. Я незаметно показал хозяину книжку и спросил: «Ile kosztuje?» (сколько стоит).
Хозяин назвал мне смехотворно низкую цену. К тому времени я уже знал варшавские порядки, что если на газете написано 20 грошей, то платить надо 2 злотых. Я дал хозяину 10 злотых, и, поблагодарив, хотел уйти, но он не отпустил меня, не дав сдачи.
Несколько дней спустя я отправился в тот же магазин в поисках книги по саперному делу и спросил книгу «Pionerka harcerska». Хозяин меня встретил так, как будто бы видит меня в первый раз. Я снова должен был упоминать пана Тадеуша, а хозяин снова мне объяснял, что он таких книг не держит и т. д. Я пошел снова к печке искать книгу в мусоре, но книги не оказалось. Там снова лежало «Харцерство для хлопцув». Я решил купить книжку, дал хозяину деньги, но сказал, что мне нужна «Пионерка харцерска». «Проше пана, – сказал хозяин, – заходите в другой раз».
Через несколько дней я снова пришел в магазин и на этот раз нашел нужную мне книгу. Pan mial szczenscie (Пану повезло), сказал мне хозяин, будто бы он не отложил эту книгу специально для меня.
Трудно поверить, но в оккупированной Варшаве в одном магазине на витрине были выставлены среди прочих мелочей и харцерские лилии, и маленькие харцерские кресты для штатского, и металлические зажимы для галстуков с лилией посередине.
Эта статья была проверена и дополнена Ольгой Сергеевной Астромовой (ур. Безрадецкой), Михаилом Викторовичем Монтвиловым и Татьяной Николаевной Юнг (ур. Кашниковой), за что им автор приносит им глубокую благодарность.
15. Лагерь в Свидере
Лагерь в Свидере в 1942 г. был устроен в той же усадьбе Соловьювка, где и предыдущий лагерь в 1941 г. Это было большое двухэтажное здание. На втором этаже жили лагерницы, а на первом были кухня, столовая и жили младшие лагерники. Этот дом, как и ряд других, был национализирован немцами, и пустовавшими дачами заведовал А. А. Соллогуб55. В лагере в 1942 г. были не только Варшавская дружина, но и одиночки, и дети, и молодежь, не состоящая в дружине. Это, конечно, создавало некоторые неудобства для проведения занятий с лагерниками и отрицательно влияло на дисциплину.
Начальником лагеря официально был начальник Дома молодежи Шнее, но он руководство лагерем полностью передал Мартино и не мешал проводить разведческую работу. Меня Шнее назначил начальником мужского лагеря, или, как у нас говорили, «мужлага», начальницей «женлага» была Маргарита (Рита) Сагайдаковская, а начальницей волчат и белочек И. Блюмович. С новичками проходили III разряд, с разведчиками и разведчицами, сдавшими III разряд раньше, проходили II разряд, а с некоторыми и КДВ (курс для вожаков). С более старшими – КДР (курс для руководителей). Участниками V KДP были: Маргарита (Рита) Сагайдаковская, Татьяна Кашникова (р. 1925), Любовь Любарская, Владимир Кашников, Борис Мерхель, Александра Попова и Юрий Саватюк, а инструкторами, кроме Мартино и меня, были Евгений Евгеньевич Поздеев и Шнее. Подготовка вожаков и руководителей для послевоенной работы входила в планы ушедшей в подполье организации разведчиков, возглавляемой О. И. Пантюховым.
У старших, объединенных в круг витязей «Запорожская сечь», был лагерь из четырех палаток, в которых они ночевали, с воротами с лилией, буквами «З.С.» и надписью «Будь готов». В этом лагере была общая мачта и место для лагерного костра. У волчат и белочек был свой лагерь, с одним шалашом, со своей мачтой, воротами и оградой, где они днем играли. Ночевали они в доме. Разведчицы имели за дачей одну свою палатку, без ограды, ворот и мачты. Беседка, как и в 1941 г., была превращена в часовню. По воскресеньям в лагере совершал литургию всеми любимый о. Серафим Баторевич.
Ольга Сергеевна Безрадецкая (в замужестве Астромова), которой в 1942 г. было 13 лет, так вспоминает лагерь: «Для меня это было что-то незабываемое. Мы готовились к этому лагерю на сборах в Доме молодежи. Усердно занимались разрядами и прошли что-то вроде КДВ – курса для вожаков. В лагере мне дали звено «Ромашка», чем я была неимоверно горда. В комнате, где мы жили, мы сделали звеновой уголок, за который нас потом очень хвалили. В палатках жили какие-то старшие разведчики, и мы им очень завидовали. Жить в палатках казалось верхом скаутского достижения. Обожали мы ночные игры и подкрадывания, хотя и боялись темноты»56.
Для Мартино лагерь в Свидере был шестым лагерем, которым он руководил. Он знал, что и как надо делать. Для большинства лагерников это был только второй или даже третий лагерь, но именно этот произвел на них самое сильное впечатление.
В постройке «Голливуда» (полевой уборной) для разведчиков особой надобности не было. В доме на каждом этаже было достаточно уборных, но полевая уборная, так же как и ночевка в палатках, создавала впечатление жизни в настоящем разведческом палаточном лагере. Вожаки и руководители, которые на курсах изучали лагерное дело, должны были иметь кроме теории и необходимую практику.
Для подготовки югославских руководителей М. В. Агапов-Таганский и И. А. Гарднер (1898–1984) провели в 1924 г. первый КДР под девизом БКС – «Будем как солнце!». Мартино и я окончили югославянские БКС курсы, Мартино в 1934 г., а я в 1935 г., и мы вернули русской организации все то, что было заложено в этих курсах русскими руководителями и сохранялось затем югославянскими скаутами, в том числе и юмор. Астромова в упомянутом письме писала: «Запомнилось торжественное открытие мужского “Голливуда”. Для всех лагерников это было неожиданным и смешным происшествием. Вход в “Голливуд” преграждала веревка с нанизанными на нее кусочками газеты, употреблявшимися в те годы не только в лагере вместо туалетной бумаги. Вместо флага, по случаю открытия, были подняты чьи-то кальсоны. Мартино сказал остроумную речь, разрезал ножом веревку и скрылся за стенкой, сделанной из веток».
В прошлых лагерях руководители годились лагерникам в отцы, к ним обращались «на Вы» и звали их по имени и отчеству. Между Мартино, мной и лагерниками не было такой разницы в годах. Вот что написала Астромова в своем письме: «Костры были чем-то совсем новым и очень интересным. Помню, как Борис Мартино пел: “Перепетуя, глянь в окошко, как чудно при луне”. Помню, как долго, меняя интонации, повторял слова “Путник клянется”, держа нас в напряжении, чтобы вдруг закончить все простой фразой: “что никогда больше не выйдет в бурю без зонтика”. Помню “Короля Лира”, поставленного разведчиками. До сих пор не понимаю, как мы могли жечь костры при полном затемнении».
Если бы это от нас зависело, и Мартино и я, мы бы обедали вместе с лагерниками, но в лагерях в Свидере всегда руководители ели отдельно, и мы этого не смогли изменить. А жаль. Об этом Астромова там же писала: «Постоянно заметна была и обижала разница между начальством и нами, детьми. Все руководители сидели за отдельным столом и никогда к нам не присаживались».
И еще одно замечание Астромовой: «Сердила меня надпись ГУЛАГ на дверях штаба лагеря – последней в коридоре комнаты на нижнем этаже, которую я не понимала. С трепетом входили мы в эту комнату, робея перед начальством».
«Кормили нас по тем временам, – продолжает Астромова, – благодаря стараниям А. Шнее – прекрасно. Каждому в день полагалось яйцо. Мы, девочки, обычно просили выдать нам сырое, получали ложку сахара и в “мертвый час” сбивали гоголь-моголь. Еда в военное время была важным для детей явлением». Собственно говоря, «мертвый час» в лагерях был установлен для того, чтобы после обеда лагерники отдыхали. Можно было читать, но не разрешалось что-нибудь делать, даже разговаривать. За порядком следили дежурные, но в лагере было более ста человек, и за всем было трудно углядеть.
В лагере разведчиков под мачту никого не ставили, никаких выговоров перед строем не делали, а делалось так, как было в разведческих лагерях в Югославии. Провинившиеся должны были подписывать «конкордат». Этот порядок был заведен в лагере в Шуметлице (Югославия, ныне Хорватия) в 1937 г. Тогда в Югославии были ожесточенные споры насчет подписания конкордата (договора) между Югославией и Ватиканом. Это слово у всех было на слуху. «Конкордат» был кусочком бумаги, на котором провинившийся должен был расписаться и потом его «искупить». В Шуметлице чаще всего провинившихся посылали в помощь дежурным принести хворост на кухню. Я обычно обращался к провинившимся с вопросом, кто из них хочет «искупить» конкордат, не говоря, в чем будет заключаться внеочередная работа. Провинившиеся охотно откликались, над ними солагерники по-дружески подсмеивались, и это создавало у всех хорошее настроение.
В многолюдном лагере в Свидере провинившихся было больше, а мелких дел меньше. Я решил «конкордатчиков» посылать вне очереди работать на кухню. Там каждый день работало два дежурных звена, одно разведчиков, другое разведчиц. Как только собиралось достаточное количество провинившихся, я объявлял о внеочередном дежурстве. Однажды маленький Сережа Грязнов пожаловался мне, что старшие «конкордатчики» эксплуатируют младших. Я проверил жалобу у нанятых Русским комитетом работниц кухни и, узнав, что жалоба обоснованна, в следующий раз назначил Сережу вожаком звена «конкордатчиков», пригрозив старшим последствиями, если не будут подчиняться назначенному мною вожаку.
Кухарки отозвались очень похвально о Сереже, сказав, что при нем мальчики лучше работают, чем бывало прежде. Я это учел и в следующий раз снова назначил его вожаком. На кухне был порядок, но пошли жалобы на поведение Сережи. Он стал слишком шаловливым, слишком часто попадал на кухню вне очереди и ничуть не огорчался. Наоборот, он сделал себе повязку, на которой нарисовал череп и кости, и объявил себя начальником легиона смерти. Старшие его стали бояться больше, чем меня. Я его как-то пристыдил, что он слишком часто подписывает «конкордаты», а он мне признался, что ему понравилось быть начальником и командовать старшими. Из него вышел бы хороший руководитель, если бы он не утонул в 1949 г. во время купания в Дунае.
Дима Скоробогач, который приехал в лагерь новичком и сдал в лагере III разряд, вспоминает, что наказывали не только работой вне очереди на кухне, но и оставляли без купания. Это делалось, конечно, в более серьезных случаях. Дима тогда сочинил такие слова: «В нашем Свидере беда: / Без купания всегда, / Потому что без воды / И ни туды, и ни сюды»57.
Дима вспоминает, что в лагере была «революция», вернее, «День младших», и тогда он был начальником «Мужлага», а Ляля Сагайдаковская начальницей «Женлага».
В Югославии в лагерях была игра, называвшаяся «революцией». «Заговорщики» иногда готовили ее так хорошо, что некоторые ребята думали, что действительно готовится какой-то переворот. Были и листовки, и арест начальства, и суд с обвинениями, причем ребята в шутливой форме говорили начальству о том, что им в лагере не нравилось. Делалось это в лагерях, в которых было по 30–40 человек. В Свидере же было более сотни, к тому же не очень дисциплинированных. Мы с Мартино решили, что устраивать революцию слишком рискованно, и решили устроить День младших. На это решение имел влияние и наш опыт с Сережей Грязновым, который на кухне прекрасно справлялся с ролью начальника.
Из-за одного крупного нарушения дисциплины у Бориса вышел скандал, о котором Войцеховский написал в своих воспоминаниях на с. 58: «В Свидере, к сожалению, он проявил крайнюю несдержанность с молодой участницей лагеря». Было расследование, но лагерники об этом не знали. После лагеря и Мартино и я были уволены с работы в Доме молодежи, и нас предупредили, чтобы мы не вздумали под каким-нибудь видом собирать молодежь.
Я думаю, что скандал Мартино с лагерницей был поводом, а не причиной. Дело в том, что любая скаутская деятельность была нацистами запрещена, в Свидере же на лагерных воротах красовались лилия и надпись «Будь готов». Однажды в лагерь неожиданно приехала какая-то немецкая комиссия, которая не могла не заметить скаутской символики. Думаю, что это было настоящей причиной того, что в следующем году лагерь, по выражению Войцеховского, «из скаутского стал детским» (там же). Думаю, что все было бы иначе, если бы Войцеховский предупредил Мартино не пользоваться скаутской символикой. Это было ошибкой, и ему, вероятно, пришлось выслушать выговор от немецкого начальства. Предупреждение, чтобы мы не вздумали вести подпольную разведческую работу, подтверждает эту догадку.
Как было сказано выше, в лагере велась нормальная работа с волчатами и белочками (мальчиками и девочками 7–10 лет), со старшими были занятия по программам III и II разрядов, а также КДВ и КДР. На КДВ помню Протасова, которому я потом передал работу с одиночками, а на КДР инструкторами были, кроме Бориса и меня, Евгений Евгеньевич Поздеев и Шнее, который преподавал топографию. КДР в Свидере и КДР в Берлине, которые проводились одновременно, был дан пятый номер. Шнее так увлекся разведчеством, что вступил в организацию.
Покидая Хорватию, благо не было осмотра багажа, я взял с собой запас разведческих лилий. Перед отбытием из Берлина я их оставил у Володи (Владимира Исаакиевича) Быкадорова с просьбой одну часть отправить с оказией в Варшаву. Полученных от Быкадорова значков было немного, и мы решили заказать новые. Для этого я снова обратился к Тадеушу Квятковскому с просьбой помочь. На этот раз Тадеуш не снабдил меня адресом, а взялся сам все устроить. У меня с собой была карпато-русская лилия, у которой «улыбка» с девизом не касалась кончиков лепестков и не имела «узелка доброго дела». Я ее дал Тадеушу с просьбой прибавить węzelek (вензелек, по-польски – узелок).
Первый десяток значков оказался без «узелков», потому что мастер забыл их прибавить к лилии. Так как он выпиливал каждый значок вручную, то выход из положения был найден таким образом, что мастер оставлял вместо «узелка» под «улыбкой» узенький треугольник, заменявший забытый им «узелок». По этой детали подпольные варшавские лилии отличаются от всех других, чеканившихся до и после. Заказ разведческих лилий, сделанных в одной подпольной польской мастерской, оплатил Шнее.
Б. Б. Мартино, выждав какое-то время, стал осторожно продолжать разведческую работу в Варшаве, но на этот раз без прикрытия Дома молодежи, что, конечно, усложняло дело. Как вспоминает Астромова, участница подпольной работы, «собирались в лесах варшавских пригородов, как Лесьна Подкова или Миланувек, небольшими группами с формами в кульках. В лесу переодевались. Иногда встречались с проведшими такую же процедуру подпольными харцерами, делая вид, что друг друга не замечаем». И у одной и у другой стороны были основания бояться провокации.
Оставшись без заработка, ни Борис, ни я не остались без денег на продовольствие. Помог случай. Борису дали адрес зубного врача, который оказался председателем Хорватского комитета в Варшаве. Доктор (забыл его фамилию) спросил Мартино, почему он не состоит в Хорватском комитете, что дало бы ему право получать немецкие продовольственные карточки. Немцы и хорваты, которые были их союзниками, получали в Генерал-губернаторстве двойные нормы мяса и папирос, и к тому же конфеты и водку. За водку и папиросы можно было получить более ста злотых, и на эти деньги купить все остальное. Все это продавалось в магазинах «Мейнл», чьи витрины были украшены, как вызов, всевозможными недоступными полякам и русским яствами. Мы, конечно, воспользовались этой возможностью и записались в Хорватский комитет.
Мартино остался в Варшаве до 1944 г., когда ему пришлось выехать в Германию в связи с восстанием в Варшаве, а я в начале 1943 г. при помощи НТС устроился преподавателем Закона Божья в Псковскую православную миссию.
16. Псков
1943 г
ПриездЯ приехал в Псков из Риги в марте 1943 г. При выходе из поезда я должен был показать удостоверение личности и пропуск через границу прифронтовой полосы (Operationsgebiet). У меня было все в порядке, но проверявшему показалось что-то подозрительным и он вызвал жандарма. Вызванный был в форме немецкого солдата, только немножко ниже воротничка у него на цепочке висела металлическая пластинка с надписью «фельджандарм». Он посмотрел на мое варшавское удостоверение и спросил меня, откуда я приехал. Я ответил, что из Риги.
– А где ваш паспорт? – спросил меня жандарм.
Я сказал, что кроме варшавского удостоверения у меня никаких других удостоверений нет.
Идем со мной, сказал мне жандарм и отвел меня в тюрьму. Там он и начальник тюрьмы объяснили мне, что для приезда в Псков у меня должен был быть советский паспорт, как у всех жителей Прибалтики, и объявили мне, что я не арестован, но должен буду переночевать в тюрьме, пока они не выяснят, в чем дело. На следующий день они меня отпустили.
У меня было направление к о. Георгию Бенигсену, настоятелю кладбищенской церкви св. Димитрия мироточивого в поле. Отец Георгий проживал в доме напротив кладбища в конце Петровского (в советское время Плехановского) посада. Дорога была неблизкой, а трамвая не было. Немцы не только в Пскове, но и в других оккупированных советских городах лишали население общественного транспорта, чего не делали ни в одной другой оккупированной стране. Я шел, смотрел по сторонам, слышал везде русскую речь и радовался, что я в России. Постройки городского типа вскоре прекратились и начались деревянные домики, которых я раньше нигде не видывал. Вот тут-то я впервые почувствовал себя на родине. На спине у меня был рюкзак и обе руки были заняты багажом. Я очень устал. Отец Георгий был предупрежден о моем прибытии. Он меня очень радушно встретил, сказал, что давно ждал себе помощника, накормил обедом и тут же обсудил со мной все дела. В доме, где жил о. Георгий, размещались приют, школа, Надежда Георгиевна Одинокова, которая заведовала приютом, ее сестра Зинаида и Анна Акимова, на которой держалось все хозяйство. Поручив меня Надежде Георгиевне, о. Георгий ушел по своим делам.
Надежда Георгиевна указала мне, куда сложить вещи и где я буду ночевать. К сожалению, в доме свободной комнаты не было, и мне надо было устраиваться в городе. На следующее утро я пошел в умывалку и тут познакомился с замечательным изобретением советского времени. Проточной воды в умывалке не было, но над каждым тазом была банка с отверстием внизу, которое закрывалось клапаном, от которого спускался вниз металлический стержень. Когда приподнимался стержень, из отверстия начинала течь вода. Позавтракав, я пошел в канцелярию Псковской православной миссии, которая находилась в кремле. Мне сразу выдали необходимые бумаги и составили «заявление» для Горуправления о выделении жилплощади. В «капстранах» полагалось писать «прошение», но советское правительство в целях пропаганды делало вид, будто бы граждане – «хозяева» страны и они ничего не должны просить, а только заявлять о своих желаниях. Все это мне было известно еще в Югославии, когда я проходил НТСовский курс национально-политической подготовки.
В Горуправлении мне сразу дали ордер на комнату и «прикрепили» меня к эстонской столовой. Она находилась на втором этаже дома, где на первом этаже была аптека, что на углу Великолуцкой (в советское время – Советской) и Профсоюзной (как при немцах официально именовалась Профсоюзная, не помню). Если не ошибаюсь, то немцы переименовали улицу Ленина в Adolf Hitler Strasse, а Октябрьский проспект в Pleskauer Hauptstrasse (Плескау – по-немецки Псков), a всем другим вернули их дореволюционные названия. Псковичи старыми названиями не пользовались, а продолжали употреблять привычные советские. Почему столовая называлась эстонской, я тоже не знаю. Там столовались служащие миссии, приехавшие в Псков, за редким исключением из Латвии, и местные жители, работавшие в Горуправлении или отделе немецкой пропаганды. Возможно, что там столовались и служащие других учреждений, но знаю точно, что на служащих ветеринарной лечебницы эта привилегия не распространялась. Кормили прилично, лучше, чем в берлинских ресторанах, где мне пришлось питаться в начале 1942 г. Подавали только обеды, а на завтрак и ужин выдавали продукты.

