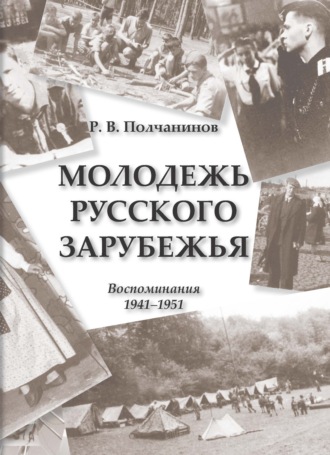
Полная версия
Молодежь Русского Зарубежья. Воспоминания 1941–1951
Я двинулся в путь 17 мая и решил использовать поездку для восстановления связи с Загребским отрядом, где кроме двух звеньев разведчиков и звена старших разведчиц была еще и стая волчат и пчелок (мальчиков и девочек 7–10 лет) и для посещения одиночек. Вместо того чтобы поехать прямо в Загреб, я поехал сперва в Яйце, где у нас была группа одиночек.
Разгром Югославии болезненно воспринимался русской эмиграцией, и хотя в продолжительность германско-советской дружбы никто не верил, у всех было подавленное настроение. Родителям я сказал, что, конечно, ни о каком лагере не может быть и речи, что я сейчас еду в Загреб, где надеюсь узнать немного больше о том, что теперь будет с русскими в Хорватии. Я старался поднять дух, говорил о необходимости не терять связи и о том, что надо во что бы то ни стало сохранить нашу разведческую организацию, конечно, под новым названием и не в том виде, в каком она существовала до войны.
Если мы в Сараеве чувствовали себя отрезанными от всего мира, то в маленьком боснийском городке Яйце подобное чувство ощущалось еще сильней. Мальчик и девочка 12–13 лет делились со мной своими военными переживаниями. Война так быстро прокатилась через их город, что они не успели ее по-настоящему осознать. Жизнь входила в нормальную колею, и все были целиком заняты починкой военных разрушений.
Поговорив с одиночками и их родителями, я двинулся дальше в Мрконич-Град, которому хорваты вскоре вернули его старое имя – Варцар-Вакуф. Там жила Таня Балабанова, вожак банялукского звена «Василек». Раньше из Яйце в Мрконич-Град можно было проехать автобусом, но оказалось, что он больше не ходит. Вместо него, да и то не в Мрконич-Град, а в какой-то городок поблизости, можно было проехать в телеге. Я решил, что это хоть и не лучший, но все же выход из положения, и занял место.
Почему телега не шла до самого Мрконич-Града, я узнал уже от спутников. Оказалось, что Мрконич-Град находится в зоне итальянской оккупации, в то время как Сараево и Яйце были в немецкой зоне. Для перехода границы между зонами нужно было какое-то специальное разрешение. Его у меня не было, но я решил планов не менять, а положиться на авось. Дело было не в молодости и легкомыслии, а в отсутствии ощущения, что настали иные времена.
Дорогу преграждал шлагбаум, около которого была будка с берсальерами. Я показал им немецкий пропуск и они, сказав что-то по-итальянски, позволили мне идти дальше. Тогда я вынул фотоаппарат и жестом попросил их встать перед их будкой, перед которой они из камушков сложили знак фашистов, нацистскую свастику и сделали по-итальянски надпись «ось Рим–Берлин». Мы поулыбались друг другу, и я пошел своей дорогой. Ни они, ни я еще толком не знали, что такое война. Подумать только, что они пропустили человека с фотоаппаратом, не зная, ни кто он, ни зачем и куда он идет. Они говорили только по-итальянски, а я по-итальянски говорить не умел. Вскоре я оказался в Мрконич-Граде у Балабановых. Мать Тани была сербкой, говорившей по-русски. Долго я не задерживался, так как телега в Баня-Луку шла по расписанию, и я не смел опоздать. Разговор был примерно таким же, как и в Яйце.
Я прошел мимо берсальеров, помахав им бумажкой, но тут же меня встретили немцы. Я им показал немецкий пропуск, а они спросили меня, как я оказался в итальянской зоне. Я им сказал, что у меня были неотложные семейные дела. Разговор затягивался, и я им наконец сказал, что мне негде ночевать и что пусть они меня либо арестуют, либо отпустят в Баня-Луку. Немцы решили меня отпустить, обругав итальянцев крепкими сербскими словами, которые они уже успели выучить, за то, что у них царит беспорядок. А в Мрконич-Граде мне говорили, что итальянцы хорошие люди и что они не позволяют хорватам-усташам обижать мирное сербское население.
В Баня-Луке я поделился новостями с некоторыми из родителей, от которых узнал, что хорваты, воспользовавшись тем, что во время бомбардировки бомба слегка повредила православный собор, приказали его разрушить. На следующий день я пошел посмотреть на рабочих, которые кирками ломают стены собора, и не удержался, чтобы не сфотографировать. Сделал я это из-за угла, оглядевшись перед этим по сторонам.
В Загребском университете были со мной не очень ласковы. Меня стали стыдить, что я из хорватской Боснии ездил в университет к сербам. Я стал оправдываться, что в Загреб надо было ездить с пересадкой в Славонском Броде, а в Белград было ближе, дешевле и без пересадки.
Служащий, рассматривая мои документы, и увидя, что я «рус», сказал: «Все понятно, греко-восточник и тянулся к своим “влахам” (оскорбительная кличка для православных-сербов), впрочем, пишите молбу (прошение), а мы там посмотрим».
29 мая меня приняли в университет с условием предъявить свидетельство о рождении и аттестат зрелости. В Загребе я пробыл примерно десять дней. У меня было много разговоров со старшими о будущей работе. Я предложил оформить работу с детьми под названием «Национална младеж руске колоние», скрывать связь с разведческой организацией и делать вид, что вся работа ограничивается только Загребом и не преследует никаких особых целей.
Предъявив разрешение на поездку из Сараева в Загреб и обратно, я вместо билета в Сараево взял билет до Осека, хотя он мне и не был по пути. Нечто подобное можно было сделать только в мае 1941 г., до начала партизанщины. Людям тогда казалось, что после военного урагана все постепенно возвращается к более или менее нормальной жизни.
Последний раз я был в Осеке осенью 1940 г. Тогда я основал там два звена: «Амурский тигр» из младших ребят и звено (не помню названия) из старших. Младшее звено собиралось регулярно, а старшее распалось после отъезда вожака в Суню. Поэтому я пошел прямо к «Амурским тиграм» и нашел их в полном смятении. Устроив сбор звена, я узнал, что ребята, как только пришли немцы, сожгли звеновой флажок, литературу и все, что могло свидетельствовать о том, что они были когда-то разведчиками. Я им сказал, что «не так страшен черт, как его малюют», рассказал, что и как мы делаем в Сараеве и Загребе, что, конечно, лагеря в этом году мы не сможем устроить, но что в будущем году его обязательно устроим.
У ребят разгорелись глаза, все стали оживленно говорить, и тут-то Овсянников, помощник вожака, сказал, что он ни «Третий разряд», ни песенник, ни наши журналы не сжег, а спрятал в тюфяк.
Я сказал, что прятать ничего не надо. Тот, кто что-то прячет, тем самым признает, что делает что-то недозволенное. Надо только разведческую литературу держать подальше от чужих глаз, а в случае чего признаться, что до войны состоял в разведческой организации, которой теперь больше нет, а журналы остались, и в этом нет ничего плохого. Я похвалил Овсянникова, а он так растрогался, что сказал, что не изменил бы разведчеству, даже если бы ему дали сто динаров.
– Ну а за двести? – спросил я его.
– Даже за четыреста не изменил бы! Это было сказано наивно и по-детски, но зато от всей души.
Вечером собрались родители. Я, как приехавший из Загреба, рассказал обо всех новостях, о новых условиях для разведческой работы и добавил, что если они хотят сохранить организацию для своих детей, то должны будут оформить все это как работу в рамках Русской колонии.
Путешествовать по Хорватии было непросто. Не прошло и двух месяцев после капитуляции Югославии, повсюду были следы разрушений. Многие мосты были разрушены, и через реки приходилось переходить по каким-то досточкам, долго ждать поездов и пересаживаться из одного состава в другой. Приходилось много ходить пешком, недосыпать и недоедать.
5. В Хорватии
22 июня 1941 г. – 26 января 1942 г
В воскресенье 22 июня 1941 г. мы решили пойти на целый день на гору Требевич. День обещал быть хорошим, и мы, соблюдая правила конспирации, двумя группами в штатском, конечно, без малышей, а только старшие, двинулись в путь. Встречались мы на опушке леса, где росли из одного корня сразу три березки. Березы в Сараеве встречались редко. Мы их давно полюбили, принимая их как какой-то символ России.
Я жил на улице короля Твртка в доме № 3, и он был местом встречи для Игоря Москаленко и Клавдия Цыганова, которые жили на той же улице, и Бори Мартино, который жил недалеко от нас и которому мой дом был по пути.
Подъем на Требевич начинался сразу же, на другой стороне реки Миляцки. Город лепился по нижним склонам горы. Вместо тротуаров у крутых улиц были ступеньки, и в трехэтажные дома можно было входить с улицы на любой этаж. В одном из таких домов жил хорошо знакомый всем нам, друг нашей семьи, русский немец Евгений Иванович Гердт. Когда мы проходили мимо его дома, нас увидела из окна вся заплаканная его жена Мария Иосифовна, которая обратилась к нам:
– Дети, война началась! – И снова заплакала.
Мы переглянулись. В Европе война давно идет, и уже успела зацепить и разрушить Югославию. В чем дело, подумали мы, и в один голос спросили:
– Какая война?
– Настоящая война, – сказал появившийся в дверях Евгений Иванович. По радио сообщили, что сегодня, на рассвете, Германия напала на СССР, что Красная армия разбита и что Верховное командование обещает молниеносно закончить поход на Восток. Но я этому не верю, – добавил Евгений Иванович, – я слишком хорошо знаю Россию и русский народ.
Мы же, наоборот, обрадовались. Мы стали говорить, что вот сейчас, когда народ получит оружие в руки, он свергнет ненавистное ему советское правительство, и что война даст толчок к национальной революции, о чем неоднократно и много говорили братья Солоневичи38.
Гердт только качал головой и повторял: «Эх, дети, дети». Да, он знал всех нас с раннего детства. Это он давал русской школе рождественские подарки для нас, мальчиков.
Мы простились и пошли дальше в гору. Настроение у нас было приподнятое. Мы с жаром обсуждали последнюю новость, взволновавшую и обрадовавшую нас. Мы одинаково надеялись, что наконец-то пришло время национальной революции. Споров не было.
У березок нас уже ждал Жорж (Георгий Алексеевич, р. 1922) Богатырев и с ним две или три разведчицы. Мы немножко углубились в лес, чтобы нас не было видно с дороги, и, сложив всю взятую с собой еду вместе, как это у нас было принято, немножко подкрепились. Наша новость, конечно, всех поразила. О том, что освобождение России от коммунизма дело только времени, никто не сомневался. Всем было ясно, что теперь наше место в России с русским народом. Вопрос был только, как нам туда попасть и что нам там делать. Все были согласны, что вместо пионерии мы вернем разведчество. Говорилось о том, что разведчество не смеет быть монопольным, каким была пионерская организация, что, конечно, надо будет возродить и сокольство, и что в России ребят хватит на всех.
Не сговариваясь, кто-то затянул песню:
Слыхали ль вы про тот народ,Что славой, славою живет,И что пойдет он смело в бой,Чтоб защитить свой край родной…Добровольческие и дореволюционные песни сменились советскими. Мы их пели потому, что наших песен в Советском Союзе не знают, а чтобы нас приняли как своих, нам надо было петь вместе, а значит, советские песни, потому что ничто как песня не сближает поющих.
Долго оставаться в лесу мы не могли. Для нас, православных, или греко-восточников, как нас назвали усташи, был особо строгий полицейский час. Уже в пять часов вечера все мы должны были быть дома. Примерно в три часа мы двинулись в обратный путь. Жоржу и девушкам было дальше, чем нам, а мы, оказавшись задолго до полицейского часа в городе, решили еще зайти к Славе Пелипцу.
Выйдя из леса на дорогу и проходя мимо ресторана в доме лесника, мы услышали пьяных усташей, которые с подъемом пели:
Стои гора Требевич,На ней седи Павелич.Пие вино, пече яньце,Коле србиянце…(Стоит гора Требевич,На ней сидит Павелич.Пьет вино, жарит ягнят,Режет сербов…)Эта пьяная песня вернула нас к реальной жизни и к ужасу, царившему вокруг нас. Бодрое настроение сменилось очень даже грустным. Мы начали рассказывать друг другу о судьбе наших сербских друзей и знакомых. Мы никак не могли понять, как можно арестовывать и даже убивать невинных людей только потому, что они сербы.
Слава Пелипец уже давно выздоровел, но отсиживался дома. Как всегда, он был рад нам, а в этот день особенно, так как у него было радио, и он уже знал о начавшейся войне против СССР, и ему хотелось поделиться с нами мыслями и планами. Он сказал, что ему надоел его домашний арест и что он надеется с помощью НТСНП оказаться на освобожденной от большевиков земле. Падение большевизма, как мы понимали, должно было привести к ликвидации колхозов, и тут-то Слава надеялся применить свои знания агронома на пользу русского крестьянства, которое наконец-то освободится от колхозного рабства.
До войны в воскресные дни на Требевиче было полно народу, а теперь Требевич был пуст. По Требевичу гуляли немцы и усташи со своими барышнями да случайные горожане.
До 22 июня четники занимались главным образом саботажем на железных дорогах, а 27 июля в Хорватии восстание подняли коммунистические партизаны, назвавшиеся так в отличие от монархистов-четников. Все железные дороги в Боснии и Герцеговине были узкоколейными (76 см ширины) и проходили по лесистой и гористой трудноохраняемой местности. Особенно опасной для немцев была дорога из Сараева в Белград, проходившая вдоль крутых обрывов над рекой Дриной. Поезда, падавшие вниз, разбивались в щепки. К тому же на 400 км пути приходилось более ста туннелей. Дорога на юг, вдоль реки Неретвы, была не менее опасной. Вскоре обе эти дороги были выведены из строя. Когда же дорога на север была тоже захвачена повстанцами, то Сараево оказалось в полном окружении. Xорватская регулярная армия, называвшаяся домобранцами, храбростью не отличалась. В столкновениях с более сильным противником домобранцы сразу сдавались, зная, что в плену им плохо не будет. Многие переходили на сторону четников или партизан. Не желавших переходить в ряды четников или партизан, людей более пожилых и семейных, заставляли работать. С работы было легко бежать, и такие беглецы, возвращаясь в строй и рассказывая о хорошем отношении к пленным, разлагали таким образом хорватскую армию изнутри.
За несколько дней до присоединения Боснии и Герцеговины к НДХ меня и всех прочих православных уволили с работы в Югочелике, переименованном усташами, как я уже писал, в «Хорватские рудники и литейные заводы». Это было сделано по закону «Об исправлении несправедливостей». В моем удостоверении сказано, что 4 июня я зарегистрировался как безработный и уже 11 июня получил первое пособие – 90 динаров.
Эти 90 динаров были меньше трети моего жалования, но зато, как безработный, я имел право на бесплатный проезд по железной дороге, если найду себе работу в другом городе. Зарахович, отец наших разведческих руководителей Нади и Вовы, занимал крупный пост в одной загребской фирме и прислал мне приглашение обсудить возможность получения работы. Такое письмо фирму ни к чему не обязывало, но для меня было основанием получить разрешение на поездку и бесплатный билет. Я получил и одно и другое, но не мог выехать из Сараева, так как город был окружен. Пришлось ждать, пока немцы с хорватами не прорвут окружение и не восстановят движение.
Слава Пелипец и рад бы был уехать из Сараева, но, пока мы были в окружении, должен был отсиживаться дома. У него было радио, и оно ему скрашивало жизнь. Однажды, поздно вечером, в поисках интересного, он вдруг услышал передачу по-русски, да не какую-нибудь, а НТСовскую. НТСНП призывал бойцов Красной армии повернуть штыки против своего главного врага и положить конец советской власти. Излагалась вкратце союзная программа, в которой говорилось о ликвидации колхозов и о многом другом. Слава схватил бумагу и карандаш и начал записывать. Впечатление было, что передача ведется с русской земли. Слава был сильно взволнован и только ждал прихода к нему кого-нибудь из нас. Нас эта новость взволновала не меньше, чем Славу. О том, что НТС уже действует на родной земле, стало достоянием многих русских сараевцев, в первую очередь, конечно, членов Союза.
Передачи как неожиданно начались, так же неожиданно и прекратились. Мы поняли, что немцы тому виной. Мы знали, что нацисты против НТСНП, и история с союзными передачами только подтвердила, что нам с ними не по пути.
Спустя много лет совершенно случайно я узнал от проф. Михаила Заречняка, что это он и его жена Галина Васильевна, в те годы молодые члены отделения НТСНП в Братиславе, с начала войны в 12 часов ночи вещали против советского строя по радио Братиславы. Галина Васильевна была знакома со словацким заместителем министра пропаганды и от него получила разрешение на ведение передач. Радио «Москва» обозвало членов Союза «продажными пищалками», а немцы, которые тоже были недовольны русским голосом в эфире, через 6 дней прекратили передачи, сказав, что через каких-нибудь 6 недель они возьмут Москву, и в помощи НТСНП не нуждаются.
Связь Сараева с Загребом была восстановлена, и я уже 9 июля снова посетил Загребский университет, сдал нужные документы, что и было отмечено в моем студенческом удостоверении. Вскоре в Загреб уехали и Слава Пелипец, и Жорж Богатырев.
Если моя поездка в Загреб в мае 1941 г., а значит, до 22 июня, была трудной, но спокойной, то в июле все выглядело иначе. На станции в Сараеве, при покупке билета, служащий внимательно проверил мое разрешение на поездку, потребовал удостоверение личности и внимательно сверил меня с фотографией в документе. Поезд тоже выглядел иначе. Перед паровозом была платформа, переделанная в бронированный и ощетинившийся пулеметами вагон, а перед бронированным вагоном – открытая платформа, груженная камнями, чтобы в случае взрыва мины ни броневагон, ни паровоз не пострадали. Я ехал первым поездом из Сараева в Славонский Брод после прорыва блокады, и потому броневагон был украшен цветами. Я, с разрешения солдат, сфотографировал броневагон себе на память. Ехали мы мимо разрушенных и сожженных железнодорожных станций и множества крестьян, день и ночь охранявших железнодорожное полотно. Обстановка была напряженной, и я решил не рисковать, никого по дороге не посещать, а ехать прямо в Загреб.
В моем студенческом удостоверении сказано, что я 9 июля удовлетворил требования, а значит, получил право сдавать осенью экзамен. Это был бы мой последний экзамен, от которого зависело, получу я диплом или нет.
Настроения русских в Загребе в июле отличались от настроений в мае. Если в мае настроение было подавленным, то после 22 июня появились какие-то надежды. Уже 15 июля НТС обратился к министру иностранных дел НДХ с письмом, в котором было сказано, что НТС ставит себе целью подготовить русскую эмиграцию к новой политической жизни в освобожденной России и одновременно укрепить братские, дружеские отношения между хорватским и русским народами, что НТС не партия, а политическое движение, и что НТС просит у правительства НДХ защиты и поддержки в виде «молчаливого разрешения и одобрения деятельности Союза, в том числе в создании Хорватско-русского общества, которое бы имело целью продвижение общих интересов хорватского и русского народов», а также разрешение переезда главного секретаря Исполнительного бюро проф. Михаила Александровича Георгиевского (?–1950) в столицу НДХ Загреб. Письмо было подписано Георгиевским и председателем Загребского отделения Союза инж. Г. Я. Киверовым.
Переезд М. А. Георгиевского в Загреб не состоялся, но ни он, ни Киверов арестованы не были. За их деятельностью усташи, конечно, следили, что и вынудило Киверова при первой возможности покинуть Хорватию.
Осенью 1941 г. одна немецкая фирма объявила среди русских эмигрантов набор чертежников и переводчиков для своего отделения под Киевом. В эту группу записались Игорь (Николаевич) Шмитов (1922–1982) с отчимом и матерью. Они, как и почти все прочие, были членами НТC. О своих впечатлениях Игорь написал в статье «За чертополохом», которая была напечатана в загребском подпольном разведческом журнале «Ярославна» (1942. № 6, июнь).
Название статьи заимствовано у бывшего донского атамана Петра Николаевича Краснова (1869–1947), ставшего в эмиграции известным писателем. В своем фантастическом романе «За чертополохом» он рассказал, как после эпидемии чумы у Запада прервались все связи с СССР, граница заросла чертополохом, и никто, кроме одного молодого эмигранта, не решался проникнуть в зачумленную страну. Выражение «за чертополохом» стало в 1930-е гг. в эмиграции весьма ходким. Шмитов писал:
«Еще не улеглись впечатления от мировых великанов городов, от Вены и Берлина, а уж скорый поезд мчался с маленькой кучкой русских, полных неясных надежд, унося их к рубежу их родины. От времени до времени бесконечный горизонт заполняется березовой рощей или сосновым лесочком с болотцем. Чувствуется приближение к русской земле, но на станциях слышна польская речь. С каждым поворотом колеса мы все ближе и ближе к чертополоху, отгородившему нас от истины. По ту сторону много загадочного, нового и непонятного. У всех одна мысль – где же граница? Наконец, мы подъезжаем к маленькой станции, ничем не отличающейся от предыдущих. У поезда давка, и бабы продают яблоки. Рубеж. Преграда снята, и мы вступаем на землю наших предков. Больше мы не эмигранты. Все взволнованы и опьянены происходящим. Все счастливы, хотя и сознают, что впереди будет много горя, много тяжелых минут. Но… что вообще может чувствовать человек, мечтавший двадцать лет исполнения его желаний? В поезде маленькое торжество. Разливается заранее приготовленная наливка, и все друг друга поздравляют, как на Пасху, с новым для нас воскресением Родины. “За светлое будущее! За новую жизнь! За новую национальную Россию!“» (приводится с сокращениями).
Позднее Шмитов писал, в какие ужасные условия попали эмигранты. Сам он заболел туберкулезом и уехал в Вену лечиться. Там поступил на архитектурный факультет, специализируясь в средневековом искусстве под руководством проф. Голей.
В биографическом очерке о своей матери Зинаиде Михайловне Полуян (1902–1952) Шмитов писал в разведческом журнале «Опыт» (1972. № 59, июнь):
«Узнав о решении своего мужа и сына ехать в оккупированную часть России, она энергично добивается полулегального разрешения сопровождать их. Польско-русскую границу она переезжает, переодевшись в мужскую одежду. Контроль на границе не замечает и пропускает ее вместе с другими. Жизнь в голодной, оккупированной немцами России представляла собой мучение и физическое, и моральное. Разбитый авиацией и артиллерией и заброшенный колхоз «Глубокая долина» явился первым пристанищем полуголодных и для лютой зимы 1941–1942 гг. полураздетых пришельцев. В конюшни этого колхоза немцы согнали измученных голодом “презренных унтерменшей” – военнопленных, взятых в Киевском окружении. Каждый второй из них умирал, остальные находились между жизнью и смертью от голода и истощения и косивших болезней: тифа, дизентерии, цинги. Немцы боялись входить в эти рассадники эпидемий и, не имея сил, не желая заниматься пленными, оставляли их без всякой медицинской помощи умирать на соломе в полуизоляторах, полулазаретах, среди вшей. <…> Зинаиде Михайловне пришлось потратить много усилий, чтобы добиться разрешения организовать санитарные пункты и лазареты в лагерях военнопленных. Но немцы отказались дать какой-либо санитарный материал или медицинский персонал, даже из местных. На шесть основанных Зинаидой Михайловной лазаретов только в одном оказался военный врач, а в другом фельдшер. <…> Кроме отсутствия медицинского персонала, сказывалось полное отсутствие продуктов. По воскресеньям запрягались сани, и в сопровождении сына или мужа Зинаида Михайловна отправлялась в села, где она на сельских сходках или у церкви обращалась к крестьянам, прося пожертвовать продукты своим пленным. Нередко с полными санями возвращалась она назад».
Зинаида Михайловна тоже заболела туберкулезом, но не желала покидать родину и русских людей, только после истечения контракта она с мужем в конце 1943 г. уехала к сыну в Вену.
Осенью 1941 г. та же фирма набирала переводчиков и чертежников в Белграде. И там тоже записались почти только члены НТC. Пока шел набор, пока транспорт прибыл в Берлин, там, в Берлине, стало известно о скандале с русскими из Хорватии, и немцы решили отказаться от услуг русских эмигрантов. Всем было выплачено трехмесячное жалование за расторжение договора и предложено через биржу труда найти себе работу в Германии.
Приняв на себя должность начальника ИЧ, Мартино не сразу смог приступить к исполнению взятых на себя обязанностей. Если почта внутри Хорватии работала нормально, то из «независимой» Хорватии за границу, кроме как в Германию, никуда нельзя было писать. Да и если можно бы было, то нельзя было забывать, что все письма за границу проверялись военной цензурой. Только 1 ноября 1941 г. Мартино обратился с письмом «Всем руководителям», которое потом считалось приказом № 1 по ИЧ. В этом письме было сказано:
«1. Скм. (скаутмастер) М. В. Агапов стечением обстоятельств принужден отойти на время от работы и передал должность нач-ка Инструкторской части и нач-ка отдела мне.

