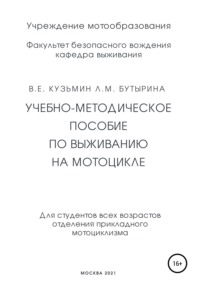Полная версия
Априори Life 3
Тезисы, провозглашаемые ею с особой периодичностью на переговорах: „Не лгать друг другу, говорить правду, договариваться там, где можно договориться, будить и давать правильное понимание“, в купе с поведением «вчерашнего боевика с его надломленной психикой» послужили ей входным билетом в личные заместители. Однако дуэт этот был все равно, что баян и труба, где каждый инструмент вполне мог выступать сольно, но звучать одновременно законы музыки им попросту не позволяли. Тем более что у «баяна» то и дело лихорадило тональность, а со временем стали западать клавиши. «Труба» не растерялась и, уловив удачный момент провала, взяла верхние аккорды и зазвучала сольно. Звук этот можно было сравнить разве что с гудением водопроводных труб в период запуска сезонного отопления. Но за неимением другого равного по резвости инструмента ее слушали, те, кто волею судеб были лишены слуха, слушали с удовольствием. Иные либо пользовались защищающими от шума приспособлениями в уши, либо уходили прямо с «концерта», не пытаясь даже требовать возврата денег за билет. «Баян» тем временем был отправлен на покой с обострением хронического недуга, а после – напрямую в руки правосудия с обвинением по статье мошенничества. По официальной версии. По неофициальной… Скажем так, не надо быть гениальным стратегом, чтоб купить компанию у государства, а затем продать ее ему же, но уже во много раз дороже, швырнув при этом пару миллионов на благотворительность. Но это уже немного иная история.
– В этом нет ничего сверхъестественного, – ласково ответила женщина, кладя руку на его руку. – Иногда ты делаешь выбор, иногда выбор делает тебя.
– Как быть с вытекающими оттуда обстоятельствами?
– Никак. – С прежней грацией она пожала плечами. – Принимать, анализировать и двигаться дальше. Как еще? Они же, в конце концов, не родственники тебе и не сотрудники банка, чтоб предлагать тебе возможность измениться. Они в принципе ничего не могут предложить. Они лишь пробуют тебя на прочность, обтекают, если не находят прорех слабости и разрывают на части, если найдут хотя бы трещинку.
– Трещинку можно найти в ком угодно, тем более, если на то есть время, тем более, если знать, где искать, – нервозно бросил он, выстреливая глазами. Оркестр тем временем заиграл блюз. Более заунывной музыки невозможно было вообразить, однако несколько пар даже начали танцевать.
Женщина снова улыбнулась.
– Ты руководствуешься эмоциями, – заговорила она, обрамляя каждый свой жест мягкой грацией движений. – Усмотри в этом чисто деловые разногласия. Ключевая фигура – в любом случае одна. Устранить ее и вопрос решается сам собой.
Игорь впился в нее еще более горящим взглядом, поставил чашку подле себя и закурил. Повисла натянутая пауза. Женщина в ответ откинула голову и отпила из своей чашки. Ее волосы упали на плечи, и казалось, в этот миг для нее кроме кофе ничего не существовало. Игорь непроизвольно вспомнил, что ему уже доводилось неоднократно ранее наблюдать и наслаждаться, как она умела всецело отдаваться тому, что делала в данную минуту. В этом всегда была не только своя прелесть, но и какая-то опасность. Она была само упоение, когда пила; сама любовь, когда любила; сама ярость, когда отчаивалась, и само забвение, когда забывала. Сейчас она еще и ждала. И ожидание это становилось для него почти невыносимым. Он снова затянулся и посмотрел в сторону. Луч прожектора освещения на миг ослепил его. Он на секунду прикрыл глаза, а когда открыл, тут же отметил две персоны за столиком напротив. Он и она, оба с мотоциклетными шлемами. На входе за дверьми без сомнения еще парочка таких же. Да и по всему периметру, наверняка. Неплохой вариант, возбужденно подумал загнанный в угол некогда старший эксперт, а по совместительству продолжительное время правая рука Владимира Александровича. На мгновение он ощутил какой-то внутренний холод, трезво и бесстрастно давая оценку нынешней ситуации. Оттяжка возможна, он это знал – мало ли существует уловок и шахматных ходов. Но он знал также, что никогда не воспользуется ими. Все зашло слишком далеко. Уловки хороши для мелких масштабов. Здесь же оставалось лишь одно – выстоять, выстоять до конца, не поддаваясь самообману и не прибегая к уловкам.
Игорь огляделся. Минуя взглядом все красоты и тонкости присутствующий скептической одухотворенности, он снова вернулся к собеседнице.
– Ты предлагаешь мне решить этот вопрос буквально?
Женщина окинула его внимательным взглядом, как если бы собиралась ответить, но потом передумала.
– Что ты… Разговоры о кровопролитии за столом портят мне аппетит, – ответила она, не прекращая буравить своими глубокими золотистыми глазами, хотя, казалось, таила в них едва уловимую улыбку. Прямая, хрупкая, неподвижная. Нежная белая кожа, сквозь которую просвечивали голубые жилки. Она сидела напротив, всей своей анемичностью источая власть и спокойствие. Он не знал, объяснялось ли это тем, что, казалось, в тот момент ее совершенно ничто не волновало. Он лишь чувствовал это тепло, излучаемое ею, и понимал, насколько истосковался по нему за все эти годы. И сколь ни был бы злым ее язык время от времени, и сколь ни казалось бы каменным сердце, в ней всегда оставалось противовесом то самое тепло, непосредственность и непринужденное спокойствие, позволявшее ей то и дело совершать те вещи, которые делать по сути нельзя.
– Эта игра не по мне, – ответил он, не отпуская из рук сигарету. – Я уже убил слишком много людей. Как любитель и как профессионал. И знаешь, что понял? Убийствами многого не добьешься. Это внушает лишь презрение, безразличие и неуважение к жизни, а смерть становится чем-то смешным и незначительным. Но смерть никогда не смешна. Она всегда значительна. А причины здесь второстепенны.
– Я не люблю кровопролитие, – ответила она, после того как вновь пригубила из чашки, медленно и спокойно. – За кровь всегда приходится слишком дорого платить, а я человек деловой. – Затем помолчала немного. – Кто часто убивал, не станет убивать из мести. Тем более из-за любви. Об этом не было и речи. Но ты один стоишь целой армии. Ты вполне можешь заняться этим делом. Ключевую фигуру я беру на себя.
«Хорошо бы все знать наперед. И до конца», – подумал Игорь, разглядывая ее белые плечи над черным вечерним платьем. – «Особенно когда разыгравшееся воображение начинает снова затемнять рассудок. Мягкая, неумолимая, безнадежно манящая химия… Чтоб ее! Сердца, однажды слившиеся воедино, никогда уже не испытают того же с прежней силой к кому-то другому. Навсегда останется тот самый уголок в душе, в который никому уже не пробраться. Она знала это. Она чувствовала. Она жила с таким же, но всегда оставалась надёжной, как контрольный выстрел, и единственной, как последний шанс.
– Женщины тут ни при чем. Это дело мужское, – ответил он, немного поразмыслив. Затем встал и подал ей манто. Она не надела его, а лишь накинула на плечи. Это была обычная норка, возможно, даже ненатуральная, но на ней и любой мех казался дорогим. «Дешево выглядит только то, что носишь без чувства уверенности в себе», – подумал Игорь, не упуская случая прильнуть к ее поблескивающим в свете прожектора волосам.
«Острова ни от чего не спасают. Тревогу сердца ничем не унять», – размышлял он, придерживая ее за локти перед тем, как усадить в автомобиль. «Скорее теряешь то, что держишь в руках, когда оставляешь сам – потеря уже так не ощущается». Оставить он так и не смог. Она же нашла для себя единственно верный путь. И никаких объяснений. Они слишком отдают пошлостью. Любовь не терпит объяснений, тем более пошлостей. Ей нужны поступки. У бога любви весь лоб запятнан кровью, как известно. Лишь потому, что он не признает никаких слов.
«Любовь», – подумал он. «Все та же любовь, – вечное чудо. Она не только озаряет серое небо повседневности, она в состоянии окружить романтическим ореолом даже кучу дерьма. Чудо и чудовищная насмешка, для тех, кто сумел однажды проститься наполненными друг другом, как бы все это оставляя в памяти…»
Внезапно его охватило странное чувство вины во всей этой невеселой истории, и он с трудом заставляет себя разжать пальцы и отпустить дверь. Женщина грациозно пропадает в глубине салона, будто тайком коснувшись напоследок пальцами его руки. Машина трогается, выезжает на главную дорогу территории и теряется за невысоким зданием кпп, а он еще долго всматривается в отблески стоп-сигналов, мигнувших перед поворотом и тем, как полностью раствориться в мокрой темноте. Крохотные огонечки, бессмысленно вспыхнувшие на краю хаоса и увозящие сейчас лицо, глядя в которое хотелось говорить и говорить… Хотелось снова видеть перед собой эту неподвижную фигурку, снова почувствовать ее руки, холодные как всегда и сложенные неподвижно, и будто ускользающие куда-то всякий раз, когда пытаешься передать им хоть немного тепла. В такие моменты еще сильнее хочется прижать ее к себе и ни о чем больше не думать. Глупость? А разве то, что я говорил ей о старости вдвоем когда-то, не величайшая глупость? И разве при всей этой бездумности мы ни были тогда ближе к истине, чем сейчас? Зачем сопротивляюсь, вместо того чтобы очертя голову снова ринуться в омут, – пусть ни во что уже не веря, и в очередной раз подтверждая тем самым, что любовь не приходит к идиотам. Она приходит к самодостаточным уравновешенным личностям и делает из них идиотов.
Игорь непроизвольно улыбнулся, глубоко вдыхая влажный и на удивление теплый воздух улицы. В самом деле, смешно. Стоишь на грани самоуничтожения с последующим переселением в психиатрическую больницу, а думаешь при этом о том, как несуразно, должно быть, выглядел в моменты чувственности перед человеком, который мог спровоцировать в тебе, как одно, так и другое. Воистину, нет предела врожденному мужскому позерству.
***Небо раскаленным железом нависло над крышами. Новостройки спальных районов замкадья всегда отличались для меня ярко выкрашенными, порой даже несколько аляповато, домами, высокими тротуарами и замкнутыми коробками дворов. Вдоль одного из таких я прогуливалась размеренным шагом, вдыхая это осеннее сумрачно-тихое утро, уже полностью поглотившее вчерашний день, но еще не обозначенное каким-либо определенным часом с присущими ему тягомотными звуками. Чудесное утро. Солнце только взошло, небо с востока тугое – пурпурное, и абсолютно безоблачное. Это предвещало теплую погоду. Пожалуй, даже чрезмерно теплую для предпоследнего календарного месяца. Я остановилась на минуту, сделала глубокий вдох, поправила воротник и свернула с главной улицы по направлению к микрорайону. Время умеет осаждать любую безмятежность, особенно когда его счет переходит в минуты…
Минуты тикали. Не прошла я и половины квартала, как в кармане завибрировал телефон. Я не ответила, лишь немного замедлила шаг. Три гудка и сброс. Пауза. Снова три гудка. Сброс. И снова пауза. Я сжала аппарат ладонью в кармане и чуть ускорила шаг. Остатки времени неслышно испарялись над землей, не ведая страхов и сомнений…
Дверь подъезда панельной многоэтажки была приоткрыта. Узкий пролет, пятый этаж, щуплая перегородка из отходов древесной промышленности среди четырех аналогичных. Легкое давление на металлический рычаг и символическое препятствие ликвидировано. Прежде чем пересечь порог, я постучала. Никто не ответил. Лишь кафельный пол отозвался глухим эхом. Мы с домом молча ждали, потонув в жужжание вызванного кем-то лифта. Я постучала еще раз, и выждав недолгую паузу, переступила порог. Узкая прихожая, заваленная коробками и старыми вещами, в углу пара растоптанной обуви. Я сделала широкий шаг, стараясь не задевать предметы неизвестного мне назначения, и прошла в межкомнатный дверной проем. За его пределами царил полумрак. Окна были плотно зашторены. По центру комнаты поставлены два старых плетеных стула, стол покрытый скатертью с вышитым орнаментом, на столе – приборы: чашки, блюдца, тарелки. Вдоль стены – потертая кушетка с подушками, напротив – стеллаж с книгами. С потолка – лампочка в тканевом абажуре. Окинув продолжительным взглядом открывшиеся перспективы впервые за долгое время я ощутила то, что французы называют «дежавю», будто уже когда-то стояла на этом месте, именно в этом обшарпанном проеме, где-то на рубеже набирающего обороты дня и сумрачной тени….
Незатейливые переливы клавишных звуков вернули меня в ощущения реальности. Я прошла вглубь комнаты, прежде чем смогла различить некрупную мужскую фигуру у противоположной стены за громоздким гробообразным фортепиано. Он небрежно перебирал клавиши. Не корчился в напряжение, – играл, будто разминался. И хотя воспроизводящиеся пассажи пришлись мне не по вкусу, было слышно, что техника у него отличная. Бросил играть он так же неожиданно, как и начал, – резко, прямо посреди пьесы. Затем порылся в нотах, отыскал что-то нужное, и только после этого обозначил мое присутствие.
– Не знала, что вы ко всему еще столь превосходно музицируете, – обратилась я, находясь под прицелом его глубоких глаз.
– Это все равно, что коллекционировать ценные картины, – отозвался он, глубоким, чуть сиплым голосом. – Рано или поздно встаешь перед выбором, либо считать их прямоугольными холстами покрытыми краской, либо относиться, как к золоту – ставить на окна решетки и ворочаться ночами.
Легкая тень улыбки едва заметно легла на его скулы, прежде, чем жестом он предложил мне присесть. Я непроизвольно ответила тем же, снимая тем самым повисшее в воздухе напряжение.
– Пока человек не обрел себя, ему нечего терять, – забросила я вопрос-утверждение, присаживаясь на один из стульев, и стараясь быть как можно более бесшумной.
Собеседник прикрыл крышкой фортепиано и неторопливо развернулся ко мне. Проникающие сквозь шторы обрывки света местами охватили его лицо. Крупная, с заметно поредевшим волосом голова, чернявая с проседью бородка, впалые скулы и глазницы. Он сидел передо мной не в белой рубашке, с неизменным галстуком, и не в строгом, темно-синем костюме, с присущей ему нарядностью и официозностью. Свободные штаны, спортивная кофта, наброшенная поверх хлопчатобумажной футболки, урывками открывали тело уже заметно деформированное возрастом и болезнью: плечи осунулись, выпирал небольшой живот, стали дряблыми мышцы. Он сидел передо мной почти неподвижно. Почти двадцать лет он руководит компанией, дважды отходил от дел по состоянию здоровья, но, чуть приведя себя в форму, снова возвращался. Он буквально сросся с бизнесом за все эти годы, знал почти каждого партнера, и день за днем пытался отыскать универсальный ответ для каждого из сотен пар глаз взирающей аудитории на извечный вопрос: "Как человек должен жить?". А ответ этот будто с издевкой скрывался за дымкой быстро летящих часов, когда он изо всех сил старался согласовать возможности с мечтами, объединить замыслы и страсти, превратить желаемое в действительное. Для каждого партнера в частности. И для всей компании в целом. Явно отдавая себе отчет, что из этого бизнеса уйти невозможно. Как не уйдешь, наверное, от предначертанной свыше судьбы (здесь главное, чтоб рука чертежника не вильнула). Миллиарды и их владельцы рано или поздно, по взаимному согласию или нет, но непременно узаконивают свои рабовладельческие отношения. Многие тысячи людей были связаны с его бизнесом. Они стали богатыми, но также и рабами компании, и его, несменного РД, решений и указаний. К болезни же он с самого начала отнесся довольно спокойно. Бывают же неполадки в работе любой системы, – организм человека не исключение. Но ощущение приближающегося предела с каждым разом все сильнее и тревожнее наносило точечные инъекции правды, пока отпущенная чаша здоровья не расплескалась до основания.
– В жизни нет ничего более трудного, чем остановиться в нужное время, – заговорил он, сложив руки перед собою. – Остаток всегда горек и отдаёт пошлостью. Нужно иметь особое чутье, чтобы уйти вовремя. Этот момент наступает незаметно. Но готовым нужно быть всегда…
– Вы не были готовы?
– Я его упустил.
Я понимающе кивнула, с напускным интересом разглядывая накрытые на столике сервизные чашки. Тонкий фарфор, позолоченный ободок, изящная роспись. На одной из них, едва заметный скол донышка… В каждой мелочи – протест к смиренному следованию мещанской жизни, в каждом жесте – отрицание к принудительной позиции между крайностями, в спокойной зоне, без яростных бурь и гроз. Все тот же человек передо мной. Все тот же характер. Надломленный, сбитый ударами правосудия, от которых уже не укрыться, которых не избежать, но по-прежнему стойкий, по-прежнему бескомпромиссный. Потому и бесстрашный, наверное. Потому, что именно неизбежное умеет вплетаться в сознание, впитываться им так, что оно уже не вызывает отторжения, не вызывает признаков боли и, тем более страха. Такой нрав скорее страшится «пить из старой облезлой кружки, когда новая стоит в серванте», когда на чёрный день деньги отложены, на белый день чашка новая в серванте, только белый день наступает редко, а чёрными заполняется вся жизнь. Таким стыдно быть нищими; стыдно быть грязными. Таким стыдно иметь в голове разруху, которая неизбежно отражается и на быте, и на менталитете.
– И все же, – поддавшись искреннему недоумению, осведомилась я. – Как так могло получиться?
– Видишь ли, – ответил он спустя минуту раздумья. – Политика вещь захватывающая. Столь же захватывающая и опасная, как война, разве что. Только на войне могут убить всего лишь раз, – в политике же это происходит многократно.
– К счастью, настоящая власть, так или иначе, приходит к тому, кто умеет ею распоряжаться, – заметила я. – Для тех же, кто жаждет поиграться во всемогущих и всесильных всегда существовали сцена, лозунги и собрания.
– Власть, как и любая прозаичная должность, нанимается на работу. С установленным графиком, сроком и окладом. Форма найма носит название «выборы». Страной же всегда управлял царь, каким бы термином он ни прикрывался – президент, ген. секретарь, премьер. А для царя нет ничего важнее, чем самодержавие – абсолютная власть. Отсюда и получается, что в Российской политике остаются только две возможные позиции ее координирования: либо серый кардинал, либо кошелек.
– И будучи игроком в неклассическом понимании этого слова, вы усаживались за игровой стол, лишь в том случае, если заранее знали весь расклад соперников, наперед осведомлялись о прикупе, и если администрация игорного заведения письменно гарантировала вам выигрыш. Именно поэтому ваша терра-инкогнито – была вашим вторым именем. О вас знали и слышали, но никто и никогда не видел. Вы долгое время умудрялись оставаться в эпицентре действий, при этом избегая публичности и всех официальных мероприятий. Риск такого масштаба был вам противоестественен. До тех пор, пока ни были назначены выборы депутата Госдумы южного автономного округа. Выборная гонка прошла быстро и безболезненно. Усилий особых для этого не прилагалось, – кого губернатор выдвинул, того и избрали, да и конкуренты были откровенно слабые. Выборная чехарда быстро забылась и людьми, и властью. Наступили иные события и времена. Как для страны, так и для вас лично. И сколь ни противилась бы вам бесконечная, нудная болтовня глав районных администраций, постановка глупых задач, которые никогда не выполнялись и выполниться не могли, потому что ничем иным, как извращенным самообманом чиновников, делающих вид, что работают, создают документы и направляют течение общества, они не являлись. И при всех обстоятельствах вы отдавали себе отчет, что, лично, либо через верных людей вы будете и сможете контролировать весь поток средств, вращающихся в округе. Потому что знали, что власть денег сильнее любой другой власти.
– Против лома, как известно.... А там был лом олигархический, причем, валютный, – едко усмехнулся он. На его худом лице отразилось усталое разочарование. Было заметно его нежелание говорить об этом, нежелание об этом вспоминать. Он был сейчас на другом периоде жизни, и волновали его совсем другие вопросы.
– Деньги не врут, – так вы всегда говорили, – продолжила я. – Только спустя время понимаешь, насколько ценной была информация. И с какой отдачей вы несли ее в массы.
– Просто поставленная речь и отработанная техника. Не более, – с присущей скромностью парировал он.
– Перестаньте, – улыбнулась я, гася внутри внезапно вспыхнувшие всплески ностальгии. – Одной только техникой мир не покоришь. И тогда, и сегодня и через сотни лет нужно суметь, прежде всего, затронуть души людей, заставить задуматься, вызвать эмоции, мороз по коже.
– Это техника, – снова произнес он уже более сухо. – Люди в массе своей – идиоты. Они быстрее придумают кучу наитупейших вещей: костюмы для собак, например, должность пиар-менеджера или палку для селфи, нежели рискнуть вникнуть в суть. Они не жаждут истины, они требуют иллюзий, без которых жить не могут и не умеют. И сколь ни показывай им возможностей развиваться, они все равно предпочтут слабости желудка и дешевые зрелища. Стоит ли говорить, что на столь примитивной почве срабатывает почти любая техника.
– При условии, что их использует грамотный манипулятор, – все же добавила я, старательно возвращая заданный диалог в текущее русло.
Фамулов глубоко выдохнул, и, привстав, чуть отодвинул в сторону стул, на котором сидел.
– Мне бы хотелось угостить тебя чаем, а после еще немного поработать, – сказал он, изобразив на лице начальственную озабоченность. Сколько раз я видела подобные взгляды, после громогласных речей на корпоративных мероприятиях по случаю и без. В нем всегда читалась некая тяжесть, утомленность от происходящего: вся эта напыщенность, помпезность уже давно ему порядком надоели. Весь этот бизнес в принципе всегда был для него больше, забавой, игрой молодости: всё могу – решил и сделал. Сделал, – за ценой не постоял. И продолжал делать, даже когда вся суть, все здравое зерно, заложенное однажды в первооснову организации, смиренно догнивало себя изнутри. Даже когда каноны и обычаи демонстративно растаптывались некачественным количеством. Даже после отчаянной попытке собственноручно разложить дно с целью истребления прижившихся грызунов, столь нескромно разжиревших на хлебном месте. Крысы, к слову, не покинули корабль. Тот самый случай, когда прикормыши оказались выносливее своего хозяина. Или наглее. Или бессердечнее. Не суть. Они остались. А он продолжал делать, не получая ничего взамен, кроме кислого привкуса бессмысленности. С той лишь разницей, что выглядеть стал теперь еще более вышколено, еще более подтянуто, еще более шикарно. Всем своим видом демонстрируя богатство. Потому что когда у состоятельного человека сложности – он решает их в своем автомобиле с личным водителем, в костюме за пару тысяч в иностранной валюте и в золотых часах последней модели. Он их так и решал. Только взгляд при этом становился все глубже. И отрешеннее. Но на эти случаи всегда выручали очки. Непременно в оправе из платины. Отменный актер, что говорить: по незнанию кажется простым и доступным, но внутри холоден и жесток, как наждачная бумага. Не трись, не пытайся втереться в его внутреннюю суть, иначе сотрешь в кровь всю кожу, не говоря о душе.
– Вот именно об этом я и говорю, – сделав мимический акцент на местоимение, я едва сдержала снова наплывающую улыбку.
В ответ он бросил на меня слегка обиженный, чуть укоризненный взгляд, затем развернулся к музыкальному инструменту и снова открыл крышку.
– Видишь ли, – заговорил он, притрагиваясь к клавишам. – Любого рода манипуляции можно косвенно разделить на два типа: простые и сложные. – Незатейливая мелодия приятным фоном дополнила его речь. – Сложные манипуляции – это оргАн с множеством клавиш. Чтобы выстраивать подобные схемы, нужно знать немало слабых и уязвимых мест человеческой натуры. Только будучи виртуозом можно использовать весь их потенциал и извлечь прекрасные звуки.
Короткий этюд в минорной тональности послужил завершением реплики.
– Простые же манипуляции, – продолжил он, не отрываясь от музицирования, – скорее напоминают примитивные детские пианино. У них всего три октавы: страх, жадность, тщеславие. Но, несмотря на их внешнюю простоту, действуют они безотказно. Порой даже на порядок эффективнее, чем оргАн. Потому что они универсальны. Умный, полный дурак, богатый, бедный, хитрый и наивный – нет никакой разницы. Всего три октавы: жадность, страх, тщеславие, задетые в нужном порядке, и человек на глазах способен измениться до неузнаваемости.
– Превратив свою жизнь в атмосферу круглосуточной вечеринки и став тем самым, одним из навязанных миром клонов – «успешным», – дополнила я, не дожидаясь завершения музыкальной партии. – Лишь потому, что теперь у него хотя бы появился для этого шанс.
– Да, да, чтоб все, как предложено, – кивнул он, и снова прикрыв фортепиано. – Чтоб ритм всегда в динамике превратился в бессмысленную суету, чтобы хроническое недосыпание отучило в конец глаза нормально воспринимать дневной свет, чтоб тонны парфюмерии вкупе с кофеином и энергетиками постепенно иссушают тела, а постоянные телефонные инструкции делали то же самое с мозгом. Чтоб платье «Prada», часы «Rado» и костюм «Brioni». И непременно в полоску. Чтоб даже жесты со временем одинаковые. И жгучее ощущение единства движения к одной общей цели и, к своей личной в частности.