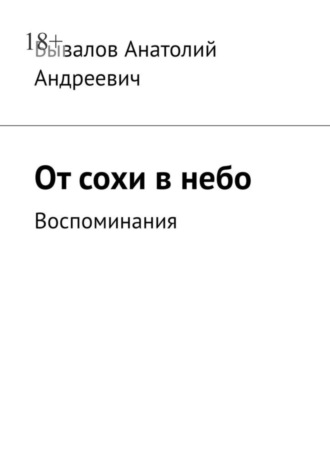
Полная версия
От сохи в небо. Воспоминания
В тот период, несмотря на то, что я цеплялся за свой дом, корову, я легко поддавался новизне: коллективному труду, роли техники, хотел помочь делать жизнь лучше, чтобы всем было хорошо. И очень верил в главных руководителей партии и комсомола. Когда в 1934 году в Смольном был убит Киров, я не только переживал, но и написал впервые в жизни стихи на смерть Кирова и послал их в «Комсомольскую правду». Вот они, совершенно незрелые, но от души стихи:
Снег пушистый, как серая вата
На миллионные массы валит.
Постигла нас нынче утрата:
Киров убит.
Убит. Мироныча не стало
Среди борцов—большевиков.
Нам нужно снова закалиться,
Чтоб в новой битве победить врагов».
Конечно, они не были напечатаны, но смерть Кирова мне дала толчок к активной общественной работе и понимание того, что мир так жесток, что он состоит не только из трудовой сельской идиллии, хотя здесь тоже стали искать врагов народа, раскулачивать богатых.
В 13 лет я вступил в комсомол. Тогда ещё учился в 7 классе Никифоровской средней школы. Активно участвовал в работе кружков.
Там по сравнению с начальной школой были уже солидные преподаватели: Смирнов Павел Матвеевич – будущий директор сельхозтехникума в г. Устюжне. Он со своей «мелко – комковатой структурой почвы», – как он часто говорил, – мне хорошо запомнился. Он приучал нас к огородничеству, что мы плоховато знали.
Иван Григорьевич Коновалов, учитель музыки, уже в возрасте, хороший человек, но мне запомнился больше тем, как однажды, не помню за какую шалость на уроке, он вытащил меня из—за парты и за шкирку на вытянутой руке вынес меня из класса. Помню, как ему мешал смычок в одной руке и я, в другой руке была скрипка. Как же так случилось? Я не успел сказать: «За что?», – как оказался в поднятом состоянии. Этот случай потом часто вспоминался. И хотя я закончил педучилище с правом поступления в институт без вступительных экзаменов, но учителем я не стал. Видимо, этот случай помнил.
Директор школы Анатолий Павлович Стариков, молодой и поэтому нам был близкий и играл с нами в волейбол, был активным в жизни, был холост. Как сложилась его судьба – не знаю. Пока я учился в 5— 7 классах, то в летний период целиком принадлежал семье. Зарабатывал трудодни в своём колхозе, где отец был председателем. Кроме тяжёлых работ я вьполнял и обязанности молоковозчика, принимал от селян молоко, замерял его жирность, записывал в книжку о количестве и качестве молока и отвозил его на молокозавод. Там я впервые увидел, что делают из молока и какое значение имеет жирность его. Понял, почему народ хочет сдать молоко пожиже, иногда снятое. Сам стал искать путь борьбы с этим. Стал понимать, что в жизни не всё так просто: в один и тот же трудодень часто затрачиваются разные усилия, даже на жирности молока можно выиграть. Это были начальные понятия об эксплуатации человека. Это уж потом я узнал, что не только Маркс и Энгельс, но и весь мир борется за честный труд и справедливое распределение произведённого, но никакие политические структуры и законы не помогают остановить процесс обмана сначала в мелочах, а потом и в крупном, иногда ухищрённого скрытого обмана человека человеком. И получается, что на мелкий обман можно пойти, с ним можно согласиться. Но далеко не каждый на это может пойти. И вот люди разделяются по своему отношению к труду. С возрастом это разъединение увеличивается. На какой—то стадии человек должен остановиться, меньше обращать внимание на различия, бороться с несправедливостью. В современном мире существуют серьезные межнациональные, территориальные противоречия.
В нашей местности были все русские, и не было межнациональных расколов. Но территориальные притязания были с детства. Нам запрещали ходить по ихней (деревни Лисицино) земле в школу (где хотите, там и ходите). То выделяли нам дорожку или тропинку. Приходилось вмешиваться взрослым. Между нашей деревней и деревней Романцево была возвышенность, сплошь усеянная земляникой. На этой пограничной возвышенности часто возникала борьба, стычки за право собирать ягоды. У взрослых такие распри перерастали в столкновения целых народов (Литва – СССР, Абхазия – Грузия, Азербайджан – Армения).
Когда мы оказались в колхозе, то нам сильно перестраиваться не пришлось, потому что отец был председателем колхоза и мы видели его старания, видели результаты труда, мы шли за отцом, и дети и мама. Многое в колхозной жизни нравилось, особенно с появлением техники. В 1929 году по нашей деревне впервые проехал легковой автомобиль. Сколько же было радости у детей! Мы долго бежали вслед за машиной. А ведь кто—то в ней ехал и знал, что впервые здесь проходит машина. Знал и гордился. И мы гордились, что и по нашей улице проехал автомобиль. В это же время в деревне провели радио. Репродуктор прикрепили на столбе, посреди деревни. Все собрались от мала до велика слушать чудо—ящик. Для нашей глухой местности это был праздник. Всякая новизна делала жизнь интересной. Появились веялки, сеялки, молотилки, внедряли все медленно, на глазах у всех. Все это было интересно. Сейчас приходится удивляться, что на глазах у одного поколения произошли такие огромные изменения в развитии техники. После трехлетнего руководства колхозом отец был направлен в г. Череповец на учебу в совпартшколу. Он был активным строителем коммунизма, хотя особенно не разбирал, что это такое. Может быть, и правильно, потому что до сих пор даже ученые не могут объяснить суть коммунизма, считая это утопией, категорически отвергают его. А отец тогда понимал, что надо добиваться, чтобы люди жили в дружбе, приблизительно в материальном равенстве, хорошо бы трудились все. И ведет нас к этому партия. Эта папина идейность понятна. Он прожил трудные детство и молодость, и он готов был бороться за лучшее будущее. Из воспоминаний отца: «Председателем колхоза я работал до 15.09.33 г. По предложению председателя сельсовета т. Смирнова С. К. общее собрание колхозников освободило меня от обязанностей председателя колхоза, и я сразу был избран секретарем Сельцевского сельсовета, а в октябре 1934 г. был направлен на годичные курсы в Череповецкую совпартшколу. А семья – жена и дети – так и продолжали жить в деревне Ястребцево, оставаясь колхозниками. В августе 1935 г. Устюженский райисполком направляет меня работать председателем Островского сельсовета, где я и работал по январь 1938 г. В 1936 г. семья переехала по месту моей работы в деревню Щербинино. По моему ходатайству меня перевели в деревню Хрипилево директором маслосырзавода. Но скоро, в 1938 г., РКВКП (б) направил меня директором конторы „Заготлен“. В партию коммунистов был зачислен в 1932 г. сочувствующим, в 1936 г. был принят кандидатом в члены ВКП (б), а в 1939 г. парторганизация райпотребсоюза приняла меня в члены ВКП (б). С 4.05.1942 г. по 15.01.1944 г. я работал председателем Устюженского райпотребсоюза».
Когда в 1934 году отец уехал учиться в Череповец, мы – пятеро детей – остались на попечении матери, почувствовали, какая ответственность легла на нее за выживание. Мы перешли на самоуправление и самофинансирование под руководством мамы. Каждый из нас вносил свою лепту в общий котел, кто как мог. И семья стала еще дружнее. Я ходил учиться в Никифоровскую неполную среднюю школу, за мной пошел туда и второй брат Николай, который через много лет стал директором этой школы. Все мы учились, а летом работали в колхозе. Ждали от отца писем и подарков. В школе я учился хорошо, научился играть в шахматы, полюбил их. Эта любовь сопровождала меня всю жизнь. Появилась первая любовь к девочке—однокласснице Светлане Мигер. Это доставляло мне большие волнения. Я писал ей письма, подбирал у поэтов Кольцова, Фета, Майкова любовные стихи, чтоб совпадали с настроением моей души. Делал это тайно. Мама заметила и стала узнавать у меня, но я не открылся перед ней. Светлана ко мне относилась по—детски и хорошо. Невысокая, темноволосая, улыбчивая, она создала мне образ любви на будущее, вплоть до моей жены.
В 1936 году я поступил учиться в педучилище в г. Устюжне в 20 км от нашей деревни. Не потому, что я хотел быть учителем, а такие были интересы семьи, нужно было облегчить её материальное положение. Я уже был довольно активным комсомольцем, общительным и влился в коллектив педучилища как—то естественно. Через полгода на общем собрании комсомольцы меня избирают секретарём комитета комсомола педучилища. Неловко было быть вожаком молодёжи, будучи на год – два моложе ведомых, но постепенно всё стало на свои места. Я был активен, но не заносчив.
Организовали с преподавателями разные кружки. Вот, например, струнный. Руководил им преподаватель Василий Павлович Хорев. Очень жизнерадостный человек с крупным улыбающимся лицом, чёрной шевелюрой. Для них, сельских знатоков музыки, он был кумиром. И как из нас сделать что—то стоящее в оркестре, когда играли мы на простых инструментах: кто на балалайке, мандолине и кое—кто на скрипке. И ведь он научил, заставил инструменты согласованно звучать. Когда мы понимали, что что—то получается, мы ещё больше старались. Начинали «Во саду ли, в огороде», а потом играли «Дивлюсь я на небо». Дети рвались к новизне. Он же организовал хор, сначала на два, потом на три, четыре голоса, и когда мы угадывали нюансы многоголосья, мы стремились более чётко пропеть свою партию. А когда на вечерах встречали наши выступления аплодисментами, нам хотелось ещё больше работать. Вступили в контакт с местным драмтеатром. Артисты Беляева, Сахаров, Кукушкин и другие нам казались великими, когда видели их в настоящем театре. А тут они стали с нами заниматься, готовить пьесы. И вот «Бедность не порок» на сцене. Почти все одногодки играли роли любого возраста, и получалось забавно. Павлик Суслов – Любим Торцев. Как усиленно с ним тренировали фразу: «Любим Торцев – пьяница, а лучше вас.» Убедил он нас или нет? Казалось, что от характера роли зависит и твой характер. Красивые умные парни Вася Герасимов, Коля Беляков – все они погибли в войну. Разве думали о таком конце, когда стремились к знаниям и творчеству, раскрытию своей индивидуальности?
Я увлёкся поэзией, особенно Маяковским. К нам на второй год обучения прибыли молодые учителя Берестовы Алексей Иванович и Валентина Константиновна. Их молодостью и знаниями мы были заворожены.
Они преподавали литературу и русский язык, иногда заменяя друг друга. Валентина Константиновна взяла надо мной шефство – готовить «Необычное приключение» Маяковского. И я выступал с этим много раз и потом, в других школах, и потом, в армии, в войну и после неё и везде имел успех.
И в войну, с фронта, поддерживал связь с Валентиной Константиновной, такой обаятельной и умной женщиной.
Когда бывал в Устюжне, к ним непременно заезжал. К сожалению, их семья распалась. Меня это очень удивило – что их разлучило? Вскоре Валентина Константиновна умерла, а он с другой остался жить.
Шахматы в училище стали любимой игрой. Прежде всего потому, что руководить кружком стал преподаватель математики Иван Дмитриевич Смирнов, прекрасный математик, любил точность во всём, пунктуален, видел во всех творческие начала. С ним было интересно. Появились разрядники—шахматисты. Мне удавалось чаще побеждать в турнирах. Иван Дмитриевич иногда приглашал меня домой к себе на чай. Он знал, что я жил на частной квартире или в общежитии и хотел мне создать небольшой уют. Жена его Клавдия Ивановна и дочь Галя создавали благоприятную обстановку. В доме на улице Красных Зорь почти всегда играли одну – две партии в шахматы. Силы были примерно равны. Он провожал меня в институт, давал наставления, как родитель.
И с фронта, и позднее я с ним всегда поддерживал связь, а когда бывал в Устюжне, заходил. Наверное, Иван Дмитриевич выделял меня за активное участие в кружках, общительность, активность в жизни. Во втором полугодии на первом курсе меня избрали секретарём комитета комсомола педучилища. И до окончания педучилища в 1939 году я был секретарем. На собраниях комсомольцев мы обсуждали разные вопросы об учёбе, быте, культуре, общественной работе. Принятие в комсомол было довольно строгим. Однажды не могли решить на собрании – принимать в комсомол или нет лучшую ученицу нашего класса Зою Образцову – дочь попа. Решили написать письмо секретарю ЦК ВЛКСМ Косареву и ответ получили: «На ваше решение.»
Почему я так долго удержался в секретарях? Не знаю. Была ведь хорошая претендентка – очень красивая и активная Нина Опрелова, потом заслуженный учитель Ленинграда. Наверное, не ошиблись бы, если бы её избрали.
Не помню, может быть, на втором курсе, в январе 1938 года мне дали путёвку в Ленинград на 15 дней, на каникулы. Нас с Верой Погудаловой – секретарём комитета комсомола сельхозтехникума – повезли на санях на ближайшую железнодорожную станцию Уйта.
Прибыли в Ленинград в валенках, а там дождь; не знали, что делать. Побыли во Дворце пионеров, а потом отвезли нас в дом отдыха в Петергоф, в так называемый английский дворец. Вот это было путешествие! Я впервые увидел железную дорогу и ехал в вагоне и сразу в английский дворец, где сидели, бывало, короли. А для нас удовольствие через край. Посмотрели места, где жили цари, а теперь мы из деревни Ястребцево приехали не просто смотреть, а перенимать королевский опыт, манеры. Наверное, не зря наши отцы боролись за советскую власть. Надолго нам запомнился этот отдых. В училище было что рассказать.
Из других преподавателей запомнил немку Жозефину Ивановну Рунге. Сгорбленную старушку немку. Дисциплины на её уроке не было никакой. Жаль было её. Я ещё помню. В то время не было учителей по немецкому языку. Это теперь пруд пруди. А тогда мы довольствовались и Жозефиной.
Преподаватель по истории Василий Георгиевич Белый – неплохой учитель, хотя историю из литературы знал, но говорил как—то неуверенно. Может быть, сложная биография была у него?
Преподаватель по методике педагогики Николай Иванович (забыл фамилию) был слабый, слушать его было трудно. Когда наступил период педагогической практики, я получил класс Валентины Овчинниковой – известной учительницы в городе. Практика прошла хорошо, но я убедился, что я не смогу быть учителем: не могу держать дисциплину в школе. И хотя по окончании педучилища я был зачислен в 5—процентный состав, поэтому можно было поступать в пединститут без вступительных экзаменов, я не стал использовать эту льготу и решил поступить в Ленинградский индустриальный институт. Но сначала надо было проститься с товарищами.
Выпускной вечер: торжество для нас, выпускников, и для учителей. Танцы. Я танцевал со многими девушками, но не было единственной, хотя душу отдавали многие и помнились долго. Я ведь не знал тогда, что судьба разлучит нас надолго, а с большинством навсегда. Был у нас военрук Александр Александрович Докучаев. Интеллигент, в нём всегда было что—то офицерское. Подтянутость, выверенные жесты, требовательность. Учил стрелять, строевому делу, но не физкультуре. В самом начале войны попал в плен и остался жив, но судьбой был недоволен. Директор педучилища, Николай Александрович, молодой, плотный, неспортивного вида человек, мало мы его знали, был убит на войне в первые дни.
За период учебы в педучилище я не имел постоянного места жительства. Первый год жил у папиной сестры, моей крестной, Натальи Егоровны Мушкатеровой. Это им отец отдал землю на хуторе Мелечино, а теперь они переехали в Устюжну. И вот в семье, где было пятеро детей, я был принят на квартиру. Добрая семья, хорошо мне там жилось. Но однажды я заболел там суставным ревматизмом, да так сильно, что три дня не мог шевельнуться ни ногой, ни рукой. Когда отвезли в больницу, мне уже было лучше. Вся болезнь длилась неделю. Но она настолько сковала меня, что потом, когда врачи спрашивали, чем болел в детстве, я непременно вспоминал: «Суставной ревматизм».
Потом второй и третий годы учебы жил в общежитии. К этому времени отец перевез семью в Кресты Островского сельсовета. И я на выходной каждый раз, в любую вьюгу, ходил домой 2О км пешком. Страшно подумать сейчас, как можно решиться идти в пургу так далеко. Пугало не только это – встреча с волками, с медведем. Но все обходилось, и мы с друзьями (Паня Ершова) выходили победителями. А Кресты, Щербинино – край был примечательный, лесной, грибной, ягодный, медвежий. Река Звана – рыбная. Жить бы да радоваться! Но жили—то на квартире, а потом семья переехала в Устюжну.
Я часто бывал в семье Василия Николаевича Карпушева, маминого брата, моего крестного.
Его дом красовался на другом берегу реки Мологи. Переправляла на тот берег только лодка с перевозчиком или баржа. По реке ходили маленькие пароходики или катера.
А теперь, когда я слышу песню «На пароходе музыка играет, а я один стою на берегу», мне вспоминается картина того времени, или песня «Паромщик» Аллы Пугачевой. Тоже картина того времени. Плывешь, бывало, на барже, смотришь на чистое дно реки, мелькают рыбки, маленькие и большие, так все чисто, естественно. А теперь река Молога стала зарастать травой, мелеть.
А тот красивый дом дяди Васи меня привлекал всегда. Меня там хорошо встречали. Мы с дядей Васей просто дружили. И дружба наша продолжалась долго и после войны. Он был интеллигентный, острый на язык человек, преподаватель сельхозтехникума. Всегда начищенный, подтянутый.
Побаивались, что его сочтут врагом народа. Тогда это было модно. А его друзья уже были арестованы. Один друг, Василий Павлович Коршунов, жил в деревне Шустово. И когда мы ходили из Ястребцева в Устюжну, заходили с дядей Васей к нему. Какой же это был почтенный человек, интеллигент до мозга костей, как он прекрасно играл на скрипке. Я видел его один раз, но в память он врезался. Судьбу его не знаю. У дяди Васи и его жены Анны Павловны, родом тоже из интеллигентной семьи, росли две дочери: Лида и Женя, – умные, почтенные, но разные по характеру. Это сказалось и на любви родителей. Люду любила больше мама, а Женю – папа. И между собой они не очень дружили, хотя делить было совершенно нечего. Обе хорошо в жизни устроились, выйдя замуж за военных, будущих полковников. Но недопонимание между семьями сказывалось и потом.
Семья Карпушевых была характерной для анализа культуры, образа жизни, мысли того времени. Анна Павловна выросла в интеллигентной семье, в той, для которой были характерны быт и культура времени гоголевского «Ревизора». Известно, что идею «Ревизора» Гоголю подал Пушкин. И местом, куда послал Гоголь ревизора, был провинциальный городок Устюжна. Вот там и жили Пустынные (Анна Павловна), не бог весть какие интеллигенты, но все же. А дядя Вася был из простой крестьянской семьи. Он быстро вбирал все новое, но и к старому его тянуло, иначе бы он не женился на Анне Павловне. В их семье так и шла эта тихая борьба между старым и новым. Анна Павловна с трудом воспринимала грубость, резкость, щепетильность, борьбу с религией, хотя она и не была верующей. Рядом с их домом стояла церковь высокая, красивая, так вот ее огромными усилиями толпы опрокинули наземь. Многие горевали, в том числе и Анна Павловна. В высказываниях она была сдержана, плохих слов не позволяла употреблять и когда слышала такую же ответную речь, ей это нравилось. Она противилась необычному, хотя и новому, но грубому. Против этого она была бессильна. Но дядя Вася ее во многом понимал и поддерживал. Какую—то надежду имела Анна Павловна и на меня. Я хоть и шел вместе с новым, но за счет прочитанных книг и контактов с интеллигентными людьми я лишен был грубости, вероломства. Анна Павловна не приучена была к физическому труду. И она с трудом привыкала к огородным делам, к яблоневому саду, к пасеке, что культивировал дядя Вася. А ведь потихоньку привыкла, и даже стало все ей нравиться. В общем, это благополучная семья. Но моей семье, когда переехала в Устюжну, негде было жить, поселились в их семье. Это было непросто.
Родители мои, четверо детей, я уже уехал, стали вместе жить в семье на 4—х человек, в небольшом из З—х маленьких комнат, доме. Трудно Анне Павловне с этим было смириться, но она привыкла, и жили дружно. Спасибо ей за это.
Она видела трудолюбивых воспитанных, моих братьев и сестру, и ставила в пример другим семьям. Но у нее был один недостаток. Не любила, когда кто—то много ест или просто торопится, надо было это делать размеренно, постепенно. Уже и после войны, когда мы приходили к ним в гости, приглашение на накрывание стола и что подать проявлял дядя Вася. Правильность сервирования – это было за Анной Павловной. Конечно, поставленные яблоки, мед быстро улетучивались со стола, это ее беспокоило, но дядя Вася требовал еще. Мы это понимали и часто заранее отказывались. Но в целом это была гостеприимная семья, и мне доставляло большое удовольствие бывать у них. Тем более, вместе с нами росли и развивались Лида и Женя, которые свыкались с нашей новизной.
Иногда приходилось уточнятъ, что развитие человека не зависит от того, чем он питается – щами с картошкой или пирогами с медом и другими сладостями. Пожалуй, грубая пища больше воодушевляла на поиск нового, на устремление мысли, а сладости умиротворяли человека, делали его довольным, стремящимся к покою. А дядя Вася был задорный, энергичный и искрил юмором. С ним было интересно в любом вопросе.
А распадалась семья трудно – дочери со своими семьями обосновались одна в Ленинграде, другая в Калининграде, жили в достатке. В Устюжну с внучатами приезжали каждое лето. На левонабережной их с радостью встречали. Потом ушла из жизни Анна Павловна. Один дядя Вася не мог долго жить. Стали отниматься ноги, перестал ходить, и увезли его умирать к дочери Жене в Калининград.
А красавец – дом остался никому не нужным. Дочери его продали за 20 тысяч рублей. Когда я в семидесятых годах поехал посмотреть дом, из окна выглядывала новая хозяйка с аккордеоном в руках.
Мне было горько и жаль умерших. Через несколько минут из ворот выехал на «Москвиче» хозяин с гордым видом торгового работника: вот, мол, все могу.
Да, власть переменилась.
Вернусь к выпускному вечеру 1939 года. Как мы ждали все этого!
Ведь каждому надо выбирать свою дорогу. В парке парами гуляли до утра. Клялись не забывать друг друга, писать, советовались, что делать дальше. Я проводил время с Таней Плисовой и Валей Укладниковой. Потом они писали мне и на фронт. Таня одела шинель, а Валя исчезла с горизонта.
Большинство учеников стали учителями, а ребята попали в армию. А потом война, и из класса в живых из парней остались двое: Иван Быстров и Юра Симонов, попавший с первых дней войны в плен, он был освобожден после войны. Иван от ран скоро умер, а Юрий прожил долгую жизнь на заводе в Днепропетровске.
Я после долгих раздумий, советов пошел сдавать вступительные экзамены в Ленинградский индустриальный институт. Проспект ЛИИ пестрил академиками и профессорами. Думал: «Куда я лезу?». Подал заявление на инженерно—физический, где конкурс был около 20 человек на место. И именно физика меня и подвела – тройка. Русский устно и письменно – пятерки, математика устно и письменно – пятерки, но по конкурсу не прошел. Мне предложили на инженерно—экономический факультет, там конкурс был намного меньше, но был. Я со своими баллами был принят на этот факультет.
Поселили в общежитии – в студгородке. Прекрасная комната на двоих. Я и Женя Зиновьев. Где-то он теперь? Мне там мало приходилось бывать. Днем – учеба, вечером – или кружки или разгрузка вагона. Надо было зарабатывать деньги. От родителей мне было ждать ничего. Конечно, и я и родители сил затрачивали много, а зарабатывали мало. Но жить—то надо. Один раз дошло до того, что денег на еду – ни копейки. И мы с Зиновьевым решили пойти в кафе бесплатно поесть. На Невском было такое кафе, где доверие было больше к посетителям. Заказывали мы недорогие блюда, лишь бы наесться. И потом тихо ушли. Это было первое мое преступление, сделка с совестью. Но другого выхода не было. А когда возвратился в общежитие – на столе лежит перевод из дома на 25 рублей. Как я себя ругал, что не смог дождаться. Но что было, то было.
Я, конечно, сразу записался в шахматный кружок. Руководил—то им Ботвинник! Не то, что играть с ним, даже посмотреть бы на него, и то интересно. В то время он уже закончил аспирантуру ЛИИ, был преподавателем и чемпионом СССР, премирован личным автомобилем.
В общем, наш кумир. И вот на одном занятии он был. Нас, новичков интересовали не столько шахматы, сколько он сам. И всё же с ним я через 10 лет играл.
Наша учёба продолжалась недолго – всего 2 месяца. Вышел указ о мобилизации лиц со средним образованием, достигших 18 лет. Я подходил и больше половины поступивших – также. Как только узнали об этом родители, приехали вдвоём провожать меня в армию. На последние гроши приехал отец, купил 3 кружки пива, и мы отметили мой уход в армию. Мать заплакала, а отец долго—долго давал наказы. Да, я уже оторвался от дома. И, как оказалось, надолго. После расставания с родителями я возвратился в студгородок. Там никого не было, мне стало грустно, я лёг на кровать, но заснуть не мог. Мысли сменяли одна другую. Предстоит опять новая жизнь.

