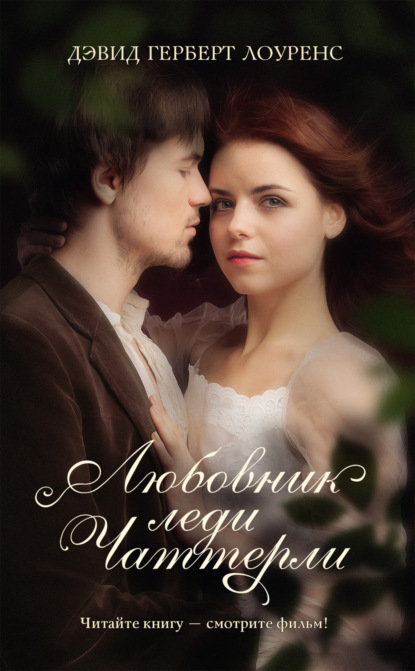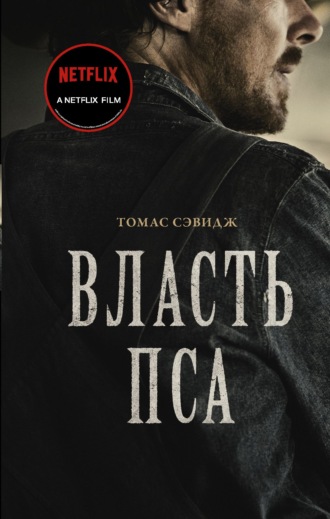
Полная версия
Власть пса
В школе Питеру сообщили, что отца его видели с девицей легкого поведения.
Это было правдой. Джонни говорил с проституткой, что начинала в одном заведении в Солт-Лейк-Сити, а когда прошла цветения пора, разругалась со всеми, села на поезд до Херндона и устроилась в красно-бело-синие комнаты. Все считали девушку выжившей из ума. В Херндоне ее не раз видели на коленях перед кроватью: она стала много молиться и рыскать по ночам в поисках церквей, две из которых никогда не закрывались. Если бы не странное поведение, девушке удалось бы ускользнуть от зоркого взгляда хозяйки борделя, заметившей у подопечной признаки чахотки. Однако, заботясь о чистоте своего заведения, мадам предпочла отправить больную в Бич, где клиенты были не столь привередливы, и девушку по имени Альма ждали с распростертыми объятиями. «Бог тебе в помощь, – наставляла ее хозяйка, – ты ж во всем на него полагаешься».
И она приехала в Бич с чемоданом, в котором хранились несколько кимоно, пачка «Мило вайолетс» и фотография отца, вышвырнувшего ее на улицу. Если бы только она слушалась его! Разве стал бы он наказывать, если бы не любил?
Для доктора Джонни было ясно, что Альма страдала вовсе не от чахотки. Он видел это по глазам, состоянию кожи, течению ее мыслей. Джонни обладал поразительным даром распознавать диагноз. Живи он в другое время, стал бы преуспевающим врачом и сидел бы в кабинете с тяжелой испанской мебелью и персидскими коврами. Увы, так уж бывает, что рождаемся мы не в то время и не в том месте. Осматривая пациента, Джонни будто слышал в своем стетоскопе шепот, подсказывающий ему верный диагноз. Этот дар перешел и к сыну.
Джонни угостил Альму выпивкой и, отведя в сторону, сказал:
– Тебе нельзя больше этим заниматься.
– Бог велит мне работать, – сделав глоток, отвечала та.
– Не ради себя самой.
– Этим я ничего не должна.
– Должна. И ты это знаешь. Иначе не говорила бы столько про Бога. Ты знаешь, чего он хочет.
– А если Бог обманул меня? – Девушка задумчиво коснулась лица тыльной стороной ладони. – Что тогда?
Несколько дней она провела в постели и теперь едва стояла на ногах.
– Воздержись от любых связей, хотя бы на время.
Так, ночь за ночью и рассвет за рассветом прошел еще один месяц.
– Ей осталась неделя, может, чуть больше, – говорил Джонни Роуз, – но с постели она больше не поднимется. Сказали, не хотят, чтобы она у них померла. Да и та еще радость – умирать в такой каморке. Конечно, – вздохнул он, доставая пачку «Свит кэпорал», – кто-то скажет, что большего ей и не причитается…
– Я уже постелила ей наверху, Джон.
Губы доктора растянулись в кривоватой улыбке. Он подошел к жене и легонько коснулся ее подбородка.
– Ты моя маленькая миссис Вандербильт.
– Нет, – покачала она головой, – миссис Гордон. Миссис Джон Гордон.
С тех пор постоялый двор прозвали в городке шлюхиным двором, ведь именно здесь скончалась безумная набожная проститутка. И многие благопристойные женщины Херндона и Бича, завидев Роуз на улице, хоть та и оставалась докторской женой, не решались с ней поздороваться. Непросто было простить ей красоту – беспечную и бескорыстную красоту бабочки, – беглую улыбку и горделивую осанку.
– Он станет доктором, говорю тебе! – в сердцах восклицал Джонни. – Как он читает все время! Как он смотрит на мир широко открытыми глазами, ты замечала? Ведь это так важно! Он обожает факты.
Питер и правда обожал факты. В свои двенадцать он запирался в комнате с томами «Британники», изучал рисунки Везалия, читал Гиппократа и отдельные места из Вергилия, а также штудировал медицинские журналы, которые его отец уже давно перестал распаковывать.
– Он достигнет таких высот, какие мне и не снились, – утверждал Джонни, и при мысли о славном будущем сына его сердце наполнялось гордостью. – Вот увидишь!
– Ты и сам не так уж и плох, – напомнила ему Роуз.
– Не плох? Меня разве что добрым однажды назвали. Я себя не обманываю, в этом и есть моя сила. Не замечала, любой мужчина мечтает о том, чтобы сын превзошел отца? Я вот заметил. И с тех пор уверен в себе, как никогда прежде. Конечно, у всех есть недостатки…
Так, признавая их, мы и оправдываем свои неудачи.
Иногда, хорошенько подвыпив, Джонни чувствовал себя ровней владельцам ранчо: да, у них были деньги, зато у него – образование. Когда после прибытия стада укладывалась пыль и ковбои приступали к веселью, доктор заглядывал в салун и, как говорил бармен, вклинивался в беседу. В своем темном парадном костюме с накрахмаленным воротничком Джонни излагал лучшим из них собственные размышления о политике, образовании и о судьбах Европы. «Так и знайте, – разглагольствовал он, – скоро там начнется война, в которую они и нас втянут, и тебя, и меня». Ковбои считали его сумасшедшим, однако Джонни как будто не замечал, как собеседники отшатывались, когда язык его начинал заплетаться, выпивка лилась мимо рта, а он принимался хватать всех за руки. Впрочем, многие его уважали, кто-то жалел, а кто-то вспоминал историю о том, как, только приехав в город, доктор отправился на дорогу смотреть на огромное стадо волов. Как прямо над его головой пустили пулю, осыпая проклятьями. Как он бежал и прятался за товарной станцией. Господи, сколько же часов он там просидел!
Однажды Джонни случилось завести разговор не с тем человеком. Владелец ранчо стоял в сторонке, когда молодой доктор решил обсудить последнюю осенившую его идею – отсутствие гражданского самосознания у обитателей Бича. Почему они не могут покрасить здание школы? Почему, не унимался Джонни, сваливают мусор прямо на холме, у всех на виду? Зачем оскверняют сей прекрасный край?
– Вот взгляните! – воскликнул он, показывая сквозь дверь салуна на холм, где в лучах солнца искрились жестяные банки и кучи битого стекла. – Еще футов десять, и мусор свалится на кладбище. Просто бельмо на глазу, вот как я это называю.
– А я бы тебя так назвал, – заговорил мужчина.
– Простите, сэр? – искренне не понимая, переспросил Джонни.
Ответа он не получил, лишь неясный одобряющий гул прокатился по салуну.
– Или возьмем цветы, – продолжал доктор. – В какой городок ни приедешь, там и сям, куда ни взгляни, всюду будут цветы. И сразу понятно, что есть у жителей, что называется, гражданское самосознание, гражданское от слова «город»! Вот представьте какую-нибудь железнодорожную станцию, да хоть ту, что в Херндоне, – какая там чудесная клумба с цветами, какой прекрасный зеленеет газон. Проезжают мимо люди на машине, смотрят на эту красоту, и от города у них остается самое приятное впечатление. Неудивительно, что потом они возвращаются, а кто-то даже решает в таком городке обосноваться. – На секунду Джонни замолчал, многозначительно уставившись в свой стакан, но, вдохновленный тишиной вокруг, продолжил с новыми силами. – Кстати, про цветы. Вот, к примеру, что мы сделали с женой и сыном…
Вместе с женой и сыном они украсили постоялый двор, заметил ли это кто-нибудь? Заметил ли кто-нибудь увитые хмелем стены по сторонам от крыльца? А ведь для того, чтобы побеги правильно росли, нужен хороший каркас – иначе они свалятся под собственным весом в одну большую зеленую кучу! Лианы хмеля, калифорнийские маки, настурции – если хорошенько поливать, все они прекрасно растут в Биче.
– Не раз, наверное, замечали, как мы поливаем цветы у дома.
И снова заговорил владелец ранчо:
– Не тебе ли случайно я пару лет назад чуть не прострелил голову?
– Что, простите?
– Не ты ли, говорю, поливал цветы, когда я зарядил пулю над твоей башкой?
– О, это вы сделали? Не буду спорить, заслужил. Не разобрался тогда еще в местных порядках.
– Нда?
– Потом наступает зима, – продолжал свою речь Джонни. – Зимой нет цветов, не так ли? Поэтому-то по осени жена моя с сыном выбираются за город за всякими травами. Многие считают их сорными, а вот мы их засушиваем – и цветы у нас круглый год.
– Нда… – пробормотал хозяин ранчо, и в зале послышался хриплый кашель.
– Это еще не все, – сказал Джонни, плеснув в стакан виски, – у моего сына золотые руки, руки хирурга. Он так может скрутить креповую бумажку, что получаются искусственные цветы. Именно их вы найдете на нашем столе, если заглянете отужинать на постоялый двор в зимнюю пору. Вы даже не представляете, мальчику двенадцать лет, а он изучает рисунки Везалия и читает очень серьезную литературу! В двенадцать лет! Представляете?
– А еще мастерит бумажные маки, – добавил мужчина.
– Сэр?
Джонни почувствовал острое желание впечатлить своих собеседников еще сильнее и принялся цитировать по-гречески высказывания о цветах.
– Это еще что? – оборвал его хозяин ранчо.
На лице Джонни засияла улыбка.
– Греческий, сэр. Все врачи учат греческий, обязательная часть их изнурительной учебы.
– Непохоже на греческий.
– О, я вас уверяю, сэр.
– Плохо же ты учился, – расхохотался мужчина. – По-гречески этот цветок называется «йоос»[4]. Их возлагали на могилы.
Смех выстрелом раздался в голове Джонни. В недоумении он обвел толпу взглядом, однако утешения в ней было не сыскать.
– Что ж, сэр…
В салуне повисла тяжелая вязкая тишина, и вновь раздался голос хозяина ранчо:
– А такое слышал, доктор? – И он зачитал по-латыни строфу из Овидия. – Что скажешь?
– Зачем вы мне это говорите? – залившись краской, спросил Джонни.
– Верю в силу правды, доктор. Потрудишься рассказать нам, что это значит?
– Нет, сэр.
– Тогда я сам расскажу. Это значит, что ты задница лошадиная. И коли на то пошло, такой же и твой сопляк сын.
Не сводя с него глаз, Джонни снял шляпу и, проведя рукой по волосам, вернул ее на место.
– Мой сын не сопляк.
– Так о нем говорят местные мальчишки.
– Все потому, что он читает! Потому что он думает!
– Потому что он мастерит бумажные маки и не знает, как фол отличить от флайбола.
Глупо было говорить, мол, «никто не смеет называть моего сына сопляком!». Потому что хозяин ранчо смел. Схватив Джонни за грудки накрахмаленной белой рубашки, мужчина поднял его в воздух, потряс и рывком отшвырнул в сторону. Мокрой тряпкой доктор врезался в стену, повалился наземь и не смог подняться. Когда через некоторое время ему удалось встать на ноги, он, не оглядываясь, перешел дорогу и побрел через пустырь к постоялому двору. Вслед ему кричали встревоженные сороки, поедавшие мертвого суслика.
– Господи! Что с тобой? – запричитала Роуз. – Кто порвал тебе рубашку?
– Я подрался, Роуз.
– Боже, тебе больно?
– Нет, Роуз, все в порядке. Просто хочу лечь в постель.
– Если ты невредим, с чего бы тебе хотелось в постель, Джон?
– Не знаю. Просто хочу. Где мальчик, Роуз? – добавил он, поднявшись со стула.
– Я не знаю.
– Ну, как ты думаешь?
– Думаю, он пошел к реке, – пробормотала она.
– Не хотел бы, чтобы он видел, как я дрался.
– О, не переживай.
– Роуз… Роуз?
– Да, Джон?
– Роуз, я соврал тебе. Я не боюсь, что он увидит. Может, в том и есть моя беда, что я не могу выдержать правды?
– Не очень понимаю, о чем ты, Джон.
– Я сказал, что не хочу, чтобы Питер видел, как я дрался. Только что.
– Ага.
– Так вот, это неправда.
– Почему? Разве ты хочешь, чтобы он увидел?
– Да. Именно.
– Чего? Зачем?
– Показать ему, что я хорош в драке, – скривился Джонни.
– Есть вещи и получше, чтобы ему показать, прекрасно знаешь.
– Если ты хорош в драке, то можешь повалить любого, кто порвет твою рубашку, швырнет тебя о стену и назовет твоего сына… назовет твоего сына сопляком. Ну вот. – Он прикрыл глаза. – Рассказал.
– Что рассказал?
– Рассказал всю правду. Не хочу, чтобы он видел, как его отца швыряют о стену у всех на глазах.
– Он и не видел, Джон.
– А кто знает? В салуне было шумно. Люди всегда собираются на шум.
– Уверена, он у реки. Ему есть куда пойти.
– Какой позор, – глядя жене в глаза, убивался Джонни, – какое унижение, какое ужасное унижение. Для мальчика.
– Так для тебя или для мальчика? Если человек смиренный, унизить его невозможно. Разве не этому учил нас Господь?
– Господь… Не приложишь мне холодное полотенце?
Приложив полотенце на лоб мужа, Роуз просидела рядом с ним до тех пор, пока тот не уснул. Она думала, что, проснувшись, Джонни попросит немного выпивки, чтобы прийти в себя, и она, как обычно, нальет ему капельку – он никогда не просил больше, чем требовалось. Однако, когда Джонни очнулся, он только смотрел в никуда и ни о чем не просил. Ни о чем. Роуз сама предложила ему выпить, ведь он так часто повторял, что виски притупляет боль, а сейчас Джонни страдал именно от боли.
– Нет, – отказался Джонни.
Роуз принесла ему поесть, но суп так и остыл нетронутый. Джонни лежал, сцепив руки поверх одеяла. Клонился к закату день, погасли огни, полетели к югу гуси. Из салуна за пустырем послышался веселый звон механического пианино.
Амбар, над которым вертелась мельница, был пристроен к постоялому двору. Согревала его маленькая дровяная печурка, наполнявшая комнату запахом дыма и керосина. Вдоль стен Питер устроил полки, слегка провисавшие под весом медицинских книг его отца. Здесь же стояли чучела кроликов и сусликов, мензурки, реторты и прочие приспособления для химических экспериментов. В амбаре Питер скрывался от боли своей ежедневной Гефсимании, от школьных насмешек и издевательств. Здесь он уходил в свой собственный мир, в котором не нужно было бояться. Мальчик сидел за столом с тяжелым, погруженным в себя взглядом – чутким взглядом глухого. Его бледное лицо было таким гладким, что Джонни задумался: придется ли сыну когда-нибудь бриться? Ничто не выдавало чувств мальчика, лишь легонько билась вена на правом виске.
– Мама твоя сказала, ты хотел мне что-то показать? – заговорил Джонни.
– Да, новый образец.
– Ты как будто к чему-то прислушивался, – подходя к столу, отметил Джонни.
Чтобы подсветить линзу, мальчик закрепил на деревянной подставке фонарик.
– Ого. Какой редкий.
На стеклышке красовалась бацилла, способная убить грызуна.
– И рисунок какой!
Неспешно выпрямившись, Джонни подошел к мальчику со спины и по-старчески положил ладони на его худенькие плечи.
– У тебя удивительные руки, Питер, – слегка скривившись, пробормотал он. – Дай-ка я взгляну.
Взяв мальчика за руку, он посмотрел на его гладкую ладошку.
– Так смешно это все.
– Что смешного, отец?
– Ну, – улыбнулся Джонни, – наверное, то, что отцу сложно это произнести. Должно быть, так же думал и мой отец, и потому никогда не говорил. Но я все же скажу. Скажу, Питер… что я люблю тебя.
Ничего не ответив, мальчик уставился на отца своими огромными глазами, в которых, казалось, отражалась вся комната, целый мир. Только голубая скрюченная венка на правом виске слегка набухла. Джонни уж собрался уходить, как Питер произнес:
– Я тоже люблю тебя, отец.
Джонни смущенно прикусил губу и, когда способность говорить вернулась к нему, отозвался:
– Вот и славно. Знаешь, что еще я хотел тебе сказать?
С порывом холодного сухого ветра над ними без всякой цели и без всякой пользы закрутились лопасти. Джонни так и не починил мельницу, хотя плечо о ее крылья он разодрал задолго до рождения своего чудного сына.
– Не знаю, отец, – прошептал Питер.
– Я хотел сказать, не стоит обращать внимания на то, что говорят люди. Им никогда не понять чужой души.
– Даже думать о них не буду.
– Нет, Питер, пожалуйста, не говори так. Обычно те, кто не смотрит на людей, вырастают сильными, очень сильными. Но ты должен быть добрым. Добрым, понимаешь? Ты сильный, и потому ты сможешь сделать людям очень больно. Знаешь, что значит быть добрым, Питер?
– Не уверен.
– Что ж, быть добрым – значит устранять все препятствия на пути тех, кого любишь и кто в тебе нуждается.
– Ясно.
– Я сам всегда был таким препятствием, – закусив губу, пробормотал Джонни, – но сейчас полегчало. Спасибо за понимание. А теперь я должен идти.
С робкой улыбкой на губах он простоял еще немного и, подойдя к Питеру, коснулся рукой его головы и прошептал:
– Ты хороший, хороший мальчик.
А после ушел в одну из комнат наверху.
Услышав наверху шум, Питер поднялся следом за Джонни.
– Питер? – крикнула мальчику Роуз. – Питер? Что тебя туда понесло?
Мальчик ничего не ответил.
– Не разбуди отца! – раздался снизу отчетливый шепот Роуз. – Должно быть, он очень устал.
– Сейчас спущусь.
Спустившись, Питер замер в дверях кухни и окликнул Роуз. Но не по имени, как он обычно к ней обращался, а назвал ее матерью. Слово это прозвучало так странно, так официально, что Роуз обернулась от печи, где кипятилась вода для чая.
– Да, Питер?
В руках у мальчика был черный гребешок, который он всегда носил с собой. Наверное, только закончил расчесывать свои светлые волосы. Не решаясь заговорить, Питер провел пальцем по зубьям гребня, а потом еще раз и еще раз. От скрежета Роуз стало не по себе.
– Питер, умоляю.
Глядя сквозь нее, он смотрел на стену кухни.
– Что ты там увидел?
Питер пытался подобрать слова – сообщить матери, что минуту назад перерезал веревку, на которой повесился отец. Одну из тех веревок, что лежали сложенные в кольцо на окне. На случай пожара.
III
Сперва соседи, а затем, когда разошлись слухи, и заезжие туристы стали коситься на постоялый двор, где случилось самоубийство. Из дверей салуна на крутящуюся мельницу за пустырем глазели посетители и дивились отважности хорошенькой девушки, что выбегала на улицу снять белье и одну за другой стягивала с веревки вещи, но больше не поливала цветы. Некоторым из гостей ужасно хотелось взглянуть на девушку и мальчика поближе – узнать, остались ли на лицах следы былой трагедии? Постоялый двор работал теперь как ресторан, правда, из-за дурной молвы посетителей в нем было немного: комната, где предполагалось отобедать, находилась прямо под тем местом, где случилось это, что неизбежно наводило на мысли о смерти и разочарованиях в собственной жизни.
Не выдерживав безнадеги Бича и его окрестностей, многие, кто знал Джонни, покинули город. Реже стали ломаться автомобили, а потому закрыл свое заведение мужчина, который переоборудовал старый амбар в ремонтную мастерскую, и поросла бурьяном красная бензоколонка. Разорилась куриная ферма. Так и не смог добиться успеха мужчина, продававший странные причудливые камни и окаменелую древесину. В салуне появились новые бармены.
Сам постоялый двор был выкрашен нынче в красный и переименован в «Красную мельницу». Здесь по-прежнему останавливались коммивояжеры, следовавшие через Бич, слишком уставшие, чтобы обращать внимание на местные слухи, или приезжавшие слишком поздно, чтобы кто-то успел о них поведать. Впрочем, помимо грязной комнатушки над магазином, выбора в городе почти не оставалось. Отвлекала от сплетней и война, заставлявшая людей уживаться с мыслью, которая буквально переворачивала их сознание: те, кого они знали, с кем выпивали, ссорились, кого любили и кому изменяли, погибли в окопах Франции. Как это возможно, не верили они, наблюдая за солнцем, заходящим за горы, – как это возможно, чтобы те, кого они знали, лежали мертвыми во Франции?
Пока салуны стояли закрытыми, всего за десять долларов Роуз Гордон выкупила в одном из них механическое пианино, стоившее не меньше двух тысяч! Но вскоре салуны вновь опасливо открыли свои двери. Теперь ими заправляли бутлегеры, возившие из Канады автомобили марки «хадсон». Кто быстрее – «хадсон» или «кадиллак», спросите вы. Что ж, скажу вам, что однажды Пол Маклафлин, прокурор Херндона, на своем «кадиллаке» и Джерри Диснард, бутлегер на «хадсоне», решили опробовать новую дорогу, и Макмафлин Диснарда все-таки обогнал…
Итак, благодаря войне и бутлегерам с их ночными перегонами машин из Канады старая история о самоубийстве перешла в разряд мифов и городских сказаний. Подробности забывались, и потому одни рассказывали, что Джонни застрелился, а другие – что выпил яд, который легко мог раздобыть, будучи доктором. Третьи считали, что Джонни попросту исчез, бросив жену с ребенком. При этом все они восхищались девушкой, которой хватило смелости остаться и превратить заведение в своего рода придорожный ресторан. Чтобы заглянуть в салуны бутлегеров и отведать жареной курочки в «Красной мельнице», в Бич приезжали даже франтоватые, разбогатевшие на войне толстосумы, мчавшие из Херндона на своих «мерсерах» и «штутцах». Что-то необыкновенное делали с обсыпкой в этой курице!
Конечно, если угодно, здесь можно было заказать и стейк, и горячий тающий во рту бисквит, и душистый салат из латука. В отличие от других заведений, где кофе по полдня томился в баке, в «Красной мельнице» его подавали свежесваренным. Для тех, кому после ужина хотелось потанцевать, имелось механическое пианино и старые добрые мелодии: «Все как у цыган», «Жанна д’Арк», военные песни, не пользовавшиеся, правда, особым спросом, «Чай на двоих» и «В свете звезд».
«А что мальчик?» – «Он обслуживает столики, но хозяйка сама подходит узнать, все ли тебе понравилось – а нравится здесь все».
«Но все же как он?»
«Да откуда мне знать? Должно быть, заканчивает школу, а может, еще не заканчивает. Ну и взгляд у него: смотрит, но не видит тебя или же видеть не хочет. Такой часто бывает у чересчур умных детей. Слишком много учатся. Кем он станет? Доктором? Не знаю. Конечно, это дорого, кто будет спорить. Думаете, она зарабатывает достаточно? Но все же я бы заехал к ним на вашем месте, забронировал столик и заказал бы жареную курочку. Девушка сыграет вам на пианино. Она, говорят, тем и жила раньше, что играла на пианино».
Из отрубей и водянистого молока, которое поставляли с засушливых земель фермеры, Питер замешивал кисловатое месиво. Он же откармливал цыплят и, когда приходило время, забивал их. Роуз даже смотреть на забой не могла, не могла и не смотрела. Чтобы не слышать чудовищных воплей, она уходила в дом, закрывала двери и окна, а иногда даже принималась петь, затыкая уши, пока Питер спокойно отлавливал куриц, загоняя их в угол птичника. Курицы понимали, что последует дальше, и Роуз знала, что последует дальше, потому она затыкала уши и начинала петь.
Считая этот способ гуманнее и надежнее топора и колоды, Питер сворачивал курицам шеи. Резко схватив птицу, он поворачивал запястье – и, пару раз встрепенувшись, обезглавленная курица падала на землю. Тушка дергалась в конвульсиях, подпрыгивала и хлопала крыльями, а оторванная голова пораженным взглядом смотрела на собственное трепыхавшееся тело. Лишь тогда смыкались веки на курином глазу, когда тушка успокаивалась и валилась замертво – и все было кончено, все было кончено. Ни разу Питер не запятнал свою чистейшую рубашку брызгами крови: оттачивал сноровку, будто готовясь к будущей карьере. Когда тушки были ошпарены и ощипаны, а остатки перьев опалены, курицы воспринимались уже не как живые создания, а как еда, и Роуз могла приступить к жарке.
Все было готово к приезду ковбоев. От бармена, говорившего с одним из Бёрбанков по телефону, Роуз узнала, что им понадобятся двенадцать кроватей и курица на ужин. Чтобы освободить комнаты, хозяйка принесла свою раскладушку на кухню, а Питер перебрался в мельничный амбар, поближе к отцовским книгам. Все было готово к приезду, даже тщательно заточенный карандаш лежал рядом с книгой учета. «Боже, а что, если Бёрбанки будут приезжать сюда каждый год, а за ними подтянутся ковбои и с других ранчо?.. Ох боже!».
Питер редко улыбался кому-нибудь, кроме матери.
Как же воспряли духом, приблизившись к Бичу, молодые ковбои! Местные земли были населены чуть гуще, и зоркий глаз еще с дороги мог зацепить крыши домов и амбаров на крошечных ранчо. Сквозь стадо, распугивая скот, пробирались редкие автомобили, и волы обступали похожие на скалы машины, словно поток, огибающий камни. Рисуясь перед водителями и пассажирами, молодые погонщики пришпоривали лошадей, и те, как безумные, шарахались и вставали на дыбы. Глядя на них, Фил ухмылялся. Вот же юные болваны! По правде, Фил любил своих ребят. Да, им и не сравниться с ковбоями прошлого, да, им и далеко до Бронко Генри, но из тех, кого можно найти сегодня, они определенно лучшие. Здесь уж Джордж прав как никогда – нужно идти в ногу со временем, смириться с автомобилями и рекламными вывесками, что висели теперь на каждом столбе, на каждом заброшенном амбаре или сарае. Раз уж женщина открыла свое заведение, больше им не придется брать пайки от миссис Льюис на вечер в Биче. На самом-то деле Фил был совсем не прочь разделаться с хорошим ужином из жареной курочки, и живот его издал мощный оглушительный рев.
Практически всегда в баре удавалось встретить старожилов, еще не забывших, какой была страна раньше, потрепать с ними языками и пропустить по стаканчику. Фил любил угощать друзей выпивкой и наслаждался тем, как с приездом Бёрбанков город целиком оказывался в их распоряжении. Всяческий сброд вроде железнодорожников-мексиканцев, даже не говорящих по-американски, тупиц фермеров с засушливых земель и пастухов-овцепасов с северных окраин города не решался приближаться к ковбоям и держался от бара на почтительном расстоянии.