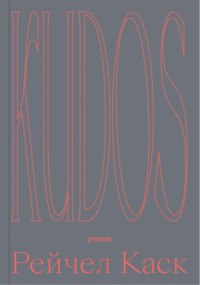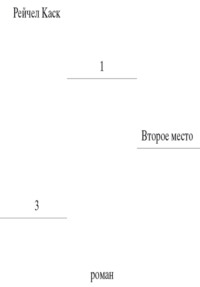Полная версия
Транзит
Я спросила его, почему он использовал слово «вина» для описания того чувства, которое люди обычно называют тоской по дому и которое возникло у него просто потому, что он оказался в незнакомом мире.
– Мне казалось неправильным делать выбор, – сказал Джерард. – Казалось неправильным, что моя жизнь зависит от выбора.
Он встретил Диану случайно в очереди в кинотеатр. В Торонто он поехал на полгода по исследовательскому гранту в области теории кино. Он подал заявку на грант с полной уверенностью, что не получит его, – и вот он уже там, далеко от дома, стоит в двадцатиградусный мороз в очереди в кинотеатр, чтобы посмотреть любимый фильм ужасов «Ночь живых мертвецов». Диана, как оказалось, тоже любит хорроры. Она работала на Си-би-си, и ее должность предполагала полную занятость. Они встречались уже несколько недель, когда человек, которому Диана платила деньги за выгул ее собаки Трикси, большого и энергичного пуделя, уехал из города. Собака была постоянным источником беспокойства для Дианы: в то время она работала на очень сложном проекте, уходила из дома рано утром и возвращалась уже в ночи, для Трикси же одного часа прогулки с незнакомым человеком было явно недостаточно. Диана была страстным любителем собак и относилась к ситуации с Трикси крайне серьезно. В этих кризисных обстоятельствах ей бы пришлось пристроить собаку в новый дом, «что для нее, – сказал Джерард, – было равноценно тому, чтобы отдать собственного ребенка в другую семью».
Джерард, хоть и не знал Диану достаточно хорошо и совсем ничего не знал о собаках, предложил свою помощь. По вечерам он преподавал в колледже, но днем более или менее принадлежал себе. Он планировал вернуться в Лондон в конце семестра, но пока был готов приходить к Диане каждый день, брать Трикси на поводок и идти с ней играть и прыгать в парк.
Поначалу собака пугала его – она была большая, своенравная и молчаливая, но вскоре ему стали нравиться их совместные прогулки в новые для него районы Торонто. Они позволяли ему избавиться от необходимости ежедневно совершать выбор, хотя иногда он смотрел на себя, гуляющего с огромной собакой по незнакомому городу, и удивлялся тому, как он вообще до такого дошел. Примерно за неделю это стало для него привычкой, и он, по крайней мере, перестал так сильно нервничать, когда открывал входную дверь, а собака вставала и начинала рычать. Она охотно шла с ним, вышагивала рядом, подняв голову, и он вдруг обнаружил, что и сам стал держаться более горделиво рядом с этим молчаливым зверем. С Дианой они почти не виделись, но он чувствовал, как между ним и Трикси возникает близость. Однажды он подумал, что нет никакой необходимости держать ее на поводке – это было даже оскорбительно по отношению к ней, так как она вела себя очень сдержанно и дисциплинированно. Не раздумывая, он наклонился и отстегнул поводок, и в ту же самую секунду Трикси убежала, а он остался стоять на оживленном перекрестке на Ричмонд-авеню. Минуя городской транспорт, коричневой стрелой она унеслась в сторону жилых кварталов и исчезла из виду.
Странно, сказал он, но, стоя там на тротуаре с болтающимся в руке поводком, глядя на лабиринт бесконечно простирающихся во все стороны серых улиц Торонто, он впервые почувствовал себя как дома: ощущение, что он непреднамеренно спровоцировал необратимые изменения, что он совершил ошибку, которая проложила ему путь вперед, было наиболее глубоким и знакомым из всех, что он когда-либо испытывал. Совершив ошибку, он пережил потерю, а потеря была порогом к свободе: нелепым и неудобным порогом, но единственным, который он мог бы перешагнуть. Обычно он оказывался по ту сторону порога в результате событий, которые приводили его туда. Он вернулся в квартиру Дианы и ждал ее там до наступления темноты, не выпуская поводок из рук. Она вернулась и сразу же поняла, что случилось. Это может показаться странным, добавил Джерард, но их отношения начались именно тогда. Он уничтожил то, что она больше всего любила, а она своими ожиданиями взвалила на него больше, чем он мог выполнить. Сами того не желая, они нашли самые уязвимые места друг друга. Сократив путь, они пришли в ту точку, в которой для них обоих отношения обычно заканчивались, и начали двигаться вперед.
– Диана лучше рассказывает эту историю, – добавил Джерард, улыбнувшись.
К этому времени мы зашли в парк, через который можно было легко срезать путь до метро, минуя несколько жилых улиц. В этот час он был почти пустой. Несколько женщин стояли на территории огороженной детской площадки, присматривая за своими детьми или поглядывая в телефоны.
Они остались в Торонто еще на полтора года, продолжил Джерард, в это время и родилась Клара. В Торонто они не могли позволить себе даже самую маленькую квартиру, в то время как в Лондоне такие квартиры, как та, которой Джерард всё еще владеет и которую он за умеренную цену купил много лет назад, продавались за сотни тысяч фунтов. Кроме того, Кларе нужны были родственники: вырастить психологически здорового ребенка, по мнению Дианы, было бы безвкусицей.
– Семья Дианы дисфункциональная, – сказал Джерард. – На их фоне проблемы в моей семье кажутся пустяковыми.
Они переехали в Лондон, когда Кларе исполнилось три месяца. Она уже не вспомнит бледный, серый город, в котором родилась, огромное угрюмое озеро, по продуваемым ветрами берегам которого Джерард гулял с ней в слинге, причудливый, обшитый досками дом у трамвайных путей, который Джерард и Диана делили с постоянно обновляющейся общиной художников, музыкантов и писателей. Дом этот когда-то был магазином, и в нем осталась большая стеклянная витрина. Она была элементом основного жилого пространства, так что за обитателями дома можно было наблюдать с улицы. Множество раз, возвращаясь домой, Джерард поражался этому живому полотну перед ним, особенно по вечерам, когда по всему дому был включен свет и витрина становилась похожа на освещенную театральную сцену: на ней можно было наблюдать картины любви, споров, уединения, труда, дружбы, иногда скуки и разобщенности. Он знал всех актеров и, как только заходил внутрь, сам становился одним из них. Но часто он останавливался снаружи и завороженно наблюдал за ними. В каком-то смысле он знал, что всё это не более чем игра, но она характеризовала Торонто и его жизнь там, какое-то принципиальное отличие этого города, которое он не мог четко сформулировать, хотя в попытке дать определение на ум ему всегда приходило слово «наивность».
– Не думаю, что было бы возможно, – сказал он, – жить так в Лондоне, среди моих знакомых. Здесь слишком много иронии. Здесь невозможно позировать – всё и так уже имитация.
Тем не менее они с Дианой вернулись в Лондон, и если иногда хорошо знакомая атмосфера кажется удушающей – «даже паб здесь – ирония», – сказал он, когда мы подошли к некогда захолустному зданию, отделанному теперь с аллюзией на его якобы исторический облик, – то сила постоянства теперь служит попутным ветром. Их жизнь невероятно стабильна, что удивительно, сказал он, для их возможностей. На первый взгляд его повседневная жизнь мало изменилась с тех пор, как мы были вместе: он живет в той же квартире, его окружают прежние друзья, он ходит в те же места по тем же дням и даже носит старую одежду. Разница лишь в том, что теперь с ним Диана и Клара. Они – его зрители, и он навряд ли может жить без них. Всё больше он думает о времени, проведенном в Торонто, как о переходном этапе, во время которого ему удалось найти ресурс в новом месте, что в конечном счете позволило обосноваться здесь навсегда. Ему кажется интересной мысль, что стабильность можно рассматривать как продукт риска; возможно, именно желание оставить всё как есть провоцирует потери.
– В каком-то смысле мы всё еще живем в витрине, – сказал он. – Это конструкция, но она реальна.
Я сказала ему, что, когда мы летом переехали с детьми в Лондон, первое время всё казалось нам незнакомым, и мой старший сын говорил, что чувствует себя героем какой-то пьесы: все произносят заученные реплики, и он тоже; что бы с ним ни происходило, куда бы он ни попадал, всё кажется ему нереальным, как прописанные в сценарии события, следующие друг за другом. Им пришлось перейти в новую школу, где от них требовалось больше самостоятельности. В прошлой жизни они зависели от меня во всём, но здесь почти сразу оба стали более деятельными и научились организовывать себя такими способами, о которых я даже не подозреваю. Мы мало говорим о нашей прошлой жизни, так что она тоже стала казаться нереальной. Я сказала Джерарду, что, когда мы только приехали сюда, по вечерам мы часто гуляли по нашему району и смотрели по сторонам, словно туристы. Сначала во время прогулок сыновья украдкой брали меня за руку, но потом стали держать руки в карманах. Через какое-то время наши вечерние прогулки прекратились: мальчики начали говорить, что у них много уроков. Они быстро съедали ужин и расходились по комнатам. По утрам они выходили из дома в серый рассвет и вприпрыжку бежали по замусоренным тротуарам, их тяжелые рюкзаки подскакивали в такт их движениям. Наши знакомые, сказала я, всячески одобряли эти изменения, которые, очевидно, воспринимали как необходимые. Мне так часто говорили, как приятно снова видеть меня на ногах, что я стала задумываться, не представляла ли я для них просто объект сочувствия; собственно, не стала ли я для своих знакомых олицетворением какого-то конкретного страха или опасения, чего-то, о чем они совсем не хотели вспоминать.
– Я думал, у тебя всё сложилось, – медленно произнес Джерард. – Я думал, ты живешь идеальной жизнью. Когда ты ушла, – сказал он, – мысль, что ты отдаешь свою любовь кому-то другому, хотя могла бы давать ее мне, меня очень огорчала. Но для тебя, конечно, этот вопрос был принципиальным.
Я вспомнила о свойственной Джерарду неразумности и инфантильности, о его непостоянстве и иногда возникающей у него склонности к самолюбованию. Мне кажется, сказала я, что большинство браков работает по принципу романа: важно отбросить недоверие, включиться в повествование и плыть по течению. Другими словами, брак держится не на совершенстве, а на уклонении от определенных реальностей. Мне совершенно очевидно, сказала я, что одной из таких реальностей в тот момент был Джерард. Жестоко ранить его чувства было единственным выходом, по-другому новая история просто не могла бы состояться. Сейчас, когда я думаю о том времени, оказывается, что эта отброшенная реальность – всё то, что я намеренно отрицала и сознательно забывала ради нового нарратива, – в конце концов возобладала. Как вещи, которые я оставила в его квартире, то, что было отвергнуто, со временем стало приобретать новые значения, которые далеко не всегда было легко принять. Мое безразличие по отношению к страданиям Джерарда, о котором в то время я едва ли думала, со временем стало казаться мне всё более преступным. Всё, от чего я постаралась избавиться в стремлении к новому будущему, теперь, когда само будущее избавилось от меня, сохранило силу обвинения, и я даже стала бояться, как бы мое наказание не оказалось прямо пропорционально чему-то, что я даже не смогла оценить или просчитать. Возможно, сказала я, никогда не знаешь, что нужно сохранить, а от чего избавиться.
Джерард остановился и слушал с выражением возрастающего удивления.
– Но я же простил тебя, – сказал он. – Я написал это в своем письме.
Письмо пришло тогда, ответила я, когда я не могла его толком прочесть, и чувство вины во мне было таким сильным, что я не смогла прочесть его, даже когда была способна воспринять его объективно.
– Я простил тебя, – сказал Джерард, положив ладонь мне на руку. – И я надеюсь, ты тоже меня простишь.
Мы остановились у паба, и немного погодя он спросил, помню ли я угрюмое заведение, которое было раньше на этом месте.
– Джентрификация всё приукрашивает, – сказал он. – Это происходит повсюду, и в наших жизнях тоже.
Он возражает не против самого принципа усовершенствования, но против равномерного выравнивания, стандартизации, с которой сопряжены изменения.
– Где бы это ни происходило, – сказал он, – уничтожается всё, что было раньше, но при этом результат выглядит так, будто именно это здесь всегда и было.
Он рассказал мне, как они с Кларой летом несколько недель ходили пешком по северу Англии и прошли значительную часть Пеннинского пути. У Дианы было много работы в Лондоне, да она и не особо любит походы. Они несли за спиной палатки, сами готовили еду каждый вечер, плавали в реках, несколько раз попадали в грозу, грелись на солнечных склонах и в итоге прошли пешком более сотни миль. Это, по мнению Джерарда, и есть единственный подлинный опыт, который не забывается. Казалось невероятным, что с приходом сентября они вновь вернутся в Лондон и город затянет их в повседневность, но именно так оно и было.
Я удивилась тому, что хрупкий ребенок, которого я только что видела, мог пройти такое расстояние.
– Она сильнее, чем кажется, – сказал Джерард.
При упоминании Клары мысли Джерарда, очевидно, унеслись в каком-то другом направлении: он вдруг потянулся рукой за спину и похлопал рукой по футляру.
– Черт, – сказал он, – ей сегодня нужна скрипка.
Я даже не знала, что это ее скрипка.
– История повторяется, – сказал он. – Ты, наверное, думаешь, что опыт должен был меня чему-нибудь научить.
Я вспомнила, как однажды он рассказал мне, что его мама плюнула ему в лицо, когда он объявил ей, что собирается бросить скрипку. Его родители были профессиональными музыкантами и оба играли в оркестре. С ранних лет Джерард стал играть на скрипке и занимался так упорно, что мизинец и безымянный палец его левой руки деформировались от надавливания на струны. Про Клару учительница говорит, что она способная, но Джерард не уверен, хочет ли он для своей дочери той жизни, которая столько лет приносила ему мучения. Иногда он думает, что лучше бы он и вовсе не показывал Кларе скрипку. Это говорит о том, сказал он, что мы мало исследуем опыт, который оказался важнее всего для нашего формирования, и вместо этого слепо воспроизводим знакомые модели. А вдруг только в наших травмах может зародиться будущее?
– Хотя, по правде говоря, – добавил он, – мне даже в голову не приходило, что ребенка можно вырастить без музыки.
Он пытается оставаться равнодушным к занятиям Клары. Он уверен, что ей не следует расти с ощущением, которое преследовало в детстве его самого: будто любовь родителей зависит от согласия ребенка выполнять их желания. Возможно, на самом деле он бросил скрипку именно потому, что хотел исследовать родительскую любовь. В школе, продолжал он, учился мальчик, его ровесник, которого он близко никогда не знал, но который отличался абсолютной неспособностью к музыке. Отсутствие у него слуха было источником постоянных шуток, не то чтобы особенно злых, но, когда они пели гимн на школьной линейке, за фальшивое пение над ним стали насмехаться, а на рождественском концерте его попросили уже не петь, а только открывать рот. Загадочным образом этот мальчик поступил на кларнет, из которого извлекал такие же нестройные звуки, но его упорство в обучении игре на этом инструменте было непоколебимо. Из раза в раз он пытался поступить в школьный оркестр, в котором Джерард был первой скрипкой, и каждый раз ему отказывали. Прикладывая огромные усилия, мучительно медленно он переходил из класса в класс. Его понимание музыки было противоположно инстинктивному, и всё же в какой-то момент, достигнув сносного уровня, он смог поступить в школьный оркестр. Приблизительно в это же время Джерард оттуда ушел и больше об этом мальчике не вспоминал. Через несколько лет, в последнем семестре, Джерард попал на школьный концерт. Оркестр играл концерт Брамса для кларнета, солистом был не кто иной, как тот мальчик, а несколько лет спустя Джерард увидел его имя, выделенное жирным шрифтом, на афише концерта в Уигмор-Холл. Сейчас, сказал Джерард, он известный музыкант. Включая радио, я часто натыкаюсь на его исполнение. Я так и не понял, какова мораль этой истории. Думаю, она говорит нам о том, что иногда нужно обращать внимание не на врожденные таланты, а на то, что дается труднее всего. Мы так привыкли к тому, что нужно принимать себя как есть, мы так хорошо усвоили эту догму, что неприятие становится довольно радикальной идеей.
Он перекинул ногу через седло велосипеда и натянул шлем на растрепанные волосы.
– Я, пожалуй, вернусь и отдам ей скрипку, – сказал он и посмотрел на меня ласково. – Надеюсь, тебе хорошо здесь, – добавил он.
Я сказала, что пока не поняла: еще рано судить. Я рассказала, что часто выхожу на прогулку после того, как мальчики засыпают, и меня всегда поражает тишина и пустынность ночных улиц. Где-то вдалеке можно услышать слабое гудение города, из-за чего окружающая тишина кажется искусственно созданной. Это ощущение, сказала я Джерарду, ощущение того, что сам воздух будто сконструирован, представляется мне сущностью цивилизации. Если ему интересно, что я ощущаю, вернувшись в город, то я сказала бы, что меня переполняет чувство облегчения.
– Было бы здорово познакомить вас с Дианой, – сказал Джерард. – И я бы хотел, чтобы ты увидела, как выглядит теперь квартира. Возможно, ты удивишься.
Первое, что он сделал в трудный период после того, как я ушла, – снес все внутренние стены, чтобы создать единое пространство. На протяжении нескольких недель квартира представляла собой кучу обломков и пыли. Джерард не мог ни есть, ни спать, соседи безостановочно жаловались, и еще ему нужно было поднять по лестнице огромную металлическую балку, чтобы она поддерживала крышу. Люди думали, что он сошел с ума, но Джерард был охвачен одной-единственной идеей – он хотел, чтобы, стоя у окон с одной стороны квартиры, он мог видеть двор из окон напротив. Он остался доволен результатом, хотя вынужден был признать, что теперь, когда Клара выросла, это не так практично. Суть в том, сказал он, пододвигая велосипед к дороге, что переезд в Лондон – большая возможность. Это один из лучших городов мира, сказал он, и, адаптируясь к нему, ты станешь сильнее, о чем скоро и сама узнаешь.
Строитель сказал, что я пытаюсь сшить из свиного уха шелковый кошелек.
– Но для этого, – сказал он, – просто нет материала.
Он стоял у окна кухни и смотрел на маленький сад, где выступали неровные углы бетонных плит, разрушенных корнями деревьев, которые проложили свой путь под ними. В саду была склонившаяся к земле яблоня, окруженная упавшими и сгнившими плодами, и высокое хвойное дерево, из-за которого все остальные деревья были вынуждены расти под странными углами и потому выглядели так, будто застыли в мучительных, скрюченных позах. Некоторые из них прижались вплотную к забору и пробили его в тех местах, где сад был разделен на две части.
Дальняя часть сада была нашей, к ней можно было пройти по узкой дорожке, ведущей от задней двери дома. Ближняя же принадлежала людям, живущим внизу, в квартире на цокольном этаже. В их части сада было полно вещей разной степени ветхости, так что сложно было определить, часть декора это или хлам. Там была рваная полиэтиленовая пленка и сломанная мебель, старые кастрюли, осколки цветочных горшков, заржавевшая кормушка для птиц, металлическая сушилка для белья, лежащая на земле и покрытая гнилыми листьями, несколько статуй, битые фигурки мужчин с удочками, коричневый блестящий бульдог с обвисшими щеками, и в центре всего этого – странная сборная фигурка черного ангела с поднятыми крыльями на черном постаменте. В этой части сада было больше всего голубей и белок: кормушка ежедневно наполнялась до краев, несмотря на признаки запустения. Они сражались за право угоститься содержимым и, когда кормушка была уже пуста, устраивались неподалеку, явно ожидая, когда ее вновь наполнят. Целый день болезненного вида серые голуби сидели, съежившись, на карнизе и на водосточной трубе. Иногда они пугались какого-то шума или движения, тяжело взлетали и садились обратно, и их крылья громко бились о стекла окон.
Задняя дверь квартиры на цокольном этаже находилась прямо под моим кухонным окном. Дважды в день дверь открывалась – в грязный двор из нее выпускали дряхлую, хромую собаку – и снова захлопывалась. Я иногда смотрела, как это создание еле-еле поднималось по раскрошившимся бетонным ступеням, чтобы выпустить в саду между дрожащих ног струю жидкости, которая затем медленно стекала по лестнице обратно вниз. Собака оставалась сидеть наверху, тяжело дыша, до тех пор, пока крики из квартиры не вынуждали ее мучительно медленно двинуться обратно. Перекрытия между этажами были очень тонкие, и я хорошо слышала голоса людей внизу. Громче всего они звучали на кухне – иногда я вздрагивала от неожиданности. В квартире жили мужчина и женщина лет под семьдесят. Однажды я встретила мужчину на улице, и он сказал мне, что они дольше всех живут в этом доме, уже около сорока лет. Они также последние оставшиеся съемщики муниципального жилья – люди, которые раньше жили в нашей квартире, отдали им это почетное звание, когда съехали.
– Они были африканцами, – сказал он мне заговорщически хриплым шепотом.
В местной администрации, сообщил мне агент, старую недвижимость продают, как только она освобождается. Проблема в содержании, сказал он: со старой недвижимостью всегда всё идет не так. Они там ждут не дождутся, когда уже эти люди склеят ласты. Он подмигнул и показал на пол. Никогда не знаешь – а вдруг ждать осталось не так уж долго? Если продержитесь, возможно, когда-нибудь выкупите первый этаж и заживете в собственном доме. Тогда под вами будет золотая жила.
Соседи снизу не смогли примириться с тем, что теперь кто-то живет над их головами. На второе или третье утро у нас под ногами раздался яростный стук. Мы притихли и посмотрели друг на друга, и мой младший сын спросил, что это. Почти сразу после его вопроса раздалась вторая серия ударов, и стало очевидно, что это соседи стучат в потолок, выражая свое недовольство.
– Работы тут непочатый край, – сказал строитель, отводя взгляд от окна и осматривая кухню, шкафы в которой неустойчиво стояли на неровном полу. Их дверцы были выкрашены с наружной стороны, но с внутренней посерели от старости, краска облупилась, полки болтались на крепежах. Стены были покрыты толстыми обоями с узором, похожим на сыпь. Они тоже были окрашены, от чего обои местами пошли пузырями, а местами облезли, отрывая вместе с собой куски штукатурки. Строитель потянул за один свисающий край.
– Я вижу, вы уже сами пробовали кое-что подлатать, – сказал он, стараясь приладить кусок отклеившихся обоев обратно к стене, и перевел дыхание: – Мой вам совет: оставьте всё как есть.
У него было доброе лицо, но странное страдальческое выражение делало его похожим на ребенка, который вот-вот заплачет. Он сложил на груди большие неуклюжие руки и задумчиво посмотрел на пол. На ровном своде его черепа проступила лиловая вена.
– Вы уже сделали всё, что я мог бы вам посоветовать, – заключил он после длительного молчания. – А именно: покрыть всё толстым слоем краски и закрыть дверь. – Он легонько постучал ногой по полу, который был выстелен ламинатом под дерево и сильно просел посередине. – Боюсь представить, что под ним, – сказал он.
Внизу началось движение и послышались тихие голоса. По крайней мере, сказала я строителю, мне нужно сделать что-то с полом. Необходимо проложить шумоизоляцию. У меня нет выбора – так больше не может продолжаться.
Он молча посмотрел на пол, не меняя позы и, по-видимому, раздумывая над тем, что я сказала. Потом наступил прямо на место ската и подпрыгнул. В этот же момент снизу раздалась очередная серия ударов. Строитель хрипло рассмеялся.
– Всё та же ручка швабры, – сказал он.
Он посмотрел прямо на меня. У него были маленькие, слезящиеся голубые глаза, которые он всегда слегка прищуривал, как будто ему мешало солнце или как будто он слишком часто смотрел на то, что не хотел видеть. Он спросил меня, чем я зарабатываю на жизнь. И я ответила, что я писательница.
– Писатели ведь много получают, да? – спросил он. – Для вашего же блага надеюсь, что да, потому что, уверяю вас, денег вбухать придется немало. – Он опять подошел к окну, посмотрел вниз на соседский участок сада и покачал головой. – Ну и живут же некоторые, – сказал он.
Я сказала, что виделась с прежней обитательницей этой квартиры, когда агент по недвижимости впервые привел меня сюда. Она упаковывала последние вещи и долго не открывала нам дверь. Потом я увидела, как она выглянула посмотреть на нас из-за тюля, прикрывающего окно, которое выходило на улицу. Агент тогда окликнул ее, начал объяснять, кто мы, и убедил ее впустить нас. Она оказалась маленькой, запуганной женщиной с морщинистым лицом, чей голос, когда она заговорила, едва ли был громче шепота. Но после того, как агент ушел, она немного осмелела. Мы были наверху в одной из спален, она сидела на краешке кровати, на фоне покрытой пятнами стены. Я спросила, что за люди живут внизу. Она долго, не моргая, смотрела на меня своими усталыми карими глазами из-под морщинистых век. Женщина хуже, чем мужчина, сказала она наконец. А люди, которые живут в соседнем доме, – добрые и хорошие, университетские профессора, добавила она гордо. Они всегда помогали мне, когда у меня возникали проблемы с соседями снизу. Ее глаза задумчиво изучали мое лицо. Но, может, у вас, сказала она, всё будет иначе.