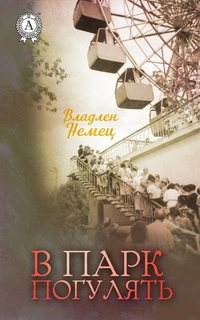Полная версия
Бури под крышами

Владлен Немец
БУРИ ПОД КРЫШАМИ
Июль 1941-го
Им можно противостоять
Это, конечно, было большой удачей. Они шли третий день, почти не натыкаясь на противника. Безусловно, здесь была и заслуга лидера группы, сержанта срочной службы Новторова Он умело организовал боевое охранение и разведку. Но отряду везло еще и потому, что наступавшие хХхххнемецкие войска на первых порах, почти не встречая сопротивления, стремились как можно дальше продвинуться вглубь страны, а потому двигались не сплошной стеной, а ударными клиньями. При этом оказывались незатронутыми довольно широкие полосы территории. Именно по одной из таких полос и шла группа бойцов и командиров из разных частей, рассеянных или уничтоженных в приграничных боях. Крестьяне сочувственно относились к попавшим в беду солдатам: кормили, давали ночлег, показывали дорогу.
За это время удалось уничтожить нескольких отбившихся от своих частей немецких мародеров, в результате чего отряд обзавелся автоматами.
* * *– Эй, гражданочка, куда торопитесь? Может вместе пойдем? – Вышел на тропу Василий Толстиков.
– О-ох, чертяка, прямо до смерти испужал! – Но голос и выражение лица молодой женщины говорили о том, что если она и удивлена появлением статного русоволосого парня на лесной тропе, то уж во всяком случае не испугана, а может быть даже не против продолжения знакомства.
– Так куда же вы все-таки идете, да еще корзинку со съестным несете?
– Чем вот так с бухты-барахты прямо допрашивать, познакомился бы сначала.
– Василий.
– А меня – Шура. А иду я, Васенька, кормить вашего брата. Немцы пленных в лагерь загнали, сами их не кормят, а нам разрешают. А еще говорят, что если кто примаком захочет пойти, то его отпустят. Вот, кормим, ну, и понятное дело, присматриваемся: мужиков то в деревне никого не осталось, кто в город подался, кого в армию забрали…
Еще поговорили, потискались ко взаимному удовольствию – деваха в самом соку, грудь каменная, договорились, что Вася ее ближе к ночи навестит…
* * *Выслушав доклад разведки, Новоторов собрал совет командиров.
– Лагерь оборудован наспех. По всему видать – временный. Я так понимаю, что пленных туда загнали, чтобы под ногами не путались. Охранные сооружения – три вышки, пост у ворот, проволока в один ряд. В охране не больше десятка человек. Скорее всего надеются, что пленные и сами не очень хотят бежать. Предлагаю: Перед рассветом снять часовых – снайперы у нас есть, прорвать ограждение в нескольких местах, уничтожить оставшуюся охрану.
– Никита Артемьич, а с пленными как быть? Там люди разные.
– Эт-то верно, – Новоторов потер заросшую густой щетиной щеку. Он понимал, что вопрос задан неспроста, и от его решения зависит судьба не только пленных, но и отряда. Пленных, по сведениям разведки, было не меньше двух тысяч. И то, что они до сих пор не попытались сами освободиться, беспокоило. – Силком в армию мы их не загоним. Думаю, предложим, кто захочет добровольно…
– А с остальными как быть? Они же предатели! – политрук Федотов впился взглядом в Никиту.
С этим политручком надо поосторожней, – вспыхнул в мозгу сигнал, и тщательно подбирая слова Новоторов ответил: «Мы не можем быть карателями. Нам никто этого не поручал. Да и вообще, люди растерялись. Разойдутся по деревням, придут в себя. Думаю, многие пойдут в партизаны или будут через фронт пробиваться.».
Разгром лагеря прошел на удивление быстро и без потерь, если не считать нескольких легко раненых. Немцы вообще не ожидали ничего подобного, да и предрассветный сон крепок.
К отряду присоединилось около сотни пленников. Среди них оказались два врача и четыре шофера, что было особенно кстати, так как среди небогатых трофеев оказались два исправных крытых грузовика и одна легковушка. Однако, главная удача ждала впереди. Когда отряд рассаживался по машинам, к Новоторову подошел черноглазый парень с горбатым носом и пышной спутанной шевелюрой иссиня-черных волос: «Товарищ командир, разрешите обратиться. Младший лейтенант Семен Бернштейн».
– Обращайтесь, только покороче, времени в обрез.
– Я военный переводчик, говорю на всех немецких наречиях – Лейпцигском, баварском, помор-плятте и как в других местах.
– Это как? – Не понял Никита.
– В России уральцы и москвичи по-разному говорят. В Германии тоже так.
– Ага, понял. А ихние уставы, правила там всякие военные знаешь? Бумаги читать, пленных допрашивать? Будешь при мне неотлучно, понял?
Быстро подружившиеся Василий и Семен очень часто на пару разведывали ситуацию в деревне или селе на пути отряда. Они легко входили в доверие, особенно к молодым, истосковавшимся по мужскому обществу, женщинам…
* * *– Ну вот что, товарищи бойцы, – Никита Артемьевич строго смотрел на стоявших перед ним Василия и Семена, – Вы тут того, насчет баб, то есть женщин… Куда это годится, я вас спрашиваю?! Вы должны другим пример показывать, а вы…
– Разрешите объяснить, товарищ командир?
– Ну объясняй, Толстиков, объясняй. Интересно, что тут можно объяснить!
– Во-первых, только по взаимному и полюбовному согласию, а во-вторых, народу-то после войны большая нехватка будет…
– Ага, понятно, значит вы с Семеном государственные люди, о будущем нашего государства заботитесь, так что ли? – ехидно ухмыльнулся Новоторов.
– Вроде бы так, – подал голос Семен.
– Ну вот что. Если на вас поступит хоть одна жалоба, пеняйте на себя. Время военное и поступать буду по всей строгости!
– Не будет никаких жалоб, Никита Артемьевич, – чувствуя, что гроза прошла мимо, развеселился Вася, – мы будем очень стараться!
– Тьфу! Глаза б мои на вас не смотрели, жеребцы стоялые! Вот как придем к своим, обоим губа достанется. Да, вот еще что. Село Успенское. Туда приличный грейдер подходит. Так что не исключено, что немцы уже там. Четыре часа на выяснение обстановки. Идите, и помните, что я вам сказал.
– Будем очень стараться! – в один голос ответили дружки и отправились готовиться к разведке.
– Это политручок наш Федотов, больше некому! Кланька ему по сопатке двинула, вот он и того…
– Ты с ним поаккуратней, Вася. Он бо-ольшая сволочь! Помяни моё слово, он нам еще напакостит.
* * *Шедшая впереди отряда легковушка с одетым в офицерскую форму Семеном Бернштейном и еще тремя переодетыми в немецкие мундиры бойцами в течение нескольких дней успешно расчищала путь группе, шедшей за ними на трофейных грузовиках. Однако, по мере приближения к зоне боевых действий – линия фронта еще не установилась – проверки ужесточились. Решили дальше не искушать судьбу. Машины загнали в лесной овраг и там бросили. Пробираясь лесными дорогами, еще через пару дней отряд ночью переправился через реку и вошел в расположение своих частей.
– Стой! Кто идет! – Заорал насмерть перепуганный часовой, когда в предрассветной тьме стали вырисовываться беззвучно приближавшиеся фигуры.
– Кто-кто! Свои, вот кто!
– Стой! Стрелять буду! Ишь, свои, – ехидно произнес часовой, но в голосе явно чувствовалось облегчение: люди подчинились окрику и остановились.
– В чем дело? Что за шум? – Подоспел сержант с отделением автоматчиков. – Кто такие?
– Сводный отряд бойцов Красной Армии. Из немецких тылов пробиваемся, – в голосе Новоторова радость мешалась со страшной усталостью, накопившейся за эти недели.
У своих
– Новоторов Никита Артемьевич, старший сержант, – особист нудным голосом читал красноармейскую книжку Новоторова. – Повторите, пожалуйста, каким маршрутом вы шли.
– Да я уже два раза повторил, товарищ капитан! – начал злиться Никита.
– Ничего, ничего, повторенье мать терпенья, – все также нудел капитан с малиновыми петлицами…
– Да он же нарочно меня из себя выводит, – сообразил Никита, – не получится, милый, не на таковских напал. – И начал в третий раз повторять все с начала, но теперь уже он говорил медленно, нудным голосом, явно подражая особисту. Однако тот или не понял, или сделал вид, что не понял Никитиного «художественного творчества», внимательно выслушал все до конца, и даже пометки какие-то делал, как будто все в первый раз услышал.
– Хорошо, спасибо, я все понял, кроме одного. Почему вы, Никита Артемьевич, скромничаете, ничего про освобождение наших бойцов из немецкого концлагеря не рассказываете? А ведь подвиг, можно сказать, героический. За это орден и повышение в чине полагаются.
– На кривой, значит, объехать норовит. Ишь, орденом поманил! – За эти дни в лагере переформирования Никита узнал много нового, в том числе и то, что Сталин приказал всех военнопленных считать предателями и поступать с ними соответственно. – Никого я из лагерей немецких не освобождал. Даже не понимаю, о чем вы мне толкуете!
– Не понимаешь, значит?! – Голос особиста налился металлом, а глаза сузились и стали буровить Никиту. – Предателей покрываешь! Мне все известно. Жидок твой, Бернштейн, мне все рассказал, – капитан нехорошо оскалился. – Жидки, они пугливые. Я его чуть прижал, и он все начистоту выложил, тебя не пожалел. А ты его покрываешь!
– Насчет Семена он врет. Не такой это парень. Видать кто-то еще выслужиться захотел. Узнаю, шею сверну!
– Все вы предатели! – Обозлился на молчавшего Новоторова особист, – вас всех на чистую воду надо вывести! Вы у меня по лагерям напляшетесь!
Тридцатые годы голодомора и страшная коса 37–38 годов приучили людей бояться всякого начальства, особенно с малиновыми петлицами. Никита не представлял исключения. Помнил, как забрали предсельсовета, директора школы и еще нескольких сельчан. Приехали ночью на грузовиках с ярко зажженными фарами. В кожаных тужурках. С наганами. Злые – не подходи! И разразилась ночная тишина рыданьями баб, плачем разбуженных малышей. А про арестованных с тех пор ни слуху, ни духу. Как в воду канули… Но вот ведь, говорят, если труса к стене прижать, то и он отбиваться станет. А Никита трусом не был. И сегодня речь шла не только о его судьбе. Из двухсот с лишком бойцов больше половины, включая Семку Бернштейна, были из того злосчастного лагеря.
– Значит, сволочь. на нас орденок заработать хочешь! Не выйдет. Мы еще потягаемся!
– Ну вот что, Новоторов, некогда мне с тобой прохлаждаться. Иди, подумай. Не осознаешь – пеняй на себя!
* * *Поздно вечером, когда подвыпивший особист возвращался от телефонисток, его в темноте двинули по затылку, сунули в рот кляп, набросили на голову мешок, одним словом, отработали на нем приемы взятия языка. Очнулся он в лесу.
– Ну что, капитан, побеседуем? Значит, мало нашим бойцам было немецкой лагерной муки, теперь советскими им грозишь? Да, чтобы не забыть, политрук Федотов погиб при переправе, так что из списочного состава вычеркни.
Труп Федотова с разожжённым черепом валялся рядом.
– А вы с товарищем капитаном поаккуратней, не всю лагерную науку на нем показывайте, – обратился Новоторов к стоявшим рядом бойцам, лиц которых в темноте невозможно было разглядеть. – Сами видите, здоровья он некрепкого. Но разъяснить что к чему, конечно, надо.
Пришел особист в себя под утро в своем блиндаже. Все тело нестерпимо болело. Помочился кровью. Однако, внешних следов не было. Кто бил – не видел. Душила злоба от бессилия что-либо предпринять. Труп Федотова был серьезным предостережением. Да и рассказал в лесу на ночном допросе, который провел все тот же Семен Бернштейн, много такого, за что в органах по головке не погладят.
А Новоторов понял, что и с энкавэдешниками можно управляться – они не всесильны.
Весна 1947-го
Что делать будем мужики?
В большой, недавно подновленной избе, у председателя колхоза «Вперед» собрались бригадиры, бухгалтер и предсельсовета. Два бригадира не так давно вернулось из армии, а трое, в том числе и председатель, вернулись раньше, комиссованные по ранениям. У всех фронтовиков на гимнастерках ордена, медали и красные и желтые ленточки, соответственно за легкие и тяжелые ранения. Председатель, Никита Артемьич Новоторов, крепкий сорокалетний мужик с серыми неулыбчивыми глазами, начал издалека: «Положение мужики у нас хреновое, сами знаете. Война прошлась по нашим местам взад-вперед несколько раз, целых изб почти не осталось, мужиков тоже раз, два и обчелся. В прошлом году был страшный недород, люди к муке черт-те что подмешивают, и этой смеси если до июля хватит, то считай повезло.»– Он тяжело вздохнул и оглядел собравшихся.
Бригадиры помалкивали: ничего нового председатель пока не сказал, значит и им говорить еще рано. Однако, начало настораживало: не тот человек Никита, чтобы переливать из пустого в порожнее, что-то видно он из района привез, вот и старается их подготовить. Так оно и оказалось.
– Так вот, был я в райкоме. Выступил секретарь, говорил о тяжелом продовольственном положении страны и о том, что район задолжал государству. Решение приняли – долг вернуть, а план нынешнего года выполнить на 120 процентов. Вот так вот! Что делать будем, бригадиры?
– Может Степаныч там с отчетами что-нибудь нахимичит? – Робко спросил самый старый из бригадиров, семидесятилетний Прокоп Онуфриев.
– И не думай даже об таком! – Отозвался из угла Андрей Степанович Головкин, работавший бухгалтером с самого образования колхоза. – За такие дела и раньше по головке не гладили, а теперь и подавно. На кого это я свою старуху оставлю, если посадят, на тебя, старого хрыча, что ли?
– Сам-то ты больно молоденький!
Начавшуюся было перепалку остановил председатель:» Степаныч прав. В таком деле химичить опасно, да и не к чему: поля наши известны. Комиссия определит урожайность на этот год. Останется только перемножить, и всё.».
– Комиссия всегда урожайность большую задает, а тут погода, засуха, град, либо еще что… Это нам опять без хлеба сидеть?!
– Слушай, Артемьич, а что если нам за речкой на лесных проплешинах запахать? Эти поля за колхозом числиться не будут, вот и будем с хлебом.
Бригадиры одобрительно зашумели, но здесь поднялся Андрей Степанович: «Это ты, Кузьма, конечно здорово придумал. А ну как кто стукнет, или какая баба проболтается? Тогда голов нам не сносить.».
– Ты погоди, Степаныч, не пужай. Вот ведь как на фронте было, чтобы тайну не разглашать? Там на этот случай особый отдел и контрразведка были…
И снова подал голос старый Прокоп: «Без хлеба нам никак нельзя. Это там, наверху насчет цифр рассуждают, а нам детей растить, и самим при нашей работе поесть как положено надо. Вот вы, Артемьич со Степанычем, и подумайте. Оно, конечно, дело такое, тайности требует. А вы, мужики, помалкивайте сами и других от ля-ля отучайте.».
Разговор по душам
– Дядя Никита, к вам можно? – небольшого роста ладная девушка лет 17–18, робко стояла у порога кабинета председателя.
– Заходи, раз уж пришла. Чего так поздно?
– А у меня к вам особый разговор.
– Ну уж если только особый, – председатель скупо улыбнулся. – Ладно, Галя, выкладывай с чем пришла, какие у нашего комсомольского секретаря вопросы и проблемы.
– Вы вот всё шутите, а мне не до смеха! Я может ночи не сплю, всё думаю. Вот вы, дядя Никита, по-моему, очень хороший человек.
– Ты это моей Катерине скажи, у нее другое мнение.
– На фронте храбро за Родину дрались, себя не жалели, – не обращая внимания на шутливый тон председателя, продолжила Галя. – Вон две желтые нашивки и аж пять красных. Опять же, для колхоза сил не жалеете: ночь на дворе, а вы всё работаете. И еще кружок по марксизму вести неизвестно как успеваете.
– За добрые слова спасибо, ты их к моему юбилею прибереги, как раз пригодятся, если, конечно, до него дотяну. Давай поближе к делу. Сама видишь, время позднее.
– Я насчет дополнительных полей. Вроде получается, страну обманываем, хлеб собираемся утаивать. А ведь не могу поверить, что вы в чем-то плохом можете быть замешаны. Вот, объясните мне, пожалуйста. А то ведь, и ребята наши тоже не знают, что и думать, и во всем сомневаются.
– Ты, секретарь, правильно сделала, что пришла с этим. Мне бы самому давно следовало с тобой насчет этих полей поговорить. – Он стал набивать трубку, потом еще минуту ее раскуривал – тянул время, продумывая предстоящий разговор, который, пожалуй, поможет решить ту тяжелую задачу, о которой говорил Прокоп. – Значит так, мы вот тут с бухгалтером подсчитали, что если даже отдадим весь хлеб до последнего зернышка и ничего не оставим колхозникам, то всё равно останемся должны государству. Вот, сама посуди – долг за прошлогодний недород и 120 процентов к нынешнему плану – это почитай два годовых плана. Там, наверху, масштабами всей страны мыслят, нас не разглядеть. А ты ведь сама знаешь, что на одной траве нам животноводство не поднять, а без этого нам из ямы никогда не выбраться. Опять же и сегодняшний день забывать не след – людям есть надо. Вот поэтому и идем на тайные поля. А выживем мы, животноводство подымем, тут и государству нашему будет прямая выгода. Поняла?
– Поняла, Никита Артемьевич.
– Нет, Галочка, поняла ты, да не всё. Все наши планы зависят от одного – сумеем мы сохранить их в тайне или не сумеем. Одно дело, когда тайну знают два-три человека, а тут её все в колхозе знают. Кто-то кому-то по секрету сказал, и всё пропало, и люди без хлеба, и руководители колхоза по лагерям. Вот так-то.
– Что же делать-то?
– Во-первых, нужно разъяснять людям, к чему приведет трепотня. А во-вторых, нам нужно организовать такой отряд, который мог бы предотвратить разглашение наших секретов. Тут, как раз, твои орлы очень даже бы пригодились. Вот ты об этом подумай, потом еще поговорим, посоветуемся. Дело очень нужное и срочное.
Разговор в школе
– Людмила Афанасьевна, у вас сейчас свободный урок? Вот и ладненько. Зайдите, пожалуйста, ко мне, – директор всегда отличался вежливостью, но это никого не обманывало: приглашение в директорский кабинет не сулило, как правило, ничего хорошего.
Направляясь в кабинет, Люда, которую только ученики и директор величали по имени отчеству, мысленно перебирала свои грехи за последнее время. По молодости лет за ней числилось кое-что, но вроде бы до директора это не должно было еще дойти. Может Зойка где не надо трепанулась? Или Валерка, гаденыш, подсмотрел как мы с Костей в сарае… Не должно бы! А может Ангелина чего ему в ухо напела? Её на это хватит, только и знает, что гадить по мелочам! Завидует, стерва, молодым. – С завучем, старой девой, у молодых учительниц были натянутые отношения.
Однако, предположения Люды не оправдались. В кабинете за директорским столом сидел «Человек в футляре» – бывший директор школы, а ныне пенсионер и по совместительству секретарь сельсовета Алексей Федотыч Коренев – Пенсии не хватало, да и скучно сидеть день-деньской на завалинке и трепаться со старушками. Сколько ему лет никто точно не знал, а сам он на эту тему не распространялся, однако, по всем признакам было ему хорошо за семьдесят. Здоровье уже пошаливало, кровь тоже последние годы не грела, а потому почти в любую погоду Алексей Федотыч ходил в пимах, теплом пальто и шапке, за что и получил своё прозвище. Обычно очень добродушный и улыбчивый, особенно когда разговаривал с молоденькими девушками, он только кивнул и буркнул что-то невразумительное в ответ на Людино приветствие, чем несказанно её удивил.
– Садитесь, Людмила Афанасьевна, у нас с вами будет серьёзный разговор.
– Даже не представляю, о чем мы можем говорить. Я-то думала, меня директор за грехи вызывает, а тут вы. Вроде бы с сельсоветом у меня особых дел не было.
– Раньше может и не было, а теперь есть. Вот, посмотрите, это ваше письмо? – Он протянул Люде серый самодельный конверт.
– Моё, а как оно к вам попало? – Всё было настолько неожиданно, что Люда по началу даже не очень удивилась, что её личное письмо к ленинградской подружке, которое она сама не далее, как позавчера опустила в ящик в поселковом почтовом отделении, оказалось вдруг в руках человека вроде бы к почте никакого отношения, не имеющего. Потом она заметила, что конверт вскрыт. Всё ещё не совсем понимая, что происходит, Люда машинально вынула письмо из успевшего потрепаться конверта, увидела, что некоторые строки в письме подчеркнуты жирным красным карандашом…
– Вы! Как вы смеете! Вы права не имеете! Это ведь тайна переписки, она же законом охраняется! Я буду жаловаться! – Люда густо покраснела, и не только от гнева, но еще и потому, что в письме содержались интимные подробности о встречах с тем самым Костенькой.
Однако, на Коренева слова Люды впечатления не произвели. Он молча ждал, пока девушка выговорится. Потом прихлебнул остывший чай: «Все, что вы говорите правильно. И права свои вы тоже очень верно понимаете. Тут только вот ведь в чем заковыка. Вот вы пишете, что живете хорошо, что колхоз о вас заботится, даже меня похвалили. Спасибо. Но вот дальше вы объясняете, почему все так хорошо – насчет дополнительных неучтенных полей, ну и так далее. А ведь это, по существу донос, да именно донос. Пропусти мы это письмо, и всему конец!».
– Почему же это донос? Я пишу в Ленинград своей закадычной подружке, очень порядочной девушке. Она никому не скажет, а и скажет, так что? Ленинград далеко, про наш колхоз там никто не знает.
– Вы ошибаетесь. Эта информация обязательно попадет не в те руки. Подумайте об этом. И еще. Это правда, тайна вашей переписки нарушена, вы можете даже сказать, что ваши права ущемлены. Но у нас нет другого выхода. Когда речь идет о судьбе многих людей, иногда приходится поступаться правами отдельного человека в какой-то степени. Прошу учесть на будущее. И последнее, в случае нужды разъяснениями не ограничимся. Возьмите ваше письмо.
1949
Дом инвалидов
Разговор с секретарем горкома партии был коротким: «Мы направляем вас главным врачом Дома инвалидов.»
– Но я врач, а не администратор, Глеб Григорьевич.
– Вы прежде всего член партии и должны подчиняться партийной дисциплине. А не подчинитесь – партбилет на стол!
– Что-то он так круто? Не пытается объяснить, уговорить, а сразу за партбилет, – Стремянный поднял голову и чуть не охнул: Карнаухов смотрел на него с лютой ненавистью и злорадством. – Ого! Значит правда, о чем шептались в поликлинике – гадина Нинка его подстилка.
Позавчера он вызвал ее в кабинет. Нужно было предпринять что-то серьезное: массажистка Телятьева откровенно вымогала у пациентов деньги. Нет, не то чтобы никто подарков за работу не брал, но одно дело благодарность пациентов за хорошее обслуживание. А эта на первом сеансе показывала, на что она способна, а потом начинала валять дурака и очень прозрачно намекала – хочешь получить хороший массаж, плати. Пришлось принять меры – пригрозить ей увольнением с указанием в трудовой книжке причины. – Ну вот, принял меры на свою шею. Делать нечего, придется переходить в Дом инвалидов. Против ветра не плюнешь.
А за Домом инвалидов тянулась страшная слава: заведующие там долго не держались – спивались, садились в тюрьму, а последний, так этот даже пытался повеситься.
– Ну что, соглашаешься? – Секретарь перешел на ты, подчеркивая свое превосходство над какой-то паршивой клистирной трубкой, которая по тупости – по глупости осмелилась высунуться.
– Раз партия говорит надо…
– И смотри у меня, я шутить не буду!
* * *Когда Стремянный впервые перешагнул порог дома инвалидов, ему стало не по себе. Одним словом – разруха. Тусклый свет, проникавший сквозь давно немытое окно кабинета главного врача, позволял разглядеть шкаф с поломанной дверцей и заваленный непонятно чем стол. Под ногами скрипела засохшая грязь.
– Ангелина Федосовна, надо бы кабинет мой в порядок привести, а то знаете ли и войти страшно.
– Некогда мне с вашим кабинетом возиться. Без вас дел невпроворот! Вы тут чуть не каждый месяц меняетесь, а я за всеми вами подтирай! – Сестра-хозяйка явно напрашивалась на скандал, нагло бравируя своей безнаказанностью.
Стремянный решил пока с ней не связываться. Он чувствовал, что за ее наглостью что-то стоит. Видно ее кто-то очень и очень обидел, раз она на незнакомого человека так бросается. Надо подождать, не стоит обострять отношения. Таким обязательно нужно перед кем-то выговориться. Тогда и разберемся, что к чему.
Федор Алексеевич как мог, прибрался в кабинете, выбросил накопившийся мусор, подмел пол, и, ни во что не вмешиваясь, начал присматриваться.
В Доме Инвалидов, рассчитанном на сто пятьдесят человек, одновременно пребывало не более двадцати – тридцати инвалидов, причем их состав постоянно менялся. Еда, которую готовили для инвалидов, была такого качества, что однажды ее попробовав, он зарекся это делать вновь. По вечерам сестры в открытую таскали из Дома Инвалидов тяжелые сумки с продуктами. Тоже интересно. Почему-то они ничего и никого не боятся. Здесь какая-то закономерность. Койки инвалидов без белья. В туалет для пациентов не зайдешь. Что-то за всем этим кроется.