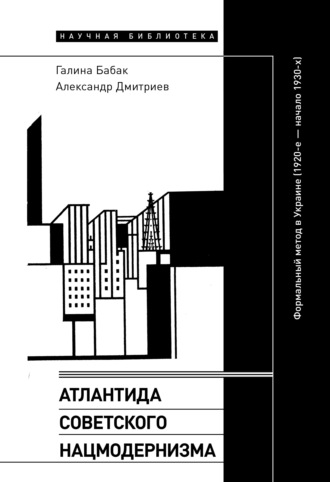
Полная версия
Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х)
Ошибку Коряка Гадзинский видит в том, что тот определяет «содержание», а не «произведение искусства», как результат процесса производства. Поэтому критик предлагает переформулировать тезис Коряка: «В процессе производства в данных экономических условиях возникает произведение искусства (как целое)»[655], – а не план или «идейное содержание». Также Гадзинский предлагает сформулировать по-другому пункт № 30 платформы «Плуга»:
«Плуг» ставит своей задачей объединять писателей, которые должны организовывать производство литературных произведений в новых экономических и классовых условиях, эти произведения станут памятниками-продуктами данного исторического момента – классовой революции в области крестьянской жизни и быта[656].
Завершая свою статью, критик уделяет отдельное внимание вопросу «формализма», который он называет «явлением чисто идеалистической философии». Поэтому Гадзинский советует Меженко «быть осторожнее при написании таких статей»[657]. Свой критический обзор автор суммирует утверждением, что произведение искусства имеет ценность, когда оно является продуктом революционного производства и создано сознательным пролетариатом: «Я категорически высказываюсь против того, чтобы такие академические статьи, как „На путях к новой теории“, усложняли развитие марксистского мировоззрения среди нашего молодого поколения»[658].
В качестве предварительного вывода здесь скажем, что Гадзинский, в отличие от других участников дискуссии, занимает наиболее радикальную позицию в отношении формального метода, который он рассматривает исключительно как проявление «идеализма», свойственного буржуазным наукам. Если другие участники дискуссии (в том числе и критик-марксист Коряк) пытаются предложить свое видение проблемы, то Гадзинский упрощает вопрос, сводя его к безапелляционной марксистской риторике: художественное произведение есть материя, оно определяется производительными силами общества, поэтому проблемы формы и содержания для марксистской науки не существует.
Опубликованная в восьмом номере журнала статья Коряка «Украинская литература перед VII Октябрем» подводит итоги не только дискуссии о форме и содержании в 1922–1923 годах, но и в целом развитию украинской литературы до- и послереволюционного времени. Статья состоит из трех частей – «Модернисты», «Фашисты», «Октябрь». В первой части автор анализирует развитие модернистских течений в украинской литературе на примере деятельности объединения «Молодая Муза» и журнала «Украинская хата». Во второй части Коряк рассматривает идеологическую позицию Дмитрия Донцова и «Литературно-научного вестника», называя последний «органом украинского фашизма». В третьей части критик прослеживает развитие послереволюционной литературы в советской Украине.
Здесь обратимся к отдельным аспектам статьи, в которой автор заново присоединяется к дискуссии. Коряк отмечает, что появление и статьи Меженко, и идеологической платформы «Плуга» было результатом бурных споров, начавшихся с публикации его собственной работы в журнале «Шляхи мистецтва».
Статью Меженко критик называет «интересной попыткой боевого выступления против марксизма в форме „объективного поиска истины“»[659]. Коряк обвиняет Меженко в «близорукости и наглости», поскольку использованная автором логика кажется ему парадоксальной: «В самом начале Меженко говорит, что пустой формы не может быть, а в конце – что искусство просто машинка, которая не имеет никакого содержания. ‹…› Формалистская бессодержательность – прежде всего! ‹…› В начале говорит, что подход со стороны формы буржуазный, и тут же признает буржуазный примат формы, а дальше называет это материализмом»[660]. Из этого Коряк иронично вопрошает: «Что это все – непонимание или нэпо-понимание, и Меженко просто пустился во все тяжкие?»[661]
Обращаясь к статье Гадзинского и непосредственно к его предложению перефразировать тезис, высказанный им (Коряком) в статье «Форма и содержание», критик подкрепляет свою позицию цитатой из работы Николая Бухарина «Теория исторического материализма»: «Содержание искусства определяется, в конечном счете, основной закономерностью общественного развития: оно (содержание) есть функция общественной экономики и вместе с нею функция производственных сил»[662].
В качестве некоторого вывода Коряк пишет, что для формалиста существует только форма, а для «содержательника» – только содержание (форма есть лишь его часть). В такой оппозиции критик усматривает разные подходы к искусству у разных классов.
Интересную попытку объединить марксизм и формализм, по мнению Коряка, сделал в своей работе «Социологический метод в литературе» «известный исследователь стиля Шевченко» Борис Якубский, которого критик называет «спецом»[663] в области морфологии.
В заключение своего критического обзора Коряк положительно оценивает появление Ассоциации панфутуристов[664], которую он называет «форпостом Октябрьской революции», а их полезную деятельность видит в деструкции и ликвидации старой традиции. К этому Коряк добавляет, что «пустая, свободная от социально важного содержания» форма нынче признается футуризмом только как «лабораторное дело».
Другая статья Коряка – «Борьба этажей»[665], опубликованная два года спустя в «Червоном шляхе», – позволяет более точно понять идейные позиции критика в вопросе формального метода. По словам самого автора, его статья призвана раскрыть суть формального метода с тем, чтобы установить, «что пойдет из этого как материал для марксистской науки про литературу, а что нужно решительно осудить»[666]. Статью можно условно разделить на две части: в первой автор воспроизводит историю развития русского формализма и «каталогизирует» основные «формальные проблемы», во второй – оспаривает положения формальной школы с точки зрения марксистской критики. Отсюда и название статьи – «Борьба этажей», другими словами, «борьба надстроек»: вслед за Плехановым критик выстраивает систему взаимообусловленности и иерархии разных «этажей» – социально-политического, экономического, психологического, идеологического, литературного (морфологического), где последний служит для «художественного оформления идеологии».
Начинает Коряк с выделения «фракций формалистов»: 1) психологический формализм (потебнианцы); 2) этнографический формализм (школа Веселовского); 3) лингвистический формализм (ОПОЯЗ); 4) эклектичный формализм (Жирмунский), 5) футуристический формализм (разные комфуты). Подобное разделение само по себе свидетельствует о глубоком знакомстве критика с основными работами не только ОПОЯЗа, но и так называемого «околоопоязовского круга» (подтверждением чему является отнесение Жирмунского к «эклектичному формализму»: «таких схоластов, как Жирмунский, формалисты не признают»[667]).
Кроме того, особенностью работы Коряка является не только знание основных работ ОПОЯЗа, но и последовательное изложение истории русского формализма и его связи с футуристическими практиками. Так, Коряк отмечает, что «формалисты» восстали против давления старой науки и символизма, стремясь «отвоевать» поэтику, «освободить ее от субъективизма и философских построений символизма (мистики) и стать на путь ‹…› научного исследования фактов. Тут сообщниками им были футуристы-заумники»[668].
Критик справедливо определяет «спецификацию» науки о литературе как центральное понятие формальной теории, с чем связывает начало работы опоязовцев: выделение литературного ряда из других рядов (быта, психологии, политики, философии) и разделение поэтического и практического языков. Здесь автор называет работы Л. Якубинского, О. Брика, В. Шкловского, посвященные вопросам изучения поэтического языка. При этом Коряк отмечает, что окончательно принцип спецификации был сформулирован Романом Якобсоном только в 1921 году в его статье «Новейшая русская поэзия», в которой автор определил понятие «литературности».
Центральным местом статьи является «каталог формальных проблем», составленный Коряком: подробный список основных вопросов по методологии и теоретической поэтике, которых в своих работах касались разные «фракции формалистов». Так, список вопросов по методологии насчитывает 58 пунктов: от «поэтики исторической и теоретической» до «выхода в историю»; список по теоретической поэтике содержит 177 позиций, начиная с «метрики» и заканчивая «большими сюжетными жанрами (романом, повестью, песней, драмой)»[669]. Критик отмечает, что «противоречивость проблем является результатом недостатка единой принципиальной линии в разных фракциях формалистов. Если она есть у ОПОЯЗа, то ее не признают другие». Под «другими» автор подразумевает Жирмунского, Белецкого, а также теоретиков-потебнианцев.
И наконец, Коряк определяет «формализм» как мировоззрение, враждебное марксизму, поскольку последний «отрицает самостоятельность искусственно созданного литературного ряда, отрицает литературный фетишизм»[670]:
Искусство не существует само по себе, оно является явлением общественным. То есть для изучения его нужно выйти за границы лабораторного «литературного ряда» – тут и начинается «борьба этажей», борьба «за науку», «против метафизики». ‹…› Морфологический подсчет, формалистическая бухгалтерия еще не наука. Формалистические попы один ряд общественных явлений – искусство – фетишизируют в божественную инстанцию[671].
Однако, несмотря на то что формализм Коряк отвергает как метод и мировоззрение, он предлагает использовать основные методологические наработки и понятия «формализма» в построении марксистской науки о литературе. Опираясь на теоретические взгляды Павла Сакулина[672], автор статьи обозначает, что анализ литературного произведения должен включать изучение формы (звук, образ, слово, ритм, композиция, жанр) и содержания (поэтическая тематика, художественный стиль в целом). Из этого следует, что отдельные понятия русского формализма (литературный факт, материал, фабула, лейтмотив и др.), по мнению критика, должны изучаться в их тесной связи с социальным устройством общества, историей и психологией отдельных классов, с учетом так называемого «каузального» ряда. Свою статью критик подытоживает: «Научное литературоведение может опираться только на марксистскую социологию стиля, который ‹…› преодолевает анархию ненаучных подходов к литературе»[673].
Итак, перед нами интересный пример попытки критика-марксиста «примирить» формальный и социологический методы. В проанализированных выше статьях Коряка можно выделить два типа дискурса. С одной стороны, критик выступает с позиций марксизма, рассматривающего формализм исключительно как «идеалистическое, буржуазное» течение, с другой – Коряк демонстрирует известную тонкость в понимании принципов формального метода. Сам факт его осведомленности о последних достижениях формальной школы говорит о профессиональном интересе к ней и, как мы видим из статьи 1925 года, – о стремлении применить некоторые приемы формального метода в рамках марксистского литературоведения.
В целом интерес к формальному методу не угасает на протяжении 1920‐х, о чем свидетельствует огромное количество работ, статей и рецензий, опубликованных после 1923 года. В каком-то смысле на новый виток обсуждение проблемы формы и содержания выходит в 1925 году, что связано с публикацией отдельных работ как опоязовцев, так и украинских «формалистов». В качестве примера здесь приведем некоторые из них.
Прежде всего это работа Миколы Зерова «Новая украинская словесность» (1924) и подробная статья Агапия Шамрая «На путях к объективной истории украинской словесности»[674], посвященная выходу этой книги. В следующем, 1925 году проблеме формы и содержания посвятил ряд статей литературный критик и писатель Михаил Могилянский[675], который также опубликовал рецензию на книгу Шкловского «Сентиментальное путешествие. Воспоминания 1918–1923». В рецензии находим следующее любопытное замечание:
Воспоминания Шкловского рассказывают про тревожную и великую эпоху, помогая читателю не только в общих чертах сориентироваться в событиях, более-менее известных, но и отметить ее (эпохи. – Г. Б., А. Д.) особенности, что интересно не только широкому кругу читателей, но и ценно для будущего историка[676].
В том же 1925 году в «Червоном шляхе» была опубликована положительная рецензия Белецкого на другую только что вышедшую работу Шкловского «О теории прозы». Здесь приведем обширную цитату, которая подтверждает некоторые уже высказанные нами предположения и наблюдения:
Говоря о формалистах, у нас, конечно, без разбора мешают в одну кучу имена Жирмунского, Эйхенбаума, Шкловского. Но проф. В. Жирмунский, ученый историк литературы, совсем не отрицает наличие содержания в литературном произведении, не раз выступал с весомой критикой «формального метода» и давно вылечился от своего увлечения формализмом, его связь с Опоязом продолжалась недолго и давно закончилась. Другое дело обстоит с Б. Эйхенбаумом: но и он, конечно, прежде всего, исследователь, и если бы история формального метода начиналась с его работ про Лермонтова или молодого Толстого, вокруг формализма никогда бы не возникло столько шума и споров, которые он (формализм. – Г. Б., А. Д.) вызвал благодаря энергии и темпераменту Виктора Шкловского[677].
Большое внимание проблеме формального метода и освещению работы Бориса Томашевского «Теория литературы» (1925) уделил Борис Навроцкий в своей статье «Формализм или субъективный эстетизм»[678]. Так, Навроцкий отмечает:
…нужно признать, что «формализм» является одним из самых сильных современных направлений, которое еще не пришло к окончательному «самоопределению». Вот почему появление книги Томашевского неслучайно. Ее нужно рассматривать как первую попытку краткого изложения достижений предыдущих исследователей: бывших и нынешних участников ОПОЯЗа – Шкловского, Жирмунского, Тынянова и других. ‹…› Такая попытка очерка поэтики в духе «формализма» будет влиять и на украинских исследователей, вызывая то или иное отношение к себе, ведь, как мы видели, работы предшественников Томашевского всегда вызывали очень большой интерес в Украине, следствием чего были и соответствующие статьи Меженко, Коряка и других[679].
Таким образом, можно утверждать, что приезд Бориса Эйхенбаума в Харьков в 1926 году был «теоретически подготовлен». Эйхенбаум не привез новые идеи, которые шокировали бы слушателей – эти идеи были прекрасно известны украинским литературоведам и критикам: они их обсуждали и в каком-то смысле даже ими жили. Визит Эйхенбаума ознаменовал собой вторую фазу процесса культурного трансфера: первоначальная апроприация идей русских формалистов украинскими критиками и литературоведами произошла; в контексте формирующейся национальной украинской культуры нового типа, элементы формального метода играли иную инструментальную роль, нежели в самом русском формализме. Здесь можно говорить об украинской версии формализма, но не в смысле теории (обогащение методологического арсенала анализа формы, по сути, не произошло), а в смысле применения метода. Эйхенбаум, приехав в Харьков, столкнулся с той самой литературной теорией, одним из отцов которой он был, но только использовали ее для весьма специфических целей.
Глава 3. Борис Эйхенбаум в Украине
Дискуссия вокруг статьи «Теория „Формального метода“» в журналах «Червоный шлях» и «Красное слово»[680]
В августовском номере журнала «Червоный шлях»[681] за 1926 год была впервые опубликована статья Бориса Эйхенбаума «Теория „формального метода“» в переводе на украинский язык[682]. Публикация была сделана с пометкой: «Учитывая многочисленные просьбы читателей ответить на страницах нашего журнала на вопрос о „формальном методе“, редакция дает в этом номере как статью Б. Эйхенбаума, так и ее критику…»[683]. Вместе со статьей Эйхенбаума были напечатаны полемические статьи двух украинских авторов – Захария Чучмарева «Социологический метод в истории и теории литературы» и Агапия Шамрая «„Формальный“ метод в литературе». Статья следующего участника дискуссии, Василя Бойко, «Формализм и марксизм» вышла в декабрьском номере. И наконец, в мартовском номере журнала «Красное слово» за 1927 год была помещена статья литературоведа и деятеля культуры Анатолия Машкина «Формализм и его пути», которая завершала полемику.
Известно также, что за несколько месяцев до публикации, 18–19 апреля, в харьковском Доме ученых[684] Эйхенбаум прочел три лекции, посвященные разным аспектам формальной теории: «Что такое формальный метод», «В борьбе за литературу» и лекцию о концепции «литературного быта»[685]. О содержании лекций можно узнать из статей В. Бойко и А. Машкина, которые пересказывают и обильно цитируют их[686].
Можно предположить, что Эйхенбаума пригласил в Харьков Александр Белецкий, который, напомним, с 1926 года возглавлял секцию теории и методологии литературы при кафедре литературоведения Харьковского института народного образования. Как уже говорилось выше, тематика работы литературоведческого семинара Белецкого свидетельствует о большом интересе харьковских литературоведов к формальной теории. О том, что Белецкий мог выступить инициатором организации публичных лекций Эйхенбаума, есть косвенное свидетельство в его письме к М. Зерову от 1 января 1929 года: «Дом Ученых по предложению моему и М. П. Самарина предполагает просить Вас и П. Филиповича приехать в Харьков для прочтения в ДУ какого-либо доклада-лекции во второй половине января – в первой половине февраля. Мне поручили узнать на этот счет Ваше мнение»[687].
В то же время пригласить Эйхенбаума в Харьков мог Борис Лезин, редактор харьковских сборников «Вопросы теории и психологии творчества» (1907–1923). Известно, что 25 апреля 1925 года Эйхенбаум выступил в ГИИИ с докладом и текст его через два дня отправил Лезину, который планировал возобновить издание сборников[688]. Однако этого не произошло, и статья была передана в редакцию журнала «Червоный шлях».
Благодаря несостоявшейся попытке Лезина возобновить издание «Вопросов теории…» в журнале «Жизнь и революция» («Життя й революція») в начале 1927 года была опубликована статья Виктора Виноградова «О теории литературных стилей». Статья Виноградова, как и статья Эйхенбаума, была написана специально для планируемого сборника, и впоследствии Лезин передал ее в редакцию журнала[689]. Из сохранившегося плана переиздания сборника можно узнать, что он должен был называться «Введение в изучение поэтического творчества» и состоять из пяти частей – «Слово», «Словесные произведения», «Процесс поэтического творчества», «Литература и критика», «Наука о литературе». Помимо самих Лезина, Эйхенбаума и Виноградова, к участию в сборнике были приглашены А. Белецкий, Е. Кагаров, А. Машкин, Л. Булаховский, В. Харциев, Т. Райнов, Б. Томашевский, В. Жирмунский, П. Сакулин, А. Горнфельд, Б. Энгельгардт и др.[690]
После визита в Харьков Эйхенбаум должен был отправиться читать лекцию в Киев, однако из письма Бориса Якубского Эйхенбауму от 4 августа 1926 года явствует, что лекция не состоялась (см. Приложение). Отметим также, что в июле 1926‐го в Харькове побывали Виктор Жирмунский[691] и Виктор Шкловский. В заметке, помещенной в газете «Вечернее радио» от 20 июля, сообщалось, что в Харьков прибыл «известный писатель и теоретик литературы Виктор Шкловский», приезд которого связан с переговорами с ВУФКУ[692] о постановке фильма по его сценарию[693]. Предположительно, именно в эти дни – 20–22 июля Шкловский выступил с открытой лекцией[694] во Всеукраинском коммунистическом институте журналистики[695].
Сама же статья Эйхенбаума возникла на волне полемики вокруг теории «формального метода» в русской периодике в 1923–1925 годов, которая в исторической перспективе стала переломным моментом в развитии формализма[696]. Как отмечает В. Эрлих, если в начале 1920‐х критики-марксисты предпочитали «игнорировать» резкие заявления формалистов, то с растущей популярностью ОПОЯЗа в кругах литературоведов и писателей эта ситуация меняется – формализм начинает восприниматься как серьезный конкурент «исторического материализма»[697]. С критикой формализма выступил сам Лев Троцкий[698]. Его определение формализма как «реакционного мировоззрения» сориентировало последующее рассмотрение формальной теории сквозь призму идеологии и выработало отношение к формализму как к «буржуазной науке», хотя уже через пару лет начались официальные советские гонения, включая идеологические, на самого Троцкого, которые закончились его высылкой. Тем не менее именно Троцкий во многом сформировал официозный советский идеологический контекст, в котором появилась и в котором следует рассматривать авторефлексивную статью Б. Эйхенбаума[699].
Ретроспективная цепочка, которую выстраивает Эйхенбаум, тянется от вопроса о звуках стиха и противопоставления поэтического языка практическому к вопросу институционального функционирования литературы – литературному быту. Эйхенбаум достаточно подробно излагает как общий контекст возникновения ОПОЯЗа, так и сам формальный подход к анализу литературного материала[700].
Здесь хотелось бы обратить внимание на несколько важных моментов для понимания авторских интенций. Первый вывод будет связан с прагматическим аспектом текста. Если принять во внимание толкование процесса «понимания» Гадамером, то за любым речевым высказыванием стоит предвосхищающий его вопрос, т. е. оно мотивированно («Стоящий за высказыванием вопрос – вот то единственное, что придает ему смысл»[701]). Имплицитно в тексте этот вопрос обозначен самим же автором статьи: «Мы окружены эклектиками и эпигонами, превращающими формальный метод в некую неподвижную систему „формализма“, которая служит для выработки терминов, схем и классификаций. ‹…› Никакой такой системы или доктрины у нас не было и нет»[702].
Таким образом, всю статью следует рассматривать не только как один из многих формалистских автометатекстов[703], а как попытку объяснить и даже в какой-то степени исторически «оправдать» свою позицию: «Первоначальный период научной борьбы закончен ‹…›. История требовала от нас настоящего революционного пафоса – категорических тезисов, беспощадной иронии, дерзкого отказа от каких бы то ни было соглашательств»[704].
В этом смысле очевидной становиться авторская интенция подчеркнуть (в первую очередь) «эволюционность» метода в ответ на обвинения оппонентов. Поэтому не случайно Эйхенбаум занимает достаточно тенденциозную позицию, с самого начала стремясь обозначить, что формальный метод образовался «не в результате создания особой „методологической“ системы, а в процессе борьбы (курсив наш. – Г. Б., А. Д.) за самостоятельность и конкретность литературной науки»[705].
Здесь мы подходим к другому, не менее важному аспекту, а именно к вопросу «научности» формального метода. Своим вводным пассажем Эйхенбаум стремится определить готовность к дальнейшим дискуссиям. На такую особенность «научности» формалистов (т. е. того, как «делалась наука», самой сути процесса) обращает внимание Оге Ханзен-Лёве, в частности, он указывает на «свободную, игровую атмосферу формалистских кружков, где царил интимный, личный, персональный настрой семинарских занятий»[706]. Это, естественно, шло вразрез с монологичной позицией и академизмом предшествующей науки, существовавшей в строго обозначенных рамках научного жанра. Такая атмосфера, по мнению Ханзена-Лёве, подчеркивает настроенность на диалогичность и коммуникативный характер научного поля, в котором обитал формализм, где «всякое понятие определялось не номинативно, оно сопровождалось многообразными полемическими коннотациями»[707]. Несомненно, что эту стратегию Эйхенбаум переносит и в свой текст[708].
Тем не менее здесь возникает вопрос: почему при всем своем желании «обновить» науку о литературе формалисты занимают «остраненную» позицию по отношению к фигуре ученого, как бы вынося себя за скобки научного мира? Подобная позиция связана с пониманием того, что сам объект изучения – литературный материал – не статичен: «Литературный факт – разносоставен, и в этом смысле литература есть [не]прерывно эволюционирующий ряд»[709]. Именно на эту нерелевантность объекта изучения и метода позже указывает Гадамер, намеренно отказываясь от разработки метода с целью «более истинной интерпретации»: «Сущность научной методологии в том и состоит, что научные высказывания – как бы копилка бесспорных истин»[710]. В таком ракурсе «свободная» позиция формалистов по отношению к собственному методу и предмету изучения становится более понятной: «Мы достаточно свободны от собственных теорий, как и должна быть свободна наука, поскольку есть разница между теорией и убеждением»[711].
Такая заложенная методологическая открытость (в смысле конвертируемости системы) формалистов вызвала бурю негодования среди украинских критиков из марксистского лагеря. К примеру, Чучмарев обвинял формалистов в отсутствии «готовой системы и доктрины», называл такую позицию «домашней халатной философией»: «Что же это за наука, если нет системы? Если наука формалистов свободна от теорий – а между теорией и убеждением по Эйхенбауму есть большая разница, – тогда наука формалистов подлежит только убеждению, которое не имеет ни теории, ни системы»[712]. Схожую начальную позицию находим и в статье Бойко: «…без научного метода не может быть и науки. А главным признаком научного метода должна быть объективность»[713].

