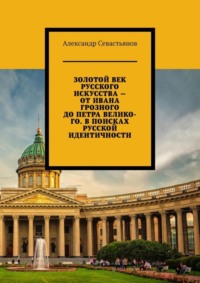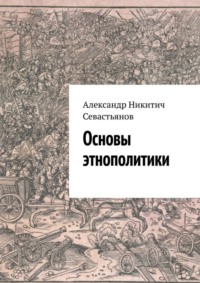Полная версия
Апология дворянства
Вот что можно сказать в отношении самой идеи наших авторов как таковой.
Теперь, поставив здесь большую смысловую точку, можно развлечься приятными историческими деталями и поговорить о пресловутых культурных барьерах. Так ли были они высоки и непроходимы, так ли разрушали единство нации и подрывали нациестроительство, как это представляют себе и нам Соловей и Сергеев?
О «тотальной франкофонии» дворян
Соловей и Сергеев убедили себя, что у русских дворян были в массе очень серьезные проблемы с родным русским языком. Оба так упирают на это предположение, что только диву даешься: как русские дворяне вообще жили среди русского народа, будто «немцы» какие (в изначальном смысле – немотствующие, т.е. неспособные понимать и говорить по-русски).
Соловей даже приводит Россию в невыгодное для нее сравнение с Англией, подразумевая и другие развитые страны: «В тех европейских государствах, где аристократия также включала значительные иноэтничные группы, культурная (не социальная) дистанция между нобилитетом и простым народом уменьшалась (в Англии уже в XIV в. французский язык был в значительной мере вытеснен английским). В России же она драматически увеличивалась, и это различие культивировалось». 96
На это, конечно, можно было бы возразить, что как раз в Англии XIX века собственно английский язык претерпел резкое социальное расслоение на т.н. социолекты: на язык аристократов и денди и язык лондонских кокни (низших слоев населения). Эти категории английской нации буквально не понимали друг друга в продолжение всего столетия. (При этом одновременно бурно нарастали культурные различия сословий и по другим векторам и критериям.) В России же никаких социолектов не было никогда, русский язык был для всех одним, что для крестьянина, что для дворянина, который впитывал его непосредственно на улицах и не только от родных, но и от собственных дворовых. 97
Но суть не в этом. Если иметь в виду непосредственно язык иноэтничного нобилитета, то на Британских островах эта прививка была к тому времени уже слабой и очень давней. Франкофония, существуя когда-то лишь в верхнем правящем слое, постепенно уступала культурному давлению нижних слоев, за многие столетия произошла нивелировка. Хотя мощный и уродливый след галлицизма до сих пор остается в английской письменности, да и на работу в Вестминстерский дворец, для обслуживания королевской фамилии, до сих пор не принимают без знания французского языка. Русские не прошли и малой части этого срока, если считать от французской революции, наводнившей Россию иммигрантами, как Вильгельм Англию нормандцами. Понятно, что и позднее французская прививка еще жила в русском обществе, хотя уже через сто лет по-французски разговаривали разве что в высшем свете, а в русской письменности от нее практически не осталось и следа (опыт Толстого в «Войне и мире» уже никому не приходило в голову повторить).
Но можно ли сказать, что культурная дистанция в нашей стране увеличивалась? Ни в коем случае. Весь «Золотой» и «Серебряный» век нашей культуры – это тотальное господство и триумф русского языка! Покажите-ка мне успешного франкоязычного или англоязычного писателя среди русских! Какие произведения русских авторов, написанные не по-русски, пользовались успехом?! Или хотя бы могли им пользоваться? Категорически, это было совершенно невозможно! Все русские авторы соревновались друг с другом именно в русском языке, стремясь перещеголять один другого тончайшим его знанием, виртуознейшим использованием! 98
Этим интересом, этим стремлением, этой жаждой, кстати, были вызваны к жизни и басни Крылова, и «Словарь живого великорусского языка» Владимира Даля, работу над которым он начал еще в 1819 г., а первое издание начало выходить в 1861. Но словарю Даля предшествовало создание шеститомного академического словаря русского языка (1789—1794) и учебника русской грамматики (1802), а еще раньше, в 1757 году, вышла из печати «Русская грамматика» Михаила Ломоносова. Ради совершенного познания родной речи сам Пушкин, по его признанию, ходил «учиться языку» к московским просвирням (своеобразное ремесленное сословие изготовителей церковных просфор). Рассказывая своим читателям-дворянам о том, что «здесь русский дух, здесь Русью пахнет», он удовлетворял их массовому запросу на сугубую русскость, их стремлению быть русскими вполне. Той же задаче служило и создание Карамзиным на русском языке «Истории Государства Российского» (первое издание 1816 г.). И т.д., и т. п. 99
Соловей явно преувеличил, причем настолько хватил через край, что извратил всю картину в угоду оригинальной концепции «нового прочтения». Это преувеличение счел нужным подхватить и даже еще усугубить Сергей Сергеев. Он, в частности, пишет:
«О культурной отгороженности дворянства от „народа“, как об опасном для национального бытия расколе, нуждающемся в срочном преодолении, много писалось с начала XIX века, но в XVIII столетии в этом не видели трагедии. „Юности честное зерцало“, напротив, поучало, что „младые шляхетские отроки должны всегда между собой говорить иностранными языками, дабы можно было их от других незнающих болванов распознать, дабы можно было им говорить так, чтобы слуги их не понимали“. „Шляхетские отроки“ это наставление подхватили с таким энтузиазмом, что даже накануне войны 1812 года „высшее общество… говорило по-русски более самоучкою и знало его понаслышке“ (Н. Ф. Дубровин), за исключением наиболее экспрессивной части „великого и могучего“, которая использовалась для общения с . А. М. Тургенев, по его словам, „знал толпу князей Трубецких, Долгоруких, Голицыных, Оболенских, Несвицких, Щербатовых, Хованских, Волконских, Мещерских, – да всех не упомнишь и не сочтешь, – которые не могли написать на русском языке двух строчек, но все умели красноречиво говорить по-русски“ непечатные слова». подлым народом 100
«Толпа князей» – это, конечно, сильно сказано. Но в целом разговорчики о том, что-де русское дворянство не знало русского языка, а все сплошь говорило по-иностранному – это один из расхожих мифов, а по-русски сказать, обычное вранье.
Стремление знать языки, встать на один уровень с образованной Европой было очень велико у русских людей после Петра. Но разве только у дворян? Языки, не только древние, изучались детьми священников в семинариях, а в Московской духовной академии в обязательном порядке – аж четыре основных европейских! Что же до Переводческой семинарии (открыта в 1779), так там обучались почти исключительно разночинцы, как и в Харьковском коллегиуме, как и в Академии наук (СПб), где было главное «гнездо» русских переводчиков.
Автору этих строк принадлежит статья «Формирование русской интеллигенции в XVIII веке», с которой Сергеев, как видно, не знаком. Из нее можно узнать, в том числе, что к концу XVIII века общее количество дворян, получивших среднее и высшее образование, в том числе в пансионах и за границей, исчислялось цифрой не более 15 тысяч. Всего! Это довольно тонкая пленочка на дворянском сословии в целом, примерно 10—12%. Проблема была настолько остра, что одним из первых своих указов Александр I распорядился неграмотных дворян брать только рядовыми в гвардию и армию, а в офицеры не ставить. Известный конфликт дворянской интеллигенции с собственным сословием во многом обсусловлен данной статистикой. 101
Не- и малограмотные дворяне, коих было подавляющее большинство, конечно же, изъяснялись народным русским языком, вовсе не только непечатным, само собой разумеется. Кстати, как совершенно Пушкин владел простым русским матом! В том числе в стихах, да и в письмах, которые во множестве писал своим друзьям. Но и стихи, и письма притом были писаны по-русски, хотя французским поэт также владел в совершенстве.
По-русски изъяснялись и высокообразованные дворяне в своем большинстве. Замечу, что производство основной массы дворянской интеллигенции шло посредством государственных вузов – кадетских корпусов: Сухопутного, Морского, Артиллерийского и инженерного, Пажеского корпуса, Института благородных девиц. Языки там изучались, но основное преподавание шло на русском. То же и в частных и государственных пансионах. Вспомните лучший из них – Царскосельский лицей: там даже уроки русского стихосложения были! Как и в Московском университетском благородном пансионе. Многие провинциальные дворяне не гнушались получать начатки знаний в четырехклассных Главных народных училищах, как, например, известный поэт-гвардеец С. Марин. И т. д.
Знание иностранных языков, которым блистало высокообразованное дворянство (относительно немногочисленное, напомню), однако, вовсе не вело к забвению русского, как можно бы понять из текста Сергеева. Достаточно сказать, что к концу XVIII века основной корпус русских литераторов состоял именно из дворян. И это не десяток-другой всем известных писателей, а около 700 человек – 65,7% всего количества пишущей братии. Собственно, они-то и создали русскую литературу как феномен, унаследованный XIX веком; корни Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого – здесь. Мне смешно, когда я слышу очередной миф о Пушкине как о создателе, якобы, современного русского языка. Русский язык создавали именно эти сотни русских дворянских авторов, которые писали для свого круга и на творчестве которых выросли сверстники Пушкина, он сам и новые сотни дворянских же авторов его времени. Мы прочно забыли их, но они были, эти сотни, и их-то рабочие кабинеты и стали подлинной лабораторией русской литературы. Но создавать русский язык, не зная его, они бы никак не могли. 102 103
Именно к многочисленной пишущей братии, в том числе дворянской, был обращен призыв Карамзина писать так, как мы говорим. Это было сказано русским дворянином, для русских и по-русски. 104
Но не только дворянское сословие чувствовало необходимость откорректировать ситуацию в языке. Как верно заметила О. И. Елисеева: «Правительство Екатерины II понимало создавшуюся угрозу потери лингвистической идентичности. Об этом свидетельствует инициатива императрицы по созданию Академии русского языка для печатания „Словаря“, который помог бы ввести в речевой оборот максимально большее число русских слов и научить правильно пользоваться ими». Любовное отношение к родной речи культивировалось на самом верху, в том числе благодаря литературным и научным трудам самой императрицы. 105
Следует помнить, что в Российской империи все делопроизводство, внутренняя официальная переписка, государственные акты и законодательство велись исключительно на русском языке. Отдельные документы, предназначенные для внутреннего и внешнего употребления, как, например, знаменитый екатерининский Наказ Уложенной комиссии, публиковались на русском и других языках, но это довольно редкий случай. Все это говорит о том, что как минимум все чиновничество и офицерство должно было знать русский. К тому надо добавить, что испокон веку даже жалобы и просьбы все сословия подавали только на русском языке.
Напомню также, что создание шеститомного «Словаря русского языка» (1789—1794) проходило вообще под водительством русских дворян во главе с графиней Е. Р. Воронцовой (княгиней Дашковой). Заказу правительства соответствовало также создание учебников русской грамматики (1757, 1802), один из которых был изготовлен Ломоносовым.
Сохранилось характерное свидетельство о друге и покровителе Ломоносова, последнем фаворите императрицы Елизаветы Петровны, И. И. Шувалове: «В разговорах и рассказах он имел речь светлую, быструю, без всяких приголосков. Русский язык его, с красивою отделкою в тонкостях и тонах. Французский он употреблял, где его вводили, и когда по предмету хотел что-то сильное выразить». 106
Удивительно ли, что сам Михаил Васильевич писал в своем труде: «Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, французским – с друзьями, немецким – с приятелями, итальянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка».
Эти слова знала наизусть вся образованная Россия. И кем как не высокого круга дворянами было организовано общество «Беседа любителей русского слова», возглавлявшееся адмиралом А. С. Шишковым! Правительственные усилия по русификации образованных кругов опирались на дворянскую поддержку.
Но и позже, в эпоху Отечественной войны 1812 года, и далее весьма долгое время (едва ли не до самой революции) дворянство оставалось бесспорным лидером в духовном производстве, в литературе, в частности. Оно не могло бы играть такую роль, не лидируя и во владении русским языком. Не так ли?
Пример дворянского сына Ивана Крылова – живого носителя отборнейшего, лучшего народного языка – высоко взнесенного именно в дворянской литературной среде, поставленного современниками в один ряд с Пушкиным и Грибоедовым, убеждает в этом вполне наглядно. За что же рафинированное общество Петербурга чтило и лелеяло своего любимца Ивана Андреича? А вот именно за то, что благодаря ему все великолепие «живого великорусского языка» (Владимир Даль, который, кстати, был дворянского звания), с самого раннего детства входило в обиход дворянских девочек и мальчиков, учившихся читать по крыловским басням, как в прежние века – по Псалтири. Однако Крылов как литератор сложился-то еще в XVIII веке, и первыми его воспитанниками, для которых он и начал баснотворствовать, были княжеские дети! Факт знаменательный.
А где, у кого брал язык Крылов? У тех же просвирен, в Гостином дворе, на Сенном рынке, в родной Твери? Не только.
Обратим внимание на такую деталь быта, как ямщик, к услугам которого часто прибегали все без исключения представители правящего класса. Мало кто из русских писателей и поэтов обошел вниманием этот феномен: «разливается песнь ямщика», это поистине всепроникающий образ; начнешь цитировать – не остановишься. Ямщик с его птицей-тройкой и особенным пением («что-то слышится родное в долгих песнях ямщика: то разгулье удалое, то сердечная тоска») был близок и дорог любой русской душе, и душе русского дворянина не менее того. Но ведь не по-французски же он пел!
Вообще, уже было верно отмечено: «В довершение ко всему простонародье постоянно пело. На этот феномен особо обращают внимание многие путешественники. Крестьяне и мастеровые привыкли сопровождать пением работу, в основе этой традиции лежали языческие заговоры, с которыми славяне отправлялись в лес за грибами, на охоту или на рыбную ловлю, ткали холсты или рубили избы, пахали поле, сеяли и собирали урожай. Давно утратив первоначальный смысл, обрядовые слова сохранялись в народной традиции как привычные речитативы и приговоры, произносившиеся нараспев. „Вечером на гумне пели жены лакеев и конюхов, – писала домой Марта [Вильмот]. – Это был настоящий концерт: женщины поочередно вступали в хор – по четыре, пять и шесть человек, их пение на разные голоса было превосходным… Иногда во время обеда слуги услаждают наш слух музыкой. Поют все, а большинство играют на каком-нибудь музыкальном инструменте. Горничные, конечно, поют тоже, танцы их необычайно своеобразны – разные па сопровождаются короткими песенками, задорными или сентиментальными, и всегда исполнение отличается врожденным изяществом, что, как мне кажется, вообще свойственно русским“» (Елисеева, 511).
Русские мамки, няньки и дядьки из дворовых были у всех повсеместно за исключением, может быть, самых рафинированных аристократов. Не у всех были такие воспитатели, как Крылов, или такие нянюшки, как Арина Родионовна. Но уж ямщики были знакомы каждому, и вообще русская языковая среда, насквозь пропитанная фольклором, окружала дворянских детей с рождения, и в деревне, как Петрушу Гринева, и в городе, как его литературного родителя (Пушкин: «Теперь мила мне балалайка И пьяный топот трепака Перед порогом кабака»; ср. Лермонтов: «И в праздник вечером росистым Смотреть до полночи готов На пляску с топаньем и свистом Под говор пьяных мужичков»).
Впрочем, конечно же, русская нянька – фактор, который нельзя недооценивать. «Няньки, приставленные к детям, порой оказывали на них большее влияние, чем родители, особенно в раннем возрасте, когда ребенок всецело находился на руках кормилицы. От них барчата перенимали не только простонародную манеру поведения, которая впоследствии изглаживалась. Куда хуже было то, что вместе с фольклорным пластом культуры усваивались страхи и суеверия, избавиться от которых не удавалось всю жизнь» (Елисеева, 344). Как пишет Ю. М. Лотман в «Комментариях» в пушкинскому роману в стихах, «Филиппьевна (няня Татьяны) и Арина Родионовна не были исключениями. Ср., например: „Авдотья Назаровна была крепостная девушка моей бабушки Есиповой, товарищ детства моей матери, которой она была дана в приданое. <…> Нянька моя была женщина очень неглупая, но, прежде всего, добрая и любящая, честная и совершенно бескорыстная. Она ходила за мной шесть лет, а потом нянчила еще брата и четырех сестер“». Понятно, что дворянчики, выросшие в таких руках, не могли не знать, не чувствовать живой русский язык во всех нюансах. 107
А вот еще интересный пример. В начале XIX века в Россию по приглашению известного меломана, богатого помещика и генерал-майора Г. И. Бибикова из Франции прибыл балетмейстер Йогель, именуемый у нас Петром Андреевичем (1768—1855). Устроив своему пригласителю балет в усадьбе, он затем купил дом в Москве и открыл школу танцев для дворянских детей. (Кстати, именно на бале у Йогеля Пушкин впервые встретил и полюбил Наталью Гончарову.) Вот что пишет о нем в своих воспоминаниях балетмейстер императорских театров Адам Глушковский: «К достойным особенного внимания старинным учителям бальных танцев в Москве принадлежит Йогель, который в своей молодости получил отличное воспитание: он изучил русский, французский языки и музыку как нельзя лучше, о бальных танцах нечего и говорить; кто в Москве не знает об его таланте? Сквозь его руки прошли три поколения! С искусством Йогель соединяет неоценимые достоинства общежития. Он находчив, остер, всегда весел и любезен». Прошу обратить внимание: эти свои достоинства Йогель проявлял на русском языке, который специально затем и выучил «как нельзя лучше». А для чего? Конечно, для того, чтобы нормально общаться с учениками и их родителями. Но разве мало было для этого знать французский, если засилие оного было так ужасно, как это вообразили для нас Соловей и Сергеев? Видимо, мало, коли танцмейстер, лицо, зависимое от расположения клиентов, дал себе такой нелегкий труд, как изучение русского языка. 108
Или взять того же поляка Фаддея Булгарина: что бы ему не писать по-французски для образованной-то публики, тем более, что сам был некогда капитаном наполеоновской армии и кавалером Почетного легиона? Нет, пришлось учить русский.
Наконец, не для простого же народа, «гордого внука славян», в основном тогда неграмотного, писал и сам Пушкин, потомок шестисотлетнего дворянского рода! И каким русским языком!
Оставим же в покое «поврежденный класс полуевропейцев», сиречь высший свет. По этому верхушечному явлению о русском дворянстве судить никак нельзя. (Кстати, источник Сергеева, историк Н. Ф. Дубровин, работавший во 2-й пол. XIX века, сам свидетельствовать о высшем свете никак не мог за своей туда невступностью, а просто повторил чье-то расхожее мнение.) Что же касается дворянских масс, то их «языковая испорченность» была, конечно, минимальной и выражалась в самом худшем случае в «смеси французского с нижегородским» (Грибоедов). Как это выглядело? «Пуркуа ву туше? Я не могу дормир в потемках», – лепечет такой дворянчик, с испугу путаясь в словах (Пушкин, «Дубровский»). В нормальных условиях он, конечно же, говорил на отличном народном русском языке. Нижегородский доминировал.
О дворянстве вообще нельзя судить поверхностно, по отрывочным свидетельствам о космополитическом придворном круге эпохи Александра или Николая Первого и позднейших времен. Это не показатель.
Кстати, о Николае Первом: уж его-то никак нельзя обвинять в космополитизме. Император прекрасно владел русским и, между прочим, виртуозно использовал нецензурную брань; он не злоупотреблял иностранными языками и требовал того же от подданных. Ведь недаром считалось: «Говорить должно на том языке, на котором заговорят высочайшие особы». Воспоминания Полины Анненковой, жены декабриста, дают яркий тому пример: когда на допросе у царя член Северного общества Никита Муравьев обратился к нему по-французски, молодой император вспылил: «Когда ваш государь говорит с вами по-русски, вы не должны сметь говорить на другом языке». 109
Столь приниципиальное отношение к родной речи передавалось в обществе сверху вниз: к графу А. И. Остерману-Толстому однажды явился «по службе молодой офицер. Граф спросил его о чем-то по-русски. Тот отвечал на французском языке. Граф вспылил и начал выговаривать ему довольно жестко, как смеет забываться он перед старшим и отвечать ему по-французски, когда начальник обращается к нему с русскою речью. Запуганный юноша смущается, извиняется, но не преклоняет графа на милость». 110
Возражая мне на некоторые критические замечания (нашу полемику опубликовал в 2010 г. сайт АПН), Сергеев написал: «Незнание русского языка „образованным обществом“ – одна из самых обсуждаемых тем в русской публицистике конца 18 – первой половины 19 в. Уж коли вспоминать Грибоедова, то вспомним и это: „Воскреснем ли когда от чужевластья мод? / Чтоб умный, бодрый наш народ / Хотя по языку нас не считал за немцев“. Для меня большая проблема работать с эпистолярными источниками этой эпохи – слишком много французского, которого я „не разумею“, иногда целые эпистолярные комплексы написаны на нем. Это говорит о том, что французский воспринимался как язык образованных людей, а русский как „низкий“, простонародный».
Что по данному поводу выразить, помимо сочувствия историку? (Надеюсь, не эти личные трудности настроили его против былой дворянской франкофонии.) Можно, конечно, и Толстого вспомнить, в романах которого огромные фрагменты писаны по-французски. Но ведь это не от незнания Толстым русского языка или нелюбви к нему! Более того: у нас были писатели и поэты с той или иной долей нерусской крови (Дельвиг, Кюхельбекер и др.). Но русский язык, на котором они писали, был создан не ими. Его создал русский народ. Вот потому-то, в силу причастности своей к этому творению русского народа, и писатели эти называются русскими, и вся наша литература – русской.
Если бы русские образованные люди писали только по-французски, аргумент Сергеева можно было бы принять. Но и Пушкин, и Вяземский, Катенин, Языков, Баратынский и множество людей их круга постоянно вели переписку по-русски, пользуясь другими языками при необходимости. Это было щегольство своего рода, гимнастика для ума, вполне понятные и объяснимые: знание 4—5 языков у столичной и московской дворянской молодежи обоего пола уже во времена Екатерины Второй не было редкостью, в отличие от нашего времени. Об этом приходится напоминать. 111
Возьмем в соображение и такой аргумент в отношении русской дворянской франкофонии. В ходе обретения суверенитета Чехией, Венгрией, Финляндией, Украиной и т. д. национальные элиты играли в этом первостепенную роль, были подлинным локомотивом процесса. Обеспечивали его политически, юридически и культурно. Национальный суверенитет был высокой целью их жизни и деятельности. Однако при этом всем им приходилось переучиваться и переходить с латыни и немецкого – на венгерский и чешский, со шведского – на финский, с русского – на украинский и т.д., потому что в составе империй они были вынуждены говорить на официальном имперском языке. Можем ли мы за это бросить названным национальным элитам упрек в былой денационализации, в отрыве от своих наций, предательстве или забвении национальных интересов? Конечно, нет. Нелепо и предположить такое.
А вот русские были суверенны и не входили в состав каких-либо мировых империй, кроме своей собственной (и уж во всяком случае – во Французскую, и революцией униженную, и нами битую). Никто и никогда не ставил перед ними задачу языковой эмансипации как часть более важной задачи – эмансипации политической. Мы не зависели в своем суверенитете от каких-либо европейских наций, ни одна из них не имела власти принудить нас говорить на ее языке. Изучение языков для нас, русских, было не вынужденным, а добровольным и диктовалось не политической, а исключительно культурной необходимостью.
Это позволяет высоко оценить избрание русскими дворянами именно французского языка в качестве путеводителя по мировой культуре своего времени. Это был верный выбор, чтобы не остаться на обочине культурного мира. Ибо Франция – это бесспорно – со времен Людовика XIV по заслугам была признанным культурным лидером всей европеоидной ойкумены, и петровская традиция культурной солидарности с белым миром требовала от русских – хотя бы в лице передового класса дворян – быть на этой высоте.