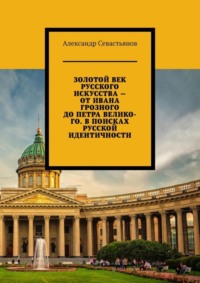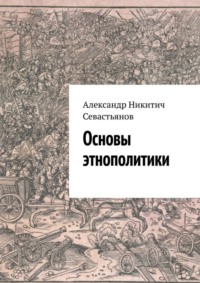Полная версия
Апология дворянства
Но нация – и в этом все дело! – не может состоять только из эксплуатируемых классов, как и ни одна биологическая популяция не может состоять только из омега-особей, а непременно включает в себя и альфа-, и бета-, и гамма-особей. Взгляд, согласно которому нация-де должна быть социально и культурно гомогенна, не выдерживает критики: ведь под этот критерий в действительности не подходил даже разрекламированный в таком качестве советский народ, имевший свой господствующий класс – номенклатуру. А других примеров мир и вовсе не знает: никто такой гомогенной нации никогда не видел, разве что в мечтах. 12
Точно так же фальшиво и ничем не обосновано утверждение, будто низшие общественные классы – это и есть золотой фонд (и генофонд) нации и ее основа, ее лучший цвет, как нам твердила советская пропаганда. Можно подумать, рабочие и крестьяне – только это и есть народ, нация в целом.
Однако никакая, даже предположительно лучшая и большая, часть не может претендовать на звание целого. Разумеется, нация не сводится, не может сводиться только к ее высшим классам, но и без них она тоже – не нация. Нация – это все вместе, бедные и богатые, сильные и слабые, знатные и простые.
Пример культурных героев любой нации, как правило, принадлежащих к классу эксплуататоров или примыкающей к нему части интеллигенции, ярко это подтверждает. История искусства вплоть до ХХ века – эпохи «восстания масс», по Ортеге-и Гассету, – есть история вкусов верхнего, эксплуататорского слоя общества, и только. Однако, разве может быть полноценная нация без национальной культуры в ее высших проявлениях? Таким образом, конституирующая роль верхних классов в процессе нациеобразования совершенно неоспорима.
Тем более в принципе несостоятельно представление о нации как о некоем этноклассе (это какой-то «слонопотам» политологии), заимствованное в новейшей отечественной традиции с Запада. В авторитете, как обычно, т.н. марксисты и лично Эрнст Геллнер, поставивший на поток производство популярных, но предельно сомнительных, а то и прямо нелепых тезисов: «Только когда классу удается в той или иной степени стать нацией, он превращается из „класса в себе“ в „класс для себя“ или „нацию для себя“. Ни классы, ни нации не являются политическими катализаторами, ими являются лишь „нации-классы“ или „классы-нации“». Эти вполне бессмысленные, высосанные из пальца вариации английского еврея-псевдомарксиста не только отчасти обнаруживаются в трудах экзотического «англичанина» Теодора Шанина, но проросли, увы, и на отечественной почве в трудах Валерия Соловья. 13 14 15
Теория Соловья о русских как эксплуатируемом этноклассе наиболее своеобразно интерпретирует эту точку зрения. Бестрепетно вычеркнув из состава народа верхние слои (не эксплуатируемые, а эксплуатирующие или к эксплуататорам примыкающие), можно, конечно, ставить вопрос и так. Но если нация, как полагают очень многие и я в том числе, – это весь разросшийся и обретший свое государство этнос, с богатыми и бедными, культурными и некультурными, эксплуататорами и эксплуатируемыми, тогда никаким «этноклассом» она не может быть по определению. Слонопотамы в природе не встречаются, а только в детских книжках.
Столь же несостоятельно и представление об утопическом обществе, в котором вообще исключена эксплуатация человека человеком, как о некоей противоположности «одноклассовой нации». Нам, жившим в «государстве рабочих и крестьян», нам, которых всячески пытались превратить в «советский народ – общество социальной однородности», нам, которым, вопреки суровой очевидности, внушали мысль об отсутствии эксплуатации в социалистическом государстве, не нужно объяснять искусственность и нежизнеспособность такой модели «нации». Ведь мы знаем об этом непосредственно, из трудного опыта нашей Родины, где главный производитель прибавочной стоимости и двигатель прогресса – интеллигенция – был полностью лишен справедливой доли в произведенном богатстве. А крестьянство на несколько десятилетий было повторно прикреплено к земле, закрепощено в колхозах.
И Соловей, и Сергеев смело проводят открытую апологию большевизма и Октября. Хотя при этом избегают опираться на труды или высказывания Покровского, Луначарского, Вишневского и иже с ними идейных большевиков (имя им легион). Возможно, стесняются такого духовного родства. Тяга к респектабельности, понимаемой в наши дни не так, как еще только треть века тому назад, определяет для них иные предпочтения в традиции мысли, как отечественной, так и зарубежной. В частности, среди своих предшественников они числят славянофилов и западных советологов/русологов.
Например, Соловей, ссылаясь на труд Веры Тольц, отмечает: «С подачи славянофилов крестьянство стало представляться квинтэссенцией русскости. В национальном литературоцентричном дискурсе эта позиция окончательно возобладала усилиями великой русской литературы, в которой со второй половины 40-х годов XIX в. важное место заняли фигуры олицетворявших „народ“ крестьянина и „маленького человека“, противопоставленных вестернизированной элите». 16 17
Что касается Сергеева, то он посвятил свою кандидатскую диссертацию, выполненную с блеском, именно славянофилам.
Правомерно предположить, что как Соловей, так и Сергеев попали в плен характерных славянофильских представлений, заразились ими. Рассуждения Соловья о русских как этноклассе, антиэлитаризм и эгалитаризм Сергеева об этом ярко свидетельствуют. Их выводы и оценки – развитие именно славянофильской концепции народолюбия, доведение ее до закономерного, заложенного в ней абсурда.
При этом Сергееву свойственно ссылаться на Соловья как на прямого идейного предшественника, на авторитет. В своей книге «Пришествие нациии?» он сочувственно пересказывает концепцию В.Д., чтобы далее исходить из нее:
«Соловей дает краткий очерк русской истории… Главной причиной кризиса 1917 года явилось культурное и этническое отчуждение элиты от народа, начавшееся с петровских реформ. Большевики сумели использовать в своих интересах „национально-освободительную борьбу русского народа“ и оседлали „качели русской истории“, „культивируя на стадии прихода к власти анархические настроения масс… В фазисе удержания и упрочения власти они обратились к не менее мощному государственническому началу русского народа“». 18
Сам же Соловей, хоть и ссылается порой на того же Сергеева, предпочитает опираться на западных ученых: Уолтера Лакера, Доминика Ливена, Люсьена Пая, Веру Тольц, Ричарда Уортмана, Лию Гринфельд или Джеффри Хоскинга. Он особенно выделяет мысль последнего о том, например, что в России «противостояли друг другу групповые идентичности: элита воплощала имперскую идентичность, а крестьянство – русскую этническую. „Для дворянства Россия определялась прежде всего империей, элитными школами, гвардейскими полками и царским двором“». 19
Здесь уместно небольшое отступление о наших методических расхождениях.
По ходу изложения я не раз подчеркну зависимость наших авторов от иностранных толкователей русской истории. В былые времена не избежать бы им упрека в низкопоклонстве перед Западом, но в наши дни приходится лишь констатировать, что такой избыточный пиетет перед рассудочными схемами западных русологов приводит к серьезным деформациям смыслов и роковым концептуальным аберрациям.
Как пример можно привести опорную для Соловья и Сергеева мысль Д. Ливена: «Низкий уровень грамотности углублял культурную пропасть между элитой и массами: он являлся дополнительной причиной, по которой в 1914 году русское общество было сильнее разделено и меньше походило на нацию, чем в 1550-м». Но тут уж, как говорится, Ливен соврал – недорого взял; его идея о том, что культурная пропасть между сословно-классовыми фракциями нации якобы уничтожает нацию как феномен, – глубоко ложна. К чему же подобный избыточный пиетет перед западным исследователем? Что за рецидив низкопоклонства? Не следовало допускать его по ряду причин. 20
Во-первых, никем и никогда не был обоснован тезис, что нация обязательно должна отличаться еще и культурной однородностью. Возможно, при коммунизме (если он когда-либо состоится) крестьянин и городской интеллигент потеряют всякие различия в образованности и менталитете. Но ожидать этого от русского общества начала ХХ века, 86% населения в котором было занято крестьянством, несколько странно.
Во-вторых, начало ХХ века как раз отличалось тем, что культурный уровень низов российского общества неуклонно повышался, к моменту революций 1917 года грамотным было уже примерно 30% населения и процесс шел по нарастающей. Да, в 1550 г. сословно-культурного различия в русском обществе было мало, но такое положение держалось не на высоком общем культурном уровне, коего не было и в помине, а на низком культурном развитии дворянства, которое было едва ли не наиболее серым слоем населения. Но в конце XIX века, по сравнению с его началом, «культурная пропасть» быстро и решительно уменьшалась, а не «углублялась», и видеть в этом катализатор классовой вражды и революций нет никаких оснований.
В-третьих, если бы от Петра Первого и далее дворянство не приняло бы на себя роль локомотива российской модернизации, не стало руководящей и направляющей силой нашего культурного развития, тогда Россия была бы обречена на безнадежное отставание, никогда не смогла бы подняться до роли сверхдержавы, а скорее всего, ее уже давно просто не было бы.
На что же сетует Сергеев? Совершенно не зная истории российской образовательной системы XVIII в., он полагает, что российское правительство – читай: дворянская империя – специально препятствовало росту образованности народных масс. Он обвиняет: «Здесь именно не недосмотр, а сознательная политика формирования огромного человеческого массива, предназначенного для того, чтобы безропотно обслуживать романовский династически-имперский проект и его непосредственного исполнителя – дворянство, быть его пушечным мясом… Ни о какой „большой“ общенародной нации при такой постановке вопроса, конечно, не могло быть и речи, и вся крестьянская политика самодержавия решительно ясна и понятна: не допустить крестьянство (а впрочем, и купечество, и духовенство тоже) на арену общественной жизни как самостоятельного субъекта». 21
В этой короткой инвективе манифестированы как минимум сразу три заблуждения:
1) никем не доказано и ниоткуда не следует, что условием формирования «общенародной нации» является общий средний уровень образованности. Послушать Сергеева, так все нации мира появились не раньше Французской революции, впервые установившей обязательность образования для всех;
2) как будет показано ниже, «пушечным мясом» всей России (крестьян в том числе) было как раз-таки дворянство, а не крестьянство;
3) правительство, начиная с Анны Иоанновны, установившей всероссийскую систему семинарского образования для детей священников, и Екатерины Второй, проведшей образовательную реформу для свободных низших сословий, в том числе черносошных крестьян, посадских и дворовых людей, разночинцев и бедного дворянства, предпринимало посильные программы народного образования, а вовсе не вело «сознательной политики» отстранения народа от начатков просвещения. Не говорю уж про реформы в сфере образования при Александре Втором.
Наконец, нельзя не заметить, что именно массовое допущение крестьянства на арену общественной жизни как самостоятельного субъекта (через его преобразование в рабочий класс и интеллигенцию) ничем хорошим не кончилось. Так что правительство, если допустить, что Сергеев обвиняет его не облыжно, было не так уж неправо.
Нужно быть очень необъективным, зашоренным или малосведущим человеком, чтобы утверждать, что в России имела место политика нарочитого недопущения народа к грамоте и просвещению, а образование использовалось как рычаг осознанной социальной стратификации (такая точка зрения была свойственна марксистам и т.н. анархистам-махаевцам, считавшим образование инструментом эксплуатации и причислявшим интеллигенцию к классовым врагам пролетариата, но нам-то сегодня зачем ее реплицировать?). Просто в России всегда приходилось туговато с ресурсами, вот где-то и не хватало земских учителей, школ и проч. А планомерное централизованное образование крепостных крестьян не входило – и это совершенно разумно – в число государственных приоритетов. Изображать это обстоятельство как некий антинародный заговор верхов – наивно, чтобы не сказать хуже.
Настоящая беда была совсем в другом, противоположном: уже во времена Александра Третьего образованных людей оказалось произведено больше, чем могла переварить российская экономика. Если уж искать причину революционизации общества, то скорее в этом, а не в культурном разрыве между стратами. Циркуляр о «кухаркиных детях», ограничивший доступ простонародья к широкому, универсальному и гуманитарному гимназическому образованию (на фоне роста и расширения профтехобразования) был совершенно необходимой и разумной мерой. О том, каким грандиозным разрушительным эффектом для СССР обернулось неосторожное введение всеобщего обязательного десятилетнего образования при Брежневе, к какому тлетворному кризису перепроизводства интеллигенции это привело, мне не раз приходилось писать. (Подобный кризис в мировой истории возникал многократно и всегда приводил к сокрушительным для общества последствиям.) Пусть это покажется кому-то парадоксальным, но к катастрофе 1917 года Россию привела не недостаточная, а избыточная грамотность и образованность, обогнавшая реальные потребности страны и режима, не справившегося со стремительным и бурным раскрестьяниванием и урбанизацией.
Идея Ливена о том, что культурная пропасть между сословно-классовыми фракциями нации якобы уничтожает нацию как феномен, – глубоко ложна. Но ее ядовитое воздействие на наши лучшие умы уже произошло, и противодействовать ему теперь нелегко, не задевая коллег, которые не так уж и виноваты.
Или взять, к примеру, весьма сочувственно цитируемую Сергеевым мысль Георгия Мейера о нерусскости (если не антирусскости) Российской империи: «Кем же преимущественно строилась она? Коренным русским племенем? Нет! Превознесшая до небес русское имя и создавшая русскую славу и русское величие, старая Империя… считала себя призванной, и действительно была призвана, это племя оевропеить. Во многих отношениях она была прямым отрицанием племенных великорусских черт, была борьбой с ними. Вообще она была живым отрицанием темного этнизма и ветхого московского терема. Для нее принадлежность к русскому племени сама по себе не означала ничего. Мерилом была лишь служба Империи». 22
Тут немец явно заврался. Со времен летописных племен именно предки современных русских вели колонизацию будущих земель Империи. А кто затем осваивал Поморье, Урал, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток? Разве не коренное русское племя? Кем были терские, гребенские, кубанские, яицкие, гурьевские, семиреченские (и т.д.) казаки? Кто брал штыком, а после колонизировал Кубань, Новороссию, Крым (и т.д.)? А разве не живое национальное чувство русских дворян заставило их свергнуть Брауншвейгскую династию и свернуть шеи двум императорам-германофилам, Петру Третьему и Павлу Первому? Как минимум с 1741 по 1825 гг. Россия была именно русской (и никакой другой) дворянской империей. Между тем, вот на такого рода резких, эпатажных суждениях иностранцев и инородцев основывают наши уважаемые русские историки ошибочный взгляд на противоречие между российской империей и русской этничностью. 23
По сложившемуся за мою жизнь убеждению, западный историк России, за редчайшим исключением, – плохой специалист и сомнительный источник, порой владеющий некоторой фактурой, изучивший отдельный аспект, но не обладающий полнотой понимания нас. Судить о русской жизни в принципе нельзя, обладая английским или французским взглядом на жизнь, менталитетом, кругозором. Мы росли на разных книжках, на разных идейно-нравственных постулатах, на разных традициях, в том числе научных и нравственно-религиозных, мы по-разному смотрим на вещи, у нас другая шкала ценностей, лестница приоритетов. Адекватнее воспринимают нас немецкие ученые (например, Андреас Каппелер), но и тут надо соблюдать осторожность, не слишком ими увлекаться, фильтровать их посылки и выводы.
Подход напрашивется один. Нельзя доверять безоглядно иностранцам, пишущим о России. Будь они хоть семи пядей во лбу, но ни знать как следует, ни понимать как следует, интегрально, нашу страну и наш народ им просто не дано. Пользоваться их наработками, их фактурой можно и нужно, а вот их «размышлизмы» следует воспринимать крайне осторожно и критически. Оба наших историка пишут вполне содержательно и интересно, но перекос в сторону иностранных авторитетов не украшает, а портит впечатление от их книг, снижает их достоверность.
Но сколь бы авторитетными ни представлялись в трудах Соловья и Сергеева идеологи славянофильства или зарубежные специалисты по русской истории, а прямая преемственность просматривается у наших авторов, конечно же, прежде всего – с большевиками, чья апология Октября и всех последующих социальных инженерий так близка обоим. Тезис о национально-освободительной борьбе русских против нерусской власти и, следовательно, о «справедливой», «правомерной», а главное – национально «русской» революции близок и Соловью, и Сергееву. Соловей пропел его чуть раньше, Сергеев чуть позже. Есть и иные нюансы, но это не меняет сути дела.
Оставляя пока в стороне подробности, констатирую: в их лице мы имеем дело с весьма своеобразным и неожиданным явлением в постсоветской России: младобольшевизмом.
РУССКИЙ БУНТ И ЕВРЕЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Иногда побеждает не лучшая часть человечества, а бόльшая.
Эразм Роттердамский
К сожалению, приходится констатировать: тлетворное влияние западной историографии и социологии последнего полустолетия, в частности, различные измышления т.н. конструктивистов, отразившиеся в кривом зеркале отечественной науки, дурно сказалось на творчестве даже лучших российских ученых. В нашем случае это, в первую очередь, касается оценки Октябрьской революции и Гражданской войны.
«Есть определенная доля истины в националистической самооценке, когда народ управляется чиновниками другой, чужой высокой культуры, гнету которой должно быть противопоставлено прежде всего культурное возрождение и в конечном счете война за национальное освобождение». Вот из этой фразы весьма, на мой взгляд, недалекого философа-марксиста Эрнста Геллнера, оброненной в 1991 году, и выросла вся концепция Соловья—Сергеева. 24
В чем она состоит? Огрубляя, скажу: она представляет Октябрьскую революцию и Гражданскую войну именно как национальное освобождение русского народа от гнета чиновников «чужой высокой культуры», прямо по Геллнеру. Даром что никакого культурного возрождения она не принесла, ведь у русских именно с тех пор – ни своего государства, ни своих политических лидеров, ни своей столицы; они стремительно потеряли и доныне не вернули ни свою веру, ни свою национальную культуру, а теперь еще так же стремительно теряют свой язык. Прямым результатом революции было поражение русских в правах, утрата ими своего государства и превращение их в бесправного и безответного донора для других народов советской империи. Таковы были как ближайшие, так и отдаленные результаты того самого Октября, который авторы возвышенно именуют «русской революцией». Спрашивается: если революция была «русской», то почему же ее результаты оказались столь вопиюще антирусскими?
Первоцветом этой ложной концепции в постсоветской России смело можно назвать книгу Валерия Соловья «Русская история: новое прочтение», представляющую собой его докторскую диссертацию по истории. Затем Соловей закрепил и доразвил эту концепцию в вышедших следом книгах, в том числе в соавторстве с сестрой, Т. Д. Соловей. Продукт высокого интеллекта, обремененного немалыми познаниями, книги Соловья интересны и ценны как своими откровениями, так и своими заблуждениями. 25 26
Сергей Сергеев, работающий над докторской диссертацией, посвященной декабристам, параллельно двигался своим курсом. Но сегодня он – младший партнер Соловья в развитии антидворянской концепции. Взгляды Соловья оказали на него сильное воздействие, сказавшееся концептуально в его работах постольку, поскольку они неизбежно выводят нас на тему революционных преобразований России (Ленин недаром периодизацию революционного движения в нашей стране начинал именно с декабристов). Обвиняя дворянство в срыве русского нациестроительства в России, Сергеев вполне естественно связывает «исправление положения» с антидворянским вектором Октября, в чем ему неоценимую услугу оказывают утверждения Соловья. В итоге, в более поздних публикациях, теперь уже Соловей ссылается на Сергеева, происходит, так сказать, перекрестное оплодотворение их работ взаимными ссылками. 27
Мне уже приходилось полемизировать и с первым, и со вторым автором по отдельности насчет некоторых аспектов их теории. Но поскольку среди современных историков, исследующих русскую тему и притом открыто исповедующих русский национализм, единомыслием с названными коллегами никто пока не отличился, их взгляды имеет смысл рассматривать совместно, соблюдая хронологию и размечая приоритет. Вначале – слово авторам. 28
Главный тезис Соловья: «Русское восстание против Империи»
Как сказано выше, Соловей конкретизировал вполне голословный, что для этого автора обычно, тезис Геллнера на русском материале. Он сделал это так:
«В нашем представлении фундаментальной причиной бифуркации начала XX в. послужило не социальное и политическое напряжение: современная историография, в общем, не склонна считать этот фактор решающим для крутого изменения исторической траектории страны – а социокультурное, экзистенциальное и этническое отчуждение между верхами и низами общества, обрушившее их бессознательное взаимодействие и придавшее объективно не столь уж серьезным конфликтам неразрешимый характер. 29
Революционная динамика начала XX в. фактически была национально-освободительной борьбой русского народа против чуждого ему (в социальном, культурном и этническом смыслах) правящего слоя и угнетающей империи. Эту глубинную психологическую подоплеку красной Смуты очень точно уловили евразийцы, назвавшие ее «подсознательным мятежом русских масс против доминирования европеизированного верхнего класса ренегатов». Симптоматично, что и в советском пропагандистском языке большевистская революция поначалу называлась именно “ (Великой) русской революцией», вызывая неизбежные коннотации с русской этничностью». 30 31
Сказано, на мой взгляд, предельно отчетливо и откровенно. Симптоматично – воспользуюсь и я этим словом – что Соловей открыто называет своих прямых предтеч в трактовке революционных событий: от евразийцев до советских пропагандистов ранне-большевистского периода, всячески маскировавших антирусскую суть революции по той же причине, по какой наиболее видные революционеры брали себе русские псевдонимы. Факт несомненной политической ангажированности тех и других требует привлечения корректирующих фильтров для трактовки их бездоказательных высказываний, но Соловей этого не делает, увы.
Говоря прямо, причинно-следственная связь указанного отчуждения верхов и низов с «красной Смутой» никем, и Соловьем в том числе, не доказана. И с любой другой Смутой – тоже. Как известно, никакого отчуждения русских верхов от русских низов вообще не существовало до Раскола, русская нация была совершенно едина в культурном и бытовом отношении. И оставалась – в целом – такой до конца царствования Петра Первого. Что не помешало первой в нашей истории жесточайшей Смуте случиться именно при этом замечательном полном единстве, да и другим «бифуркациям» типа восстаний Разина, Булавина или Болотникова, самосожжений раскольников – тоже. 32
Может быть, имеется какое-то принципиальное отличие «красной Смуты» от «просто Смуты», требующее объяснения через пресловутое «отчуждение»? Но Соловей его не показал. Почему же принцип культурно-бытового отчуждения, явно не применимый к эпохе Смуты, к русским смутам вообще, вдруг стал применим к Октябрю? Это нелогично.
Поэтому не вызывает никакого доверия цитированное выше излишне категорическое заявление автора: «Революционная динамика начала XX в. фактически была национально-освободительной борьбой русского народа против чуждого ему в социальном, культурном и этническом смыслах правящего слоя и угнетающей империи».
Между тем, это главная идея и главная неправда концепции Соловья.
Он всячески усугубляет, заостряет эту идею, эту неправду:
«Основную линию противостояния, путеводную нить революции составил конфликт русского народа с государством и правящими классами, который я предлагаю рассматривать не в социополитическом, а в этническом аспекте. Несколько упрощая, противостояли не классы, не общество и институты, а два народа: с одной стороны, русские, с другой – этнически, культурно и экзистенциально чуждая русским элита». 33