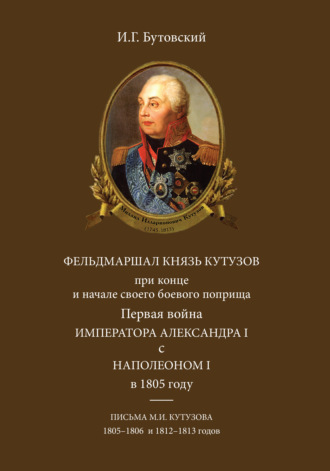
Полная версия
Фельдмаршал князь Кутузов при конце и начале своего боевого поприща. Первая война императора Александра I с Наполеоном I в 1805 году. Письма М. И. Кутузова 1805–1806 и 1812–1813 годов
Пощады в этом деле не было: все соделалось жертвой штыка; около двух тысяч пленных французов, в том числе один генерал, одолжены жизнию присутствию Дохтурова, который одним словом остановил ярость москвичей и прекратил истребление неприятеля.
Когда кончилось кровопролитие, у наших солдат начался торг: один продавал часы, или дорогие ножи, табакерки; другой – шелковые вещи или белье; многие носили богатые пистолеты, палаши, и предлагали неприятельских лошадей; последних захвачено было едва ли не все три эскадрона, действовавшие в этом ущельи. Оценка лошадям с седлом и вьюком была скорая – пять австрийских гульденов или рубль серебра за каждую; за немногих только получали по червонцу. Некоторые хвалились чересами с золотом, отвязанными у пленных и убитых французов. Взятые у неприятеля орудия, знамя, штандарты, вместе с пленными, которых разделили на шесть партий, отправлены были в Кремс, и мы с триумфом возвратились в город, сопровождаемые по дороге криками восторженных жителей: Браво, Русь! браво!
На главной улице, у больших каменных ворот в роде башни, стоял главнокомандующий и благодарил каждый проходящий полк, называя солдат победителями. Перед взводами нашего полка везли отбитые у неприятеля орудия, и несли отнятые у него знамя и штандарты; последние положили на барабане перед Кутузовым, который приветствовал нас словами: «Молодцы, молодцы! Слава и честь вам!» Потом, обратясь к окружавшей его свите, присовокупил: «Этот полк всегда дрался с отличною храбростию: за то и носит славное имя нашей белокаменной Москвы». Слыша приветы любимого вождя, солдаты воодушевлялись геройскими чувствами. Горожане, в чаду восторга, думали, что французам уже не придется роскошничать под их кровлею, что мы останемся здесь надолго, и, в приятном забытьи, шумно пировали нашу победу. Пленных, в тот же день (31-го октября), отправили вперед к Брюнну.
Наполеону донесли о потерях Мортье в тот самый момент, как он, прислушиваясь к гулу пушечных выстрелов, еще надеялся, что маршал отделается без урона; разгневанный дурными вестями, он спешит принять меры, чтоб исправить ошибку. Но Кутузов скоро узнает, что Вена занята французами, что венский мост на Дунае попал хитростию в руки, неприятеля, и что Мюрат, Ланн, Сульт, Вандам, Удино, Сюше заходят нам в тыл… В ночь на 1-е нояб ря, русская армия оставила Кремс и шла форсированным маршем до утра; отдохнув немного в Эберсбрунне, продолжала путь далее. На рассвете 3-го ноября, князь Багратион, шедший от нас вправо проселочными дорогами, уже стоял у Голлабруна. Скоро туда же пришел из Вены Мюрат, и изумился, увидя перед собою русских. Французы не ожидали такой поспешности и думали упредить нас на цнаймской дороге, единственном пути для прямого соединения с корпусом графа Буксгевдена. Эта неожиданность привела Мюрата в замешательство: артиллерия его и вся пехота еще были на марше; он не смел атаковать Багратиона, по соображению, что Кутузов должен быть недалеко, и вступил в переговоры, чтоб хитростью задержать русскую армию, пока нахлынут к нам в тыл из Кремса Бернадотт и Мортье. Того же дня, вечером, наша армия подошла к Шенграбену. Мы простояли там, не сходя с места, около двух часов; огней разводить не дозволяли. Наконец, показался перед фронтом Кутузов, и, к удивлению, скомандовал вполголоса всем войскам «налево кругом»; с поворотом мы стали лицем к наступающему неприятелю, и Московский полк превратился в авангард: заметим, что обратное движение армии от Браунау совершилось левым флангом, и наш полк находился в замке. Вскоре гусарский офицер подвел четырех немцев; главнокомандующий приказал Дохтурову приставить к ним караул из двадцати гренадер, при одном расторопном унтер-офицере. Дохтуров вызвал меня, и я, взяв у подпрапорщика алебарду, передал ему знамя: тогда сам Михайло Ларионович изустно приказал мне смотреть за немцами пристально и беречь их как зеницу ока, прибавив: «Это наши вожаки, понимаешь ли!» Тотчас двинулись в путь: велено соблюдать возможную тишину. Версты две шли обратно к Кремсу; люди подумали, что их ведут ударить на спящих французов и радовались новой потехе: однако скоро последовало разочарование; проводники сошли с шоссе и круто взяли вправо. Стемнело как в яме, принесли потаенный фонарь. Всю ночь пробирались мы по узеньким тропинкам; часто спускались в овраги, проходили ручьи, перелески. Пионерам пришлось во многих местах очищать дорогу и строить наскоро мостики для артиллерии, которую, почти при каждой крутизне, люди вытаскивали на руках. Часа за три до рассвета, стали подниматься на высоту, где открылась обширная площадь; тут немцы указали нам Голлабрун и Шенграбен, окруженные французскими бивачными огнями на расстоянии от нас около пятнадцати верст. Армию остановили, велели принять влево к лесу, на противоположный покат горы, и там позволили развести огни, которые не могли быть видимы неприятелю; отдыхали с небольшим час, потом поднялись; тут Кутузов подъехал и благодарил немцев за услугу, примолвив: «Потрудитесь, друзья, довести до шоссе». Оставив для прикрытия небольшой отряд, под начальством полковника Монахтина, войска пустились вперед, но шли уже без затруднения, ровными местами. На рассвете выбрались на дорогу к Эцельсдорфу, почти в тридцати верстах от неприятеля. Дан был еще коротенький роздых, и мне приказано представить немцев к дежурному генералу: за исправность, Инзов благосклонно пожал у меня плечо, а австрийский колонновожатый сунул мне в руку на мою команду 25 гульденов[12].
С этого дня в армии не слыхали более ариергардных выстрелов; Кутузов принудил врага к бездействию. Зато много беспокоились о князе Багратионе, отрезанном под Шенграбеном, и не было в рядах ни одного солдата, который не молил бы Бога о его спасении.
У Цнайма наши войска прошли только предместье; почти у каждаго дома расставлены были часовые. Я зашел к булочнику, но все было раскуплено. Молодая хозяйка сжалилась надо мною, и, отведя в другую комнату, наложила в платок фунтов семь крупичатой муки и отдала мне, не требуя платы. Я привязал муку к ранцу, схватил за порогом алебарду и поспешил за полком в превеликой радости. Колонны шли по гладкому полю подле шоссе; впереди, верст за пять, возвышалась гора и заметны были огни, разложенные по высотам передовыми полками – обыкновенный признак расположения войск на ночлег. Трое суток мы не только не спали, но не доводилось и отдохнуть порядочно; сон валил меня с ног, голова отяжелела и в глазах двоились предметы: рассчитывая, что до вечера еще далеко и что успею вздремнуть, я улегся в шоссейный ров, где и заснул убитым сном. Солнце было на закате, когда отряд казаков, исполняя свою обязанность, занялся подыманием отсталых; я проснулся с трудом, и моя первая мысль была об узле с мукою. Увы! кто-то отвязал драгоценный узел: в испуге, не веря своим глазам, я даже перерыл вещи в ранце, и, убедясь в невозвратной потере, с тяжкою грустью поплелся в лагерь, из конца в конец пылавший яркими огнями. Товарищи мои, не менее меня томимые голодом, узнав о моей беде, также очень печалились.
6-го ноября армия наша торжествовала сряду две радости: первая – появление непобедимого Багратиона, со славою отделавшегося от Мюрата и двух французских маршалов. Оставленный Кутузовым на жертву, для спасения армии, он умел не только выпутаться из вражеских сетей, но еще доставил пленных и знамя, отбитое храбрыми гусарами. Как уже сказано выше, Мюрат, думая остановить Кутузова переговорами, в предположении, что, ему поверят наслово, и что наша армия вся у Шенграбена, провел более суток без выстрела; но, увидя, наконец, что окружен только небольшой отряд, главная же армия далеко впереди, он, с досады, что не удалось обмануть русскаго вождя, так подшутившего над ним, бросился с яростию на Багратиона, вечером 4-го ноября. Бесстрашный Багратион воспользовался ночным мраком и распорядился так, что французы, обступившие его большими массами, в потьмах стреляли по своим. Несколько раз они предлагали русскому герою сдаться, но ответом были картечь и ядра. Около полуночи прискакал из Вены Наполеон и, заметив ошибку, остановил бой: Багратион не пропустил счастливого момента, и едва притихли неприятельские выстрелы, пошел по цнаймской дороге напролом; штык и сабля помогли ему скоро выбиться из французской блокады. В этой свалке потерпели более прочих войск пехотные полки Азовский и Подольский. Оплошность Мюрата рассердила Наполеона; браня его, он повторял: «Как входить в переговоры с старым хитрецом – с лисою!» Сами французы были рады, что развязались с Багратионом. Ночное дело у Шенграбена еще более убедило Наполеона, что заводить драку в потемках всегда опасно, и он стал избегать ночных нападений и преследований: с закатом солнца французы прекращали стрельбу, кроме тех случаев, когда сам противник станет на них напирать. Армия наша ликовала соединение с нею князя Багратиона благодарственным молебном, как победу.
Вторая радость, приятно потрясшая сердца воинов, был слух о прибытии Государя нашего в Ольмюц. Отрадным вестником столь давно ожидаемаго нами события был флигель-адъютант Александр Иванович Чернышев, присланный нарочно к главнокомандующему. При виде этого дорогого вестника, армия пришла в неописанный восторг: одна мысль, что скоро увидим обожаемого Государя, свалила с плеч все понесенные труды и мы, не чувствуя усталости, готовы были идти бегом навстречу Царю и новопришедшим соратникам.
8-го ноября, мы сошлись в Вишау с авангардом корпуса графа Буксгевдена. Тут сделан был привал. Новички, так кутузовцы честили родных гостей, бросились к нам – и пошли обятия и целования, а расспросов, расспросов и не обобраться!.. Трудно решить, кто более кому обрадовался: мы ли им, или они нам; кажется, сердца наши бились одинаково, с тою только разницей, что нам стало вдвое веселее, имея в подмогу столько бравых товарищей. Через два часа ударили подъем: звуки барабана раздались впервые по выходе из Кремса; мы тронулись, но, долго озираясь, не сводили глаз с своих пришельцев, пока от них не скрылись.
Утром 10-го, в прекрасный солнечный день, армия Кутузова стояла вольно у подошвы ольмюцких высот. Около полудня раздалась команда «смирно!» и вслед за тем прискакали адъютанты, говоря: «Приготовьтесь: Государь Император встречает вас в полгоры у дороги». Радость была невыразимая: каждый потирал лоб и охорашивался. Скоро вывели армию на шоссе и началось шествие: я шел со знаменем, еще никогда не видав Государя. Едва стали подыматься на гору, скомандовали «глаза налево». На половине горы, Государь верхом стоял один, далеко впереди от свиты. Перо отказывается описать наши чувства при виде Царя!.. Его присутствие, его взгляды оживляли воинов новою бодростью. Музыки не было, и Государь, смотря на нас с улыбкой, бил такт ногою под наш скорый шаг; при проходе каждаго полка он здоровался. Несколько далее, по другую сторону дороги, стояли под ружьем гвардия и корпус Буксгевдена в отличном виде. В сравнении с нашими, они были как женихи; ослепительная чистота светлела на них, как играющие лучи солнца на пажитях; в гвардии особенно подобраны были люди все красавцы, один лучше другого; мы, напротив, походили на кузнецов. Когда армия взобралась на высоту и стала на позицию, Император, объезжая фронт, спросил солдат: «Давно ли была на вас вода?..» Люди в ответ кричали: «Ради стараться, Ваше Величество!» Корпус Буксгевдена построился позади нас во второй линии, гвардия в третьей. Багратион и Милорадович с авангардом расположились по дороге к Вишау у Просница. Австрийския войска заняли позицию с левой стороны шоссе, по направлению к Брюнну.
До Ольмюца от боевых линий считали с небольшим две версты. Император Александр часто навещал нас, не только днем, но даже по ночам, в сопровождении одного казака. Кроме ночного времени, император Франц всегда сопутствовал нашему Государю. Великий Князь Константин Павлович почти не оставлял биваков ни днем, ни ночью; если же отлучался, то на самое короткое время. Как часто он сиживал у наших огней, разговаривал с нами, шутил, и если готова была наша похлебка, отведывал, прихваливая, что вкуснее французского бульона, понравилась бы и нашим московским дамам!»
Михайло Ларионович Кутузов назначен был главнокомандующим всех, и новопришедших войск русских и австрийских, Армия простояла в ольмюцком лагере дней шесть. Наполеон находился в Брюнне, авангард его в Вишау. Говорили тогда, что от него прислан был к нашему Государю нарочный с письмом (генерал Савари), в котором, поздравлял его с приездом. Кроме этой рыцарской вежливости, во все время нашего роздыха под Ольмюцем, Наполеон нас не задевал; точно, как будто его там не было.
Позиция, занимаемая нами на высотах ольмюцких, была превосходная; нам можно было бы продолжать стоянку, выжидая корпус Эссена, армию Беннингсена и австрийцев, предводимых эрцгерцогами Карлом и Иоанном, если б очень важное обстоятельство не помешало этому намерению, а именно недостаток в продовольствии. От самаго Браунау, мы никогда досыта не наедались, а соединясь с имперцами, близки были к совершенному голоду. Немцы, рассерженные нашим возвратным шествием, отказывали в доставлении съестных припасов, и наши, заодно с австрийскими солдатами, часто силою добывали себе прокормление в придорожных деревнях. Жители, из страха, хлопотали более о сбережении своих запасов для французов, и прятали от нас и от своих все что могли; достать что-либо съестное нельзя было ни за какие деньги, в которых однако не нуждались: император Франц нередко дарил нашим войскам по два и по три гульдена на человека. В ольмюцком лагере, случалось, кричат из средины за хлебом, и тут поротно наряжают людей: нам, в ожидании, как будто здоровее на душе; но проходил целый день, и посланные возвращались к вечеру с пустыми руками. Иногда притащат, бывало, на весь баталион полбочки муки, и с какою радостию мы получали в полу шинели отпускаемую дачу: подбежав к огню, в той же поле растворяли ее водою, месили и пекли в золе, без соли, лепешки, которые ели с неизяснимым наслаждением. Изредка отпускались печеные хлебы; на роту доставалось десятка по два, по три; фельдфебель и каптенармус, стараясь выгадать для себя получше кусок, чертили мелом эти продолговатые небольшие хлебы по числу людей с особым искусством, и, поставив в ранжир роту, начинали выдачу перекличкой, отделяя каждому, ломтик по черте: каждый, приняв его, целовал, перекрестясь, и прятал за пазуху в шинель: в такой редкости был насущный хлеб! Говядина отпускалась в полки живьем; за неимением вчастую и картофеля, несколько кусков мяса сожигали в уголь и заедали им вареное мясо; винную порцию в ольмюцком лагере ежедневно раздавали по манерочной крышке на человека: я всегда менял свою порцию на то, чтоб во время сна, подле пылающаго костра, меня оберегал от огня тот, кто ее выпьет, охотников было довольно, и, как водится, очередовались. Повелительный голос «за соломой и дровами» многих очень веселил, и я, при первом зове, бывало, первый на ногах являлся с командой не в очередь, не смотря на опасность. Два разные чувства побуждали меня к тому: не допускать людей до разорительного грабежа, и удовлетворить ненасытимую страсть к воинским приключениям. Команды эти, при одном офицере от каждого полка, обыкновенно размещались по хуторам и окрестным деревням, где часто сталкивались с французскими фуражирами, что наиболее и подстрекало молодых людей пускаться на подобные похождения. Кутузов, именно поэтому, уже с Цнайма, отдал приказ отлучаться командам с ружьями и примкнутыми штыками, тем более, что и самые жители нередко встречали нас железными вилами и рогатинами, от чего и бывали убийства: недаром говорят, что голод и замки рвет.
Одно только большое село, в полторы версты от праваго фланга наших линий, было вне опасности, потому что запрещали его штурмовать; но дня за два до выступления, когда уже все окольные места были опустошены, запрещение, повидимому, было снято, и наши фуражирные команды быстро разлились по улицам. Невдалеке от меня я услышал женские вопли: гренадеры моей команды разрывали место, над которым видно ненапрасно трудились; старые и молодые немки целовали мне руки и умоляли со слезами остановить дальнейшее разрытие; я потребовал от них дать солдатам пищу, и они принесли несколько хлебов, мешок муки, картофель, яблоков и 15 кусков шпику: один молодой парень притащил жбан красного туземного вина, ведра в три. Поблагодарив, я уже хотел уйти с солдатами; но старуха, видя кротость людей, за несколько минут до того неукротимых, просила остаться пока кончится набег и защитить ее от других, рыскавших по домам с невероятным ожесточением; я согласился, и команда моя расположилась довольная у входа в жилище. Немцы живут вообще большими домами, в несколько покоев; многие из них, особенно по хуторам, в два этажа, обнесены высокими бревенчатыми стенами; надворные постройки в порядке и везде строгая опрятность. Хозяйка ввела меня в комнату, и молодыя женщины и девушки!обступили гостя с любопытством… Старуха внимательно рассматривала мою одежду, распахнула шинель на груди, потом растегнула несколько мундир, и удивилась, что под мундиром, кроме рубахи, ничего нет теплого: тут подала ей, одна из моравских красавиц, совсем новую душегрейку, и старуха предложила мне надеть. С большою благодарностью принял я этот дорогой подарок человеколюбивой почтенной женщины, и тотчас его надел. В признательность за спасительную душегрейку, я выпросил у нашего полковаго командира, Н. С. Сулимы, охранный караул из трех гренадеров, для ограждения старухи от беспрестанно возобновлявшихся поисков: так, во все время стоянки под Ольмюцем, добрая хозяйка была под защитой. Перед выступлением, я забежал проститься с нею; она благословила меня на дорогу прекрасным хлебом. Этот хлеб я доставил подполковнику П. П. Шамшеву, моему баталионному командиру.
Не смотря на постоянную во всем скудость, и в особенности чувствительный недостаток в хлебе, наше отступление от берегов реки Инн часто оживлялось забавными сценами. Так, например: миновав Шпремберг, когда позади нас ревела канонада и трещал ружейный огонь, австрийские артиллеристы, наловив у одной мызы с десяток крупных свиней, и вдобавок некоторых с поросятами, привязали маток к орудиям, которые тянулись по высокому шоссе; свиньи упрямились, упираясь и озираясь на своих детенышей, пронзительно визжали. Это возбудило всеобщий хохот в войсках, шедших по сторонам дороги густыми колоннами. Вдруг наскакал дежурный генерал Инзов и стал строго выговаривать; артиллеристы, соскочив с седалищ, устроенных по бокам лафета в роде линеек, принялись душить неугомонных свиней; но дюжие животныя, сорвавшись с привязи и разбежавшись с поросятами по сторонам, произвели колебание в ближайших колоннах.
Скоро однако, среди уморительного шума, все это свиное племя исчезло: слышались только из среды русских колонн выразительные благодарности немцам за ужин.
Под Амштеттеном, где французы, не дав нам и кашу сварить, завязали жаркую перестрелку, наши фуражирные команды еще не возвращались из поисков. Кутузов посылал торопить людей сперва офицеров, а потом князя Урусова, шефа Вятскаго полка. Пока собирали команды между домами и по огородам, в одном промежутке, где случился и Урусов, человек двадцать солдат разного оружия, и в числе их полковой причетник, гнались с пронзительным криком за огромным сытым кабаном: скоро одолели животное, и там же на месте принялись тесаками делить его на паи; к этой алчной проделке подъехал князь, и, увидев причетника, который, держа заднюю ногу животного, и ничего не замечая, твердил: «это мне», с улыбкою сказал ему: «Как! и ты здесь?» Причетник, не выпуская из рук, кабаньей ноги, отвечал очень скромно: «Человек бо есмь, Ваше Сиятельство, голод не тетка!» Когда случалось напасть на яму с картофелем или с капустой, радость наша была выше слов, и тут-то у нас начинался гомеровский пир… Вообще все лишения переносились с духом веселым, даже с некоторою гордостью: всегдашнее присутствие любимых начальников и нашего славного вождя заставляло забывать голод.
Лазутчики Наполеона давали знать жителям вперед, когда вступят к ним французы, назначали даже в какую пору, утром или вечером, и мы ровно три недели находились в беспрестанном движении. Ночлеги наши были слишком короткие, всегда в открытом поле, и редко проходили без тревог; случалось даже целые ночи проводить под ружьем, без огня, или на марше. Ни один из нас до Ольмюца не расстегивал ни шинели, ни мундира, и вместо сапог, почти у каждаго были поршни, даже у многих офицеров; шинели наши почти у всех были обожжены бивачными огнями, а у некоторых исстреляны пулями; лица грязные, испачканные порохом, небритые, и при всех трудах и недостатках, каждый солдат держался бодро, с видом страшным, привыкшим к бою, как некогда, на родине, к знакомому плугу. В строе были люди, прослужившие слишком 20 лет, опытности дивной, спокойные в огне как на охоте. Никакие бедствия не потрясали их: все они переносили с твердостию. Случались дни, что армия не имела и времени сделать привал. Наполеон так усердно преследовал наши войска, что некоторые его отряды, стараясь опередить нас стороною, спешили на переменных форшпанах, а французская кавалерия забирала у жителей лошадей, на которых нередко являлась в бой. Наша конница всегда брала верх над французскою, не смотря на то, что у любой лошади во всю ширь седла было садно: просушивать им спины недоставало времени. Французы же имели перед нами то преимущество, что в преследовании могли свободнее заменять свои передовые отряды вновь подошедшими, и могли скорее оправиться от потерь; их не затрудняли ни отвоз раненых, ни доставка провианта и фуража; свежая пища для них и корм для лошадей были всегда готовы с избытком; короче – все им было с руки; пугливые жители помогали им во всем и жертвовали последним, чтоб их не озлобить. Нашим случалось частенько заглядывать в ранцы пленных французов, где непременно находили почти у каждого, кроме хлеба, или зажареную птицу, или лакомый кусок шпику, а у некоторых бутылку вина или ратафии. Можно вообразить себе голодного русского, когда нападал на пресыщеннаго с запасом француза: тут уже не было пардона, и всегда верная смерть последнему… Казаки в набегах добывали много поживы у неприятеля; они налетали внезапно на французских фуражиров, и нередко забирали их в плен вместе с добычею. Для пехоты, вообще, труднее было доставать прокормление, и мы часто постничали по целым дням[13]. Знаменитый вождь наш умел, однако, мастерски смягчать это жестокое положение: при всяком движении войск, он непременно станет на самом видном месте и непременно встретит каждый полк несколькими ободрительными словами. Чтоб более ознакомить солдат с собою и утешить их голод, он тут же, на походе, входил с ними в короткую беседу и вливал в русских воинов непобедимую твердость духа.
Для многих из нас, и в особенности для немцев, странным казалось, что обозы наши, и казенные, и офицерские, на всем отступлении до Ольмюца, как будто и не существовали при армии. По распоряжению главнокомандующего, вся эта хозяйственная часть находилась всегда впереди, на расстоянии двух, а иногда и трех переходов, и войска на марше не встречали и самомалейших препятствий: все движения совершались без замешательства, в удивительном порядке.
После жестокой сечи при Мельке, где, к общему всех сожалению, мы лишились двух храбрых полковников: Мариупольского гусарского, Ребиндера и Киевского гренадерского, Щербинина, русская армия подошла к Санкт-Пельтену, и впотьмах, вблизи города, стала на позицию. Большая часть городов Верхней Австрии построена из камня, и вообще живописной наружности; у каждого дома ворота с калиткой, окованы железом и всегда на запоре; улицы вымощены и во многих с тротуарами. Квартира одного только главнокомандующего была в городе; все прочие генералы находились при своих местах. По городам запрещалось производить обычные поиски, да и было невозможно: все домы настоящие крепости. Едва люди воротились с дровами и соломой, едва развели огни, как меня потребовал Дмитрий Сергеевич Дохтуров. Он дал мне горсть червонцев и приказал купить для него в городе белого хлеба, вина и что только можно из съестного; для переноски велел взять с собою несколько гренадеров, примолвив: «Постарайся достать хоть что-нибудь: совсем отощал». Я доложил генералу, что в ночное время, может статься, ничего нс найду, и что в таком случае обращусь на кухню главнокомандующего. «Хорошо, только спаси от голода», – отвечал он. Взяв с собою шестерых гренадеров, я исходил все закоулки небольшого города, однако безуспешно; ворота везде были на запоре, ставни в нижних этажах закрыты; в верхних во многих домах светилось. Один из них, довольно огромный, освещен был ярче прочих: я решился атаковать его; велел людям подойти к воротам как можно тише, и объявил им, что когда успею заставить дворника отодвинуть засов, то в ту секунду они должны навалиться сильно на дверь, чтоб, увидя нас, он не прихлопнул опять на запор. Осторожно, негромко я постучал в дверь и раздался голос: «Кто там?» Применяясь к их наречию, я отвечал тонким, дрожащим полуголосом: «Отворите». Несколько раз повторялся вопрос, но ответ мой был все тот же. К счастию, я услышал движение засова; конечно, он счел меня за женщину. Гренадеры, затаив дух, тихо приставили к калитке свои геркулесовские кулаки, и едва щелкнул дверной замок, как калитка и привратник с шумом полетели в сторону. Ужас объял немца при виде солдат. Я приказал запереть калитку, и, оставив при ней двух гренадеров, с остальными четырьмя пошел по широкой освещенной лестнице прямо вверх. Появление наше в пространной зале произвело в доме сильное волнение. Хозяин, средних лет, богатый негоциант, встретил меня с испуганным лицом; но мои объяснения и горсть червонцев, положенная мною на стол, совершению его успокоили; он отказался от денег и угостил нас радушно, не забыв нагрузить моих спутников всякого сорта богатым запасом. Меня усадили особо, и, в продолжение этого неожиданного ужина, выбежали из других комнат множество пригожих дам и девиц: пристально рассматривали они русских воинов, и, переглядываясь между собой, любовались молодечеством сынов прибрежий Волги и Днепра. Расставшись с дамами, хозяин повел меня по коридору в просторные сени, из конца в конец увешанные тушами телят, баранов, свиней и всякой живности: выбирайте любое, сказал он; я взял теленка, двух баранов и две индейки, но он прибавил еще две свиные туши, говоря: «Это для солдат, а у вас же есть кому и дотащить», потом, сняв с высшей жерди двух фазанов, и подавая мне, примолвил: «Для его превосходительства». Заметив мое удивление, при виде такого большого заготовления, хозяин, потряхивая головою, сказал: «Неволя заставляет нас, отказывая своим, делать эти жертвы для врага[14]. Уже с вечера получено через наполеоновских лазутчиков строгое от него повеление, чтоб здесь приготовились принять французов к утру наступающего дня (28-го октября); и мы дивимся, продолжал он, что ваш главнокомандующий так покоен здесь: нас пугают слухи, что он намерен тут сразиться». – Все может быть, отвечал я; но французов, при Мельке, наши шибко поколотили, и, конечно, это задержало их, они еще далёко отсюда. Добрый немец видимо был доволен, и, как кажется, еще более обрадован тем, что имел дело с русскими, а не с своими, которые, не смотря на его бескорыстие и вежливый прием, вероятно забрали бы у него весь этот лакомый запас. Он провел меня до калитки; с чувством пожали мы друг другу руку, и едва я переступил за порог, как, живо прихлопнув калитку, задвинули ее чуть ли не двумя засовами, чтоб, наконец, избавиться новых посещений. Опрометью, сколько позволяла мне моя ноша, пустился я в обратный путь обрадовать моего начальника, которого мы любили как отца.


