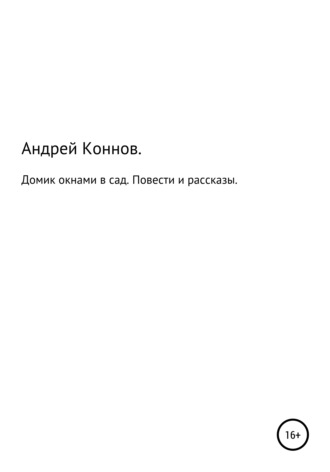
Полная версия
Домик окнами в сад. Повести и рассказы
– Да, знаю, знаю! – торопливо закивал Алик, явно желая продолжения откровений Маркова.
– Так вот… Глянул я на этот рынок: пыль, грязь, прилавки облезлые, самодельные в основном, навесы сделаны из корявой ржавой арматуры. Я такое только в Африке видел, поверишь, или нет! – Марков горько усмехнулся и добавил со вздохом, – Россия, мать её! Богатая страна…
– Не хочешь Россия жить? – печально спросил Алик.
– Нет, не хочу! – решительно ответил Марков и добавил, растолковывая соседу своё нежелание, – ты ведь не живёшь у себя! Сюда приехал с семьёй. Тебе здесь лучше, а мне – там.
Алик посмотрел на него из-под нахмуренных бровей с непередаваемой скорбью и глухо ответил:
– Моя родина – Азербайджан! Мы жили в Агдамский район, слышал, да? Вино такой был… Мой отец главный агроном в совхоз работал… Совхоз-миллионер был! Виноград выращивал! Горбачёв приходил – велел виноградник рубить! Как жить? Работа не стало. Отец умирал – я институт бросал, армия пошёл… Патом Саюз не стал, война с армян стал… Один брат мой был убит. Я воевать не хотел – в Россия ехал с другим братом. Деньги занял – «КАМАЗ» покупал, арбузы возил, памидор возил – из Дагестан, у наших там покупал. Не хотел торговать, землю работать хотел! Вот здесь купил земля, дом, брат купил здесь тоже… Работаем, Россия живём…
– А для меня работы в России нет! – угрюмо пробурчал Марков, – и флота настоящего здесь нет! На старье за гроши ходить не хочу. На Дальнем Востоке краба для япошек ловить!? Или кильку с салакой – в Калининграде? Извините! Я хожу на норвежском «геологе» и получаю в месяц столько, сколько русский капитан за два, а то и три месяца получает! А я – всего лишь, второй штурман. Хочу получить норвежское гражданство, накопить денег на старость и доживать свой век, ни о чём не беспокоясь! Алик, пойми, там люди живут!.. По-настоящему живут, достойно и счастливо. Нет там нищих, бомжей, которые по помойкам шарят, там спокойно и чисто! Другой мир, другая планета.
– И заграница везде так, да? – недоверчиво покосился на него сосед, уминая окурок в землю.
– Не везде, – засмеялся Марков, – есть такие страны, где люди живут так, что не дай Бог! Я про Норвегию…
– Россия не любишь? – неподдельно изумился сосед, и даже встал на ноги.
Марков опять вздохнул и ответил, не задумываясь:
– Выходит, не люблю.
– Вай, ара! – только и ответил Алик ему, и добавил с каким-то непонятным пафосом, или вызовом, – А я Азербайджан люблю и Россия люблю!
– Каждому – своё… – устало парировал Марков, досадуя на то, что разоткровенничался со своим соседом и, в тоже время, чувствуя некоторое душевное облегчение, от того, что сумел выговориться, словно тяжкий, мучавший его уже давно груз с души спихнул.
6.
От сельской русской идиллии, ласкового бабьего лета – Маркову пришлось уехать в город. Закончились припасённые продукты, и нужно было пообщаться с юристами по поводу вступления во владение его маленьким сельским поместьем. Он не стал отрывать от дел Алика – просить отвезти в город, работы у того было невпроворот, а решил воспользоваться пригородным автобусом, чтобы получше вникнуть в суть бытия русской глубинки. Ему стало всё интересно, до мельчайших деталей. От чего – Марков пока ещё ясно не понимал. Просто подумал, что надо и всё.
В будний день пассажиров из окрестных деревень, в которые попутно заглядывал поношенный, пропитанный пылью и выхлопными газами, звенящий и завывавший «ПАЗ», ехало немного. В основном – пожилые женщины, которые, или молчали, или, нехотя, перебрасывались фразами о закупочных ценах на картошку и мясо. Раньше такие тётки возили на первом автобусе в город молоко в бидонах «наперевеся» – ставили их в мешки, или в сетки, и тащили на плече до остановки. А в городе – до рынка. И городские называли их «парашютистками». Расторговавшись, возвращались домой, с порожними бидонами, но нагруженные городскими покупками: буханками хлеба, связками баранок, кульками с конфетами, пачками чая и дешёвых сигарет, или папирос… Некоторые покупали своим мужикам фуражки и одевали их себе на головы, поверх платков, козырьком назад, чтобы не помять. Теперь деревенские жительницы ехали в город налегке. Из поездки для себя Марков почерпнул только одно: и в его детстве и ранней юности пригородные автобусы, были точно такими же тряскими, пыльными душегубками. Ничего не изменилось и в новом столетии.
Помывшись в ванне дома у родителей, он, вдруг, ощутил, какую-то телесную недомытость и решил, на следующее утро, отправиться в городскую баню – попариться от души с веником, аж до тёмных кругов в глазах. Отец рекомендовал идти к открытию, и Марков знал, что здесь баня открывается с 8 утра, а не так, как в Таллинне – с 10, или 11. Там ему с друзьями полюбилась одна из старейших Таллиннских бань – Калмасаун, на улице Вана-Каламайа, неподалёку от Морского музея, построенная в каком-то неоготическом стиле, с квадратными колоннами у входа, острой крышей, неширокими окнами, снаружи похожая на зал органной музыки, или на кирху, только без колокольни. Туда предпочитали ходить люди попроще и, почему-то, моряки. Сияющая чистота, запахи дубовых, берёзовых, можжевеловых веников, смешавшиеся с запахами эвкалипта, придавали этому заведению внутри, такой непередаваемо прекрасный колорит, так сух и горяч был дух в парной, что, когда Марков выскакивал оттуда и прыгал, с замиранием сердца, в бассейн с ледяной водой, ему казалось, что раскалённая кожа зашипит! И его охватывал сумасшедший восторг и необыкновенная лёгкость, и казалось, что впереди ожидает только самое доброе и светлое… Кстати, в баре Калмасаун он и познакомился с Алиной… Она вошла вместе с двумя подругами, вся раскрасневшаяся, весёлая, тряхнув густыми влажными светлыми волосами, остриженными в каре, спросила кружку «Сааремаасского» тёмного и, плавно покачивая бёдрами, проплыла от барной стойки к соседнему столику, бережно держа двумя руками запотевшую глиняную кружку.
Его однокашник по мореходке, моряк в пятом поколении, Аксель Сакс, длинный, словно грот-мачта и худой, с рыжей бородой пирата с этикетки бутылки с ромом, прихлебнув пива, во все глаза уставился на эффектную женщину и пробормотал, обращаясь к Маркову:
– Никки, посмотри! Самых красивых эстонок – только в Таллинне можно встретить!
– Спорим, она – русская? – усмехнулся Марков.
– На что? – азартно воскликнул Аксель.
– На щелбан, который я отолью тебе прямо здесь, и сейчас! – вспомнил Марков курсантские годы.
– Ла-а-дно! – мстительно процедил его однокашник-пират с этикетки и, оборотившись к незнакомке, гаркнул:
– Андке андекс ноор даам, са ээстиланна? Куидас сину ними он? (Простите, дама! Вы – эстонка? Как вас зовут?)
Все три женщины, сидевшие за соседним столиком, тихо говорящие о чём-то между собой, обернулись, и стали молча смотреть на Акселя, как на сумасшедшего. А та, к которой он обращался, обретя, наконец, способность разговаривать, ответила низким и бархатным голосом:
– Эйи, ма вене! Мину ними сулле мидаги эйи! (Нет, я русская! Моё имя, вам ничего не скажет!)
Марков злорадно засмеялся, потёр пальцы, встал и отлил своему другу шикарный «фофан». Женщины изумлённо наблюдали за происходящим. Одна из них прошептала остальным тихо, но все услышали:
– Девочки, это психи! Давайте, пересядем от них подальше!
– Простите нас! – отчаянно завопил Аксель, потирая лоб. – Мы не психи! Мы с другом спорили. Мы – офицеры гражданского флота! – и это прозвучало так жалобно, но, в тоже время так убедительно, что женщины дружно расхохотались.
– Вы, наверняка, капитан пиратского флота! – воскликнула одна из них, а та, о которой спорили, улыбнулась так весело и задушевно, что Марков невольно залюбовался, и заявил:
– Теперь моя очередь угадывать! – и, приблизившись на вежливое расстояние к незнакомке, произнёс со знанием дела:
– Вас зовут Светлана!
– Нет! – кокетливо передёрнула та плечами.
– Моя очередь теперь щелкать, – мстительно встрепенулся Аксель, движением пальцев показав, что он хочет сделать
– Господа, перестаньте! – умоляюще произнесла незнакомка, – вы же не мальчики уже! Меня Алиной зовут!
Это неожиданное знакомство произошло, почти пять лет назад…
Он отправился пешком – путь недалёк. Проходя мимо Центрального рынка, приобрёл у совершенно лысого и краснолицего весёлого старика с обвислым носом сливового оттенка, два шикарных дубовых веника, свежевысушенных, густых, но лёгких, с крупными прямыми, зелёными листьями, ещё сохранившими крепкий и бодрящий лесной аромат. Цена показалась Маркову смешной, почти даром!
В бане Марков поразился с первых же шагов всему: она уже начала работу, но в холле было совершенно не убрано. Из урн, стоящих по углам воняло объедками копчёной рыбы и луком. Видимо, остатки вчерашних пиршеств… Мусор чуть ли не вываливался из них – настолько урны оказались переполненными остатками закусок и пустыми водочными бутылками, смятыми пластиковыми стаканчиками, обрывками газет, арбузными корками. На полу валялись окурки, головы от сушёной рыбы и огуречные огрызки. Пол, выложенный плиткой – весь в грязных разводах. На столах, стоящих с двух сторон холла – следы от пролитого пива, кое-где – те же объедки. Маркова всего передёрнуло от чувства брезгливости – такого он ещё в жизни не встречал, хотя перевидал много грязи и неряшливости. Однако он не собирался отступать и храбро вошёл в предбанник мужского отделения.
Посетителей оказалось с утра совсем немного: несколько стариков, невысокий подтянутый, осанистый крепыш с румянцем на щеках, лысеющей головой и могучими ручищами, да какой-то смуглый, как индус, малый с квадратным лицом и, явно, лагерными татуировками на теле. Ряд старых шкафов, выкрашенных густо зелёной краской, контрастировал с двойным рядом длинных деревянных лавок со спинками, покрытыми тёмным лаком, смотревшимися поновее. Пол был затоптан и грязен. Полная женщина, нисколько не стесняясь голых мужиков, только начала лениво елозить по нему тряпкой, пахнущей хлоркой.
Марков поздоровался, ему ответили. Он выбрал шкафчик возле окна, в углу, быстро разделся, мельком обратив внимание на заинтересованный взгляд малого с наколками. Оба плеча Маркова украшали татуировки. На левом – цветная, почти художественная картина – два красно-синих дракона с жёлтыми лапами оплели хвостами якорь. На правом – обычного цвета: мчащийся по волне на косых, напряжённых ветром парусах, клипер с максимально подробно выполненным такелажем, и под ним, – псевдоготическими буквами кириллицей: ТМУРП. А на правой стороне груди Маркову вздумалось наколоть символ Таллинна – Старого Томаса.
Он прошёл в моечное отделение, мысленно поблагодарив отца за то, что посоветовал ему взять пластиковый тазик из дома – потому что сам вид банных тазов вызвал у него величайшее отторжение, настолько они казались неприличны! Замочив в холодной, а потом и в горячей воде веники, Марков храбро постоял под холодным душем, затем шагнул в парную, пахнущую хлебно-пивным духом, и мрачную, тёмную от того, что горела в ней одна единственная лампочка, и та – под самым потолком. Марков забрался на верхнюю полку и блаженно расслабился, прикрыв глаза: пар был сух, горяч, пробирал до озноба. Париться он полюбил ещё с курсантских времён, и знал толк в этом деле! С изумлением наблюдал он, как немилосердно лупцуют сами себя и друг друга вениками мужики, а сам парился по науке, усвоенной у эстонцев – не спеша, аккуратно и нежно обмахивая своё тело, слегка прижимая влажные, пахучие дубовые листья и проводя ими по ногам, рукам, спине, груди.
«Всё, всё здесь не так, не по-людски!» – лениво размышлял он потом, расслабленно сидя на улице под навесом и нежась. Ласковый прохладный ветерок остужал и убаюкивал. Остальные посетители, видимо не один год знакомые друг с другом, шумно матерясь, обсуждали жизнь, жалуясь на воровство и безделье чиновников, тупость и нежелание лечить, как следует, врачей, растущие цены на водку и всё остальное. Гам и разноголосица заглушали рёв машин, доносящийся с улицы.
– Вот скажи, полковник! – кричал запальчиво маленький, щуплый дедок, чем-то похожий на Суворова, резким, сиплым тенором, обращаясь к крепышу, единственному, кто не принимал участия в оре и тихо сидел, задумчиво дымя сигаретой. – Почему так у нас!? Куда не сунься – везде дай на лапу! Сарай, построенный два года назад, не могу узаконить! Гоняют от одного к другому, из одного кабинета в другой… К замглавы городской администрации ходил на приём – тот не мычит не телится!
Тот, кого назвали полковником, пожал покатыми плечами, подумал и ответил, как бы, нехотя:
– В России так везде. Сами чиновников приучили взятки брать – а теперь отучить тяжело будет! Тут твёрдая рука во власти нужна! Сталин нужен! Мы вот, в Сибири с женой долго жили – как из Польши войска вывели, меня сразу туда… Так вот, тайгу там вырубают незаконно, нещадно. Всё гонят в Китай, и хоть бы что! Хоть бы кого посадили! Сталин нужен – порядок наводить.
Тут все присутствующие вдруг взорвались криком, и каждый доказывал что-то своё, никого не слушая, и не желая слушать. Лишь один татуированный малый весело скалил зубы и трясся от беззвучного хохота. Крепыш-полковник, махнув рукой, направился в парилку.
У Маркова часто-часто заколотилось сердце: «Сибирь… Муж у Ольги Вячеславны – полковник… Приехать хотят…» – вспомнились ему слова соседа Алика. Он зашёл в парную следом, спросил, поддать жару, или нет, и устроился на верхней полке рядом с тем, кого называли полковником.
– Вы тоже, бывший военный? Моряк? – начал тот разговор первым, кивая на затейливые татуировки Маркова.
– Моряк, но не военный. И не бывший, а действующий, – с улыбкой доброжелательно ответил Марков, добавив, – приехал родителей навестить… Три года дома не был, а кажется – всё по старому, ничего не поменялось.
– А мы с женой из Сибири сюда перебрались… Надоело, понимаете ли, комаров кормить, да мёрзнуть! Месяц уже тут… Она у меня из этих мест сама, а я – крымский, – он назвал родное село жены, и Марков понял, что не ошибся. Это был Олин муж, и она где-то здесь, рядом, скорее всего – постаревшая, подурневшая, и встречаться с ней ему вовсе ни к чему.
А полковнику, представившемуся Василием Богдановичем Бондаренко, Марков, видимо, приглянулся и, после бани, тот пригласил его к себе в гости – попить пивка, а можно сообразить и покрепче чего… Здесь, недалеко…
И тут Марков струсил по-настоящему, возможно, впервые в жизни. Он испугался до внутренней дрожи: увидеть Олю старой! Поэтому вежливо отказался, сославшись на занятость, уверив, что в следующий раз – непременно – после баньки, твёрдо уже зная: следующего раза не будет! И в такую баню больше он ни ногой!
7.
Наступила безрадостная пора постоянно моросящих осенних дождей, хмурого неба, словно задрапированного шинельным сукном, великой чернозёмной грязи и деревенской тоски, когда с утра до вечера сидишь в доме, только выходя по нужде в деревянный сортир, затаившийся в погрустневшем саду, по скользкой, раскисшей тропинке, когда-то аккуратно выложенной половинками красного кирпича, а теперь запущенной, покрывшейся, местами, землёй и заросшей бурой травой. В комнатах сделалось сыро, Марков попытался, было, затопить русскую печь на кухне но, или забыл, как это делается, или труба забилась сажей – ничего хорошего из его затеи не вышло. Дрова в печи долго не хотели разгораться, а потом, когда дело, вроде бы наладилось, оттуда повалил в комнаты такой густой и едкий дым, что Марков, едва не угорел. Пришлось настежь открывать все окна, двери, и заливать огонь водой, отчего дым повалил ещё гуще и сильнее.
Два часа промесил он грязь по деревенским улицам, прежде чем отважился зайти в дом. Дым улетучился, но в комнатах воцарился стойкий, кислый запах гари. Так что, пришлось включать ОАГВ на целые дни и, одновременно, держать окна нараспашку, закрывая их только на ночь. От беспросветной тоски и дождя, Марков начал выпивать каждый день, почти по бутылке коньяка, который прихватил с собой. А когда, прикончил весь свой запас, помаявшись от мрачной скуки, с утра обул резиновые сапоги и побрёл в магазин на другой конец села. Заодно заглянул на кладбище и сбросил опавшую листву, густо осыпавшую бабушкину могилу.
Небо начало разъясниваться, светлеть, робкие солнечные лучи выбирались из-за туч и игриво посверкивали золотым, согревая душу. В магазине продавщица с изумлением и тревогой поглядела на Маркова, который не брился уже неделю, и от этого сразу, как-то, состарился. Он приобрёл пять бутылок – больше в наличии не было, не спеша, вразвалочку, походил по тихим деревенским улицам, здороваясь с редкими встреченными им людьми, и вернулся домой. Ему захотелось печёной на костре картошки, чтобы, как в детстве: картошка, соль, хлеб и пупырчатый, ещё колючий огурчик, только что сорванный с грядки… Он вытащил из сарая небольшой мангал, купленный недавно, отнёс в сад, сыпанул в него из бумажного пакета немного угля, разжёг, и начал усердно обмахивать куском плотного картона вяло тлеющие угольные куски, блестевшие тускло и жирно. Молоденького огурца, правда, не было, но имелись солёные, из бочки. Ими угостил Маркова щедрый Алик.
Наконец угли занялись, замерцали рубиновым цветом, пошёл жар и Марков, приложившись к бутылке, и закусив ядрёной антоновкой, подобранной в мокрой траве, побежал мыть картофелины. Он уже взобрался на высокие каменные ступени, протянул руку к двери в сени, как вдруг открылась калитка, и во двор спокойно, по-деревенски просто, вошла незнакомая женщина в куртке-ветровке с капюшоном на голове, синих джинсах и резиновых цветастых сапожках.
– Простите, дамочка, вам кого? – изумлённый такой беспардонностью, сухо спросил опешивший Марков, забывший о том, что в деревне не принято стучаться в калитки, входные двери. Иногда стучались в окошко…
Женщина смахнула капюшон и оказалась Олей.
– Здравствуй, Колюшка! Не узнал меня? – проговорила она мелодичным голосом, совершенно таким, какой был у неё в юности.
Какое-то время они, молча и пристально, изучали друг друга. В голове у Маркова не появлялось ни одной мысли… А Оля легко поднялась по высоким порожкам к нему, усмехнулась знакомо до боли в душе, легко провела всё такой же изящной ладонью по его щетине, и произнесла:
– Зарос-то, как леший! И перегаром несёт… Одичал ты тут совсем, братец!
Внутри у Маркова всё всколыхнулось:
– Не братец я тебе! – сипло возразил он.
– А кто? – спокойно и ласково спросила Оля, глядя ему прямо в помутневшие от пьянства глаза.
– Я твой несостоявшийся муж! – по-детски насупившись, глядя в сторону, словно боясь чего-то, проговорил Марков.
Оля толкнула дверь, прошла по-хозяйски в сени, сняла сапожки, обула шлёпанцы, в которых ходил по дому Марков-отец, зашла в кухню и уселась за столом, уставленным бутылками с коньяком и мисками с огурцами, и чёрным хлебом.
– Небогатая закуска к такой батарее, – с укоризной произнесла она, критически оглядев всё.
– Да у меня еды – полон холодильник! – смущённо пробормотал Марков, подскочил к новому, купленному месяц назад двухкамерному чуду, распахнул и показал, – просто картошечки вот, печёной захотелось. Помнишь, как с тобой пекли на огороде? В сухой ботве?
Оля улыбнулась грустно, покивала головой и медленно, чётко, учительским тоном проговорила:
– Помню, Колюшка! И водяные лилии твои помню. Такой был букетище!.. Ты – первый мужчина, который преподнёс мне цветы. Да ещё добытые, таким образом! А если бы ты утонул тогда? Хотя, нет, не утонул бы! Я прибежала на берег, когда тебя на той стороне увидела, и если бы ты стал захлёбываться, я бы не задумалась – сиганула бы в воду и вытащила тебя, дурака! Ты же мне был дороже всего на свете! Я это поняла, когда ты, всё же, доплыл с цветами и к моим ногам их бросил… Знаешь, что я в тот момент подумала? Сказать? Я подумала: «Это мой рыцарь!» А потом испугалась, что сил не хватит у тебя из воды вылезти…
– А я тебе под подол смотрел и всё видел, когда ты присела, и руку мне протянула, – с какой-то горечью в голосе признался Марков.
– Ах, мне не до того было, – махнула рукой Оля, коротко хохотнув, – мне надо было тебя спасти! Как я за тебя испугалась тогда! До сих пор, как вспомню – мурашки по коже! Был бы ты мне ровесник, точно был бы, для меня, первым парнем в нашем селе. И я бы за тобой – куда угодно пошла!
Марков долго молчал, шевеля губами, словно решаясь говорить, или нет. Потом с трудом выдохнул:
– А я, когда с этой охапкой лилий плыл, и силёнок уже не хватало, подумал: «Захлебнусь, утону, но букет не брошу!»
Тут он, впервые за всё время их разговора, решился взглянуть на Олю, и с радостным удивлением отметил про себя: а она с возрастом мало изменилась, не подурнела. Хотя и появились возле глаз лучисты тонкие полоски и кожа на лице – не такая свежая, и гладкая, как в молодости… На шее – тонкие поперечные морщинки, но немного… Кожа на руках тоже слегка постарела, но грудь – такая же высокая и нисколько не обвисла… Моложавая какая! На свои годы совершенно не выглядит!
А Оля взволнованно дышала, грудь её, то вздымалась высоко, то плавно возвращалась в исходное положение. И Маркову, опьянённому такой красотой, захотелось прижать её к себе и ласково погладить её грудь, лицо, густые волосы с явно закрашенной сединой, но ещё притягательные, для мужской руки. Он, вдруг, порывисто шагнул к ней, осторожно поднял с табуретки за локти, приподнял ещё выше, перехватил её тело в талии, и крепко прижал к себе, с наслаждением и волнением уткнувшись в её груди лицом. Она расслабленно опустила свои руки ему на плечи, зарылась лицом в его отросшие, взлохмаченные волосы и замерла. Так они пробыли неизвестно сколько, пока Оля, будто очнувшись, прошептала:
– Пусти, тяжело тебе…
Марков с величайшей осторожность поставил женщину на пол и поцеловал, не отпуская, всё ещё прижимая к себе, в губы. Она ответила горячо, но потом резко отпрянула, села опять за стол, тяжело дыша, уткнулась лицом в свои ладони, и сдавленно проговорила деревянным голосом:
– Николай, дай закурить, пожалуйста.
– Я не курю, Олюшка, – с удивлением, тихо ответил Марков.
– А я, иногда, дымлю… У нас некоторые училки курили в школе. И меня приучили. Работа нервная в последнее время была, а покуришь – вроде бы и ничего, отпустит…
Затем она легко поднялась, похлопала по табуретке рукой и приказала Маркову:
– Иди, садись!
Тот послушно сел. Оля взобралась к нему на колени, так обыденно и уверенно, как будто бы они были муж и жена, обхватила руками его шею, прижалась к его густой, колючей щетине щекой, совершенно не обращая на то внимания, и произнесла, глядя ему прямо в глаза:
– Ну, а теперь рассказывай о себе всё-всё!
Повествователем Марков всегда был неважным. Его стихией, когда он поступил только в мореходку, стали точные науки. Поэтому говорил он сбивчиво, неподробно, некрасочно, словно анкету заполнял. Оля слушала, не проронив ни слова, даже когда дело коснулось его мытарств с женитьбами и разводами. Когда он говорил об этом, Оля напряжённо смотрела в кухонное окно, будто бы наблюдала за трёхлапой кошкой, сидящей на улице перед дверью, неизвестно откуда приблудившейся, и взятой сердобольным Марковым на прокорм. Потом повернула к нему своё лицо, убрала с плеч руки, захотела подняться, но Марков, ошалевший от такой неожиданной близости к ней, придержал Олю, ухватив нежно ладонями за обе груди. Она вцепилась с силой в его ладони, и потом сразу же ослабила хватку, уронила вяло руки к себе на бёдра, а Марков, загоревшись, точно юноша, прошептал:
– Оля, пойдём в комнату…
Она, словно очнувшись, локтями резко ударила по его рукам снизу вверх, вскочила, отошла на шаг и, покраснев, глядя в пол, ответила глухо:
– Нет, Коля! Не обижайся… Прости…
Марков почувствовал, как в душе его разлилась горечь разочарования, волна снова ударила в волнорез и рассыпалась, утратив свою силу, казавшуюся непреодолимой.
– Ты не хочешь меня? – спросил он, почти с насмешкой.
– Хочу… – просто и спокойно ответила Оля, подумала немного и добавила, – если бы я была свободна – ни минуты бы не сопротивлялась…
– А в чём же дело? – изумился Марков.
– А в том, что я замужняя! И как я после этого, в глаза бы мужу поглядела? В одну постель бы легла с ним? Он же у меня первый и единственный. Я ему ни разу не соврала.
– Значит, ты его любишь, да?
Оля вздохнула так, словно перед ней сидел не Марков, а тупой ученик, и просто ответила:
– Я же деревенская баба, Коля! От земли! А что, для русской деревенской бабы нужно? Дельный мужик, чтоб за ним, как за стеной, крепкая семья, дома – всего вдоволь! Да дети, чтобы олухами не выросли! Это уже бабья забота! Чтоб муж было обихожен, а в доме порядок. Вот, как я понимаю любовь! И не обманывать друг дружку, чтоб не совестно было в глаза глядеть! Вот такая у меня была и есть любовь!
– Ясно! – выдохнул Марков, тяжело поднялся, вынул из холодильника две сардельки, порезал на четыре части, вынес кошке, минуту постоял, полюбовался на то, как она с жадностью их уплетает, потом вошёл в дом. Оля опять сидела за столом, подперев щёку, и рассматривала унылое чёрное поле на той стороне пруда.

