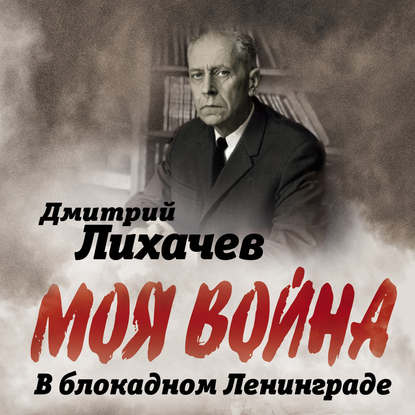Полная версия
Война глазами подростка

Игорь Васильевич Бестужев-Лада
Война глазами подростка
© Бестужев-Лада И.В., правообладатели, 2021
© ООО «Издательство Родина», 2021
Бестужевы. Детство
– О, какая фамилия! – говорят обычно мне, когда я представляюсь: «Бестужев». И чем образованнее человек, тем вероятнее это «о!».
Странно. Если бы я сказал «Меншиков» или «Горчаков», «Рылеев» или «Каховский», «Карамзин» или «Ключевский», то вероятность «о!» была бы значительно ниже. Скорее всего, ограничились бы вопросом: «…Вы не из тех?..» Хотя в каждом случае фамилия не менее громкая в российской истории. Даже более.
Долго ломал себе голову над этой загадкой. Наконец, выработал гипотезу о том, что в данном случае мы имеем дело со своего рода кумуляцией. Это когда одно накладывается на другое, а в результате получается нечто третье, причем сумма оказывается больше слагаемых.
Одни слышали о канцлере Бестужеве-Рюмине при императрице Елизавете в середине XVIII века. Другие – о братьях Бестужевых-декабристах. Иногда ошибочно включая в их число еще одного – Бестужева-Рюмина, вошедшего в пятерку самых ненавистных царю участников восстания, которые были повешены. Но всегда безошибочно выделяя среди братьев Бестужева-Марлинского, хотя мало кто читал его романтические повести, оттесненные на второй план русской классикой XIX века. Третьи слышали еще об одном Бестужеве-Рюмине – не самом выдающемся историке второй половины XIX века, зато взявшем на себя ответственность за Высшие женские курсы, открывшие женщинам дорогу к высшему образованию. Их выпускницы с гордостью называли себя «бестужевками» и всегда с особой нежностью относились ко мне: я еще застал при жизни последних из них. И уж совсем мало кто помнит о двух других братьях Бестужевых-декабристах, которые, в своей сибирской ссылке, оставили огромное культурное наследство.
А в итоге получается «о!».
Разумеется, и меня часто спрашивают: «Вы не из тех?..» И если не удается отделаться простым «нет» или «увы», начинаю объяснять, что у русских крестьян (а я – из них) до самой отмены крепостного права в 1861 году никаких фамилий не было. Даже на отчество в полном его виде (с окончанием на «ич» или «на») официально имели право лишь лица императорской фамилии. Поэтому даже любимый нами поэт из старинного дворянского (боярского!) рода Пушкиных, которого и тогда звали, и сейчас зовут Александр Сергеевич, по документам, как и все простые смертные, проходил в качестве «Александра, сына Сергеева». А уж крестьяне и вовсе довольствовались лишь именем, данным при крещении, которое, для ясности, дополнялось отчеством. Например, Иван, Петров сын. Сокращенно: Иван Петров. И только очень уважительно, хотя и незаконно: Иван Петрович. Но более в ходу было уличное прозвище, которым награждался тогда почти каждый. Кстати, прозвище могло распространяться и на членов семьи, и даже на последующие поколения, но, в отличие от фамилии, менялось при новом прозвище нового сколько-нибудь выдающегося главы семьи.
Так, одного из дворян Бестужевых еще в далекие допетровские времена прозвали Рюш. И все его семейство, включая детей и внуков, для окружающих превратилось из Бестужевых в Рюминых. Потребовалось специальное разрешение царя, чтобы такое безобразие прекратилось сдвоением фамилии (кстати, тоже бывшего прозвища) и нового прозвища. Так появились Бестужевы-Рюмины. Спустя четверть тысячелетия точно таким же путем появился Бестужев-Лада. Только, разумеется, при другом царе (под названием генсек) и ином сенате (под названием ЦК КПСС).
В соседней с нами избе жила семья Полюниных, где водились мои самые закадычные друзья. Но для всего села они были Гурьяновы. И только потому, что два или три поколения назад семьей владычествовал некий Гурьян, пользовавшийся большим авторитетом в округе.
В случае с моей фамилией положение несколько прояснилось, когда я услышал от деда, что ему с детства было известно: первоначально наша изба, за несколько поколений до него, стояла не на том месте, на котором простояла до XXI века, а в самом конце порядка, то бишь улицы с весьма красноречивым названием Кочкари – что, кстати, полностью соответствовало действительности, – огромного русского села Лада в сорока верстах к северо-востоку от Саранска, уездного города на севере Пензенской губернии. Возникшего в третьей четверти XVI века, после похода Ивана Грозного на Казань.
Уличное прозвище первого главы семьи, переходившее затем из поколения в поколение и перешедшее, наконец, в фамилию, было Бестужев. А прозвище главы семьи в соседней избе, тоже перешедшее в фамилию: Гальцын. Следует уточнить, что прозвища-фамилии остальных соседей разительно отличались от этих двух: Плекины, Абрамовы, Демины, Чибиркины, уже упоминавшиеся Полюнины и т. и. Из этого проистекает весьма вероятное предположение: владелец села боярин Нарышкин (впоследствии имение перешло в другие руки) купил у кого-то из дворян Бестужевых и князей Голицыных крестьянские семьи «на вывод» в Ладу.
Первый вопрос в любом русском селе до сих пор не «кто ты?» (это неинтересно), а «вы чьи будете?» («вы цьи?» – по местному диалекту, который с трудом понял бы какой-нибудь москвич с совсем иным говором и гонором). Разумеется, для новичка, еще не обзаведшегося уличным прозвищем, ответом могло быть только: Бестужевы (то есть помещиков Бестужевых крепостные или Гальцыны, князей Голицыных крепостные). Так и пошло из поколения в поколение, до фамилии включительно.
Конечно, это не более чем гипотеза. Но она, на мой взгляд, намного вероятнее, чем гипотеза моей дочери, не только сохранившей девичью фамилию и даже передавшей ее при живом муже собственному сыну, но и прибавившей к ней псевдоним отца (правда, по уважительным причинам, о коих ниже). Ей хотелось бы верить, что, наверное, незаконный отпрыск какого-то Бестужева был сослан или продан в Ладу. Естественно, крепостным, как это бывало в 999 случаях из 1000. Конечно, все может быть. Но доказательств никаких. И если бы нашлись доказательства, я был бы очень огорчен. Потому что, как любой настоящий крестьянин, отношусь враждебно-презрительно к дворянству, как к варяго-печенежским хищникам, разорявшим и погубившим Россию. Верни Ладу Нарышкиным, – я первым бы, вместе с Гальцыными, Плекиными, Полюниными и Демиными пошел, как прежде хаживали предки, с вилами на барский дом.
Кстати, в точности так же получила фамилию семья матери. Ее дед, отпущенный на оброк, т. е. на заработки в Саранск, и спрошенный: «вы цьи?» – должен был отвечать: Пестровские. В смысле: крепостные помещицы Пестровской (из деревни Пестровка недалеко от Саранска). А уж потом появились саранские мещане Пестровские – члены семьи моего деда по матери, выбившегося в приказчики и сумевшего дать всем своим пятерым детям гимназическое образование.
* * *Прежде, чем говорить о людях, которые сыграли решающую роль в моей жизни, несколько слов о селе по имени Лада, которое сыграло такую же роль, причем не меньшую, чем Москва. Хотя в Москве прожил более семидесяти лет, а в Ладе, если сложить все проведенные там летние месяцы и одну зиму, – не более двух.
Основателем Лады был, безусловно, умный хозяин. Он расположил помещичий двор и ряды (порядки) крестьянских изб в обе стороны от него у подножья гряды высоких, в сотню и более метров, холмов, прикрывавших жилье от холодных ветров. Двор с обширным плодовым садом вокруг возвышался на склоне холма над столь же обширной торговой площадью с огромной церковью посередине у слияния небольшой речки Инсар с еще меньшей, по суши просто ручьем, который официально именуется Ладка (откуда и название села), а неофициально – Куря.
Можно только догадываться теперь, какое это было райское место лет триста-четыреста назад. Дремучий лиственный лес, изобиловавший дичью, спускался прямо к берегам реки и ручья. Так что и бревен для изб, и дров для очага, и мяса для вертела в нем было довольно. Поляны на предхолмье представляли собой идеальный простор и для жилья, и для садов-огородов подле. Ручей питался сильными родниками, и ключевая вода всегда была под боком. По берегу реки лес перемежался заливными лугами со сказочными укосами, а дальше начиналось такое жирное черноземье, по сравнению с которым какая-то там Украина – просто Сахара.
Справедливости ради следует добавить, что в одном пространстве-времени с этим рукотворным земным раем (сравнительно с последующей разрухой – до сих пор, до XXI века!) существовал, как положено, и ад. Точнее, целых три ада.
Первый заключался в тяжком продолжительном физическом труде 364 дня в году (365 в високосном). Редко меньше 10–12 часов в день – разве что по воскресеньям и праздникам. Часто до 14–16 часов – до предела человеческих возможностей. Это сегодня у нас почти каждый день – либо выходной, либо праздник, либо отпуск. А домашняя скотина такого баловства не признает – требует ежедневного ухода. Да и поле-огород живуч по своим законам, далеким от людских удовольствий. И кто бы мог подумать, что такой ад кромешный и есть нормальные условия существования человеческого общества? А как только начинаются сплошные выходные-праздники-отпуска, перемежаемые чаепитиями до и после обеда, всевозможными юбилеями и другими оргиями, – это верный признак близкого конца прогнившей цивилизации.
Добавим, что 12–16 часов работы в день – это не собрание-заседание. Это в три часа утра (глубокой ночью по-нынешнему) хозяйке вставать доить корову, а хозяину – задавать корм скоту. Затем часы и часы лопатой или вилами до изнеможения. И только потом завтрак. И опять часы и часы работы. Обед и «мертвый час – иначе не выдержишь. Снова часы и часы работы. Ужин. И часто многое еще доделывать после ужина, чтобы часов в десять вечера рухнуть мертвым сном. А через пять часов – подъем…
И все это – в избе площадью не более 15–20 кв. м (часто – менее) и высотой не более 3 м (часто – менее). В этой привычной до сих пор кубатуре ночевали не двое, как сейчас, а человек двадцать, в том числе пара стариков и больше дюжины детей мал мала меньше. Спали в четыре яруса: молодежь высоко под самым потолком на полатях, старики – на печке, супруги – на сундуке, служившем кроватью, рядом по лавкам кто постарше, малышня – вповалку на полу. И каждый год – новый младенец орет по ночам в люльке. И каждый год в той же избе выхаживаются новорожденные теленок, затем жеребенок, затем ягнята, затем козлята и т. д. В хлеву в первые недели жизни они просто замерзнут.
Перечитайте этот абзац еще раз и попытайтесь вообразить себе этот комфорт, который автор ребенком видел из соседней горницы отнюдь не в самой бедной избе на селе.
Можно представить, какое обилие насекомых дополняло такое сосуществование разных млекопитающих. Касательно комаров, насколько помнится. Господь Ладу более или менее миловал. А вот мух всюду – как людей сегодня в центре Москвы. И, понятно, в каждой избе – клопы, блохи, тараканы, как саранча. До сих пор не знаю, какими народными средствами бабушка ухитрялась держать избу в чистоте от этой нечисти.
Во всяком случае, с клопами мне впервые пришлось познакомиться уже десяти лет от роду. И не в селе Лада, а в городе Чистополе. На съемной квартире, где среди ночи проснулся полузагрызенный. А когда зажгли свет, с ужасом увидел десятки мерзких тварей, наползающих на меня со всех сторон. Я еще не читал тогда воспоминания маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», где он утверждал, что такое обилие клопов было не только в крестьянских избах, и что он спасался от них, приказывая ставить ножки своей походной кровати в лоханки с водой и закрываясь сплошным пологом от пикирующих с потолка клопов, как от москитов в тропиках.
А с блохами впервые и вовсе столкнулся лишь на четвертом десятке лет жизни. И не где-нибудь, а на даче в Саулкрастах под Ригой – наследие обитавших там до нас псин. Ну а что такое тараканы – знает и поныне почти каждый москвич. В деревенских избах их было не меньше, чем мышей в амбарах. В нашей избе благодаря стараниям бабушки – не больше, чем сегодня в моей городской квартире, раз в месяц пришелец от кого-то из соседей.
Второй рукотворный ад люди устроили сами себе своими отношениями друг с другом. Чтобы выдержать каторжный труд, были установлены его вековые ритуалы, дополненные такими же ритуалами быта и досуга. Все было как на сцене театра – каждый обязан был играть свою роль. За этим бдительно следило всемогущее в тех условиях общественное мнение окружающих. Чуть оступился в чем-то – окрик, брань, затрещина, избиение, обидное прозвище, травля, самоубийство. Все это с самых ранних лет видел и слышал все в той же Ладе. Мне ото всего этого перепала сущая гомеопатия, но и в двадцать лет я инстинктивно закрывался рукой, когда мать делала в сердцах неосторожное движение: вполне мог последовать привычный подзатыльник.
Наконец, в третьем аду чертовщиной являлось всевозможное начальство. И то, которое требовало «выкупных платежей» сверх немалого налога. И то, которое просто отбирало собранное зерно, оставляя самую малость на семена и скудное пропитание. И то, которое отобрало землю и почти весь домашний скот, заставляя работать даром за право не умереть с голода картошкой с оставшегося мочка приусадебного участка. И то, которое без взятки не даст разрешения ни на что в жизни. И то, которое может запросто сжить со света, если не угодишь в чем-то. Вплоть до сего дня.
Как выжить в таком аду, где спасается только низко кланяющийся и ломается насмерть всякий, сохранивший хоть малейшее чувство человеческого достоинства? Тоже вплоть до сего дня.
Русское крестьянство приспособилось. Оно научилось отделять родную страну (родину, отечество) от чужого, враждебного государства на той же территории, в том же времени-пространстве. Что никак не мешало вечным царистским иллюзиям («Вот приедет барин…»). Мне для этого потребовалось почти 45 лет жизни и нечто вроде казни. Как говаривал в таких случаях Высоцкий, «распяли, но не сильно». А вот царистские иллюзии, как и у всякого крестьянина, никуда не делись. Хорошо хоть понимаю, что иллюзии.
* * *Судьба моего родного села – судьба всей России. Или по меньшей мере так называемой среднерусской полосы между тундрой-тайгой на севере, степями на юге, Беларусью на Западе и Уралом на Востоке.
Тысячелетие назад эта обширная местность, сопоставимая по площади едва ли не со всей Западной Европой, или Ближним Востоком, или Индостаном, или собственно Китаем (без его пустынных зон), описывалась известной формулой из пушкинской «Руслана и Людмилы». Помните там о «пустынных муромских лесах»? Это была действительно лесная пустыня, засеченная разве немногим больше, чем тундра или сибирская тайга. Изобилие всякой лесной дичи – от медведя до зайца и от оленя до кабана – и редкие маленькие поседения из нескольких хижин по берегам рек.
Именно такой лет пятьсот назад была вся Финляндия (кроме южной прибрежной полосы и северной тундры). С тем же самым коренным населением из разных угро-финских племен, которые оставили всей местности свои названия. От Невы до Тамбова и от Москвы до Сыктывкара. Ко времени татаро-монгольского нашествия сюда стали проникать славянские племена из бассейна Днепра и тюркские – с юга. Места хватало: редкие маленькие поседения просто терялись в море лесов. Чересполосица племен возросла после похода Ивана Грозного на Казань и раздачи земель Среднего Поволжья его боярам и дворянам (не только славянского, но и тюркского, и даже германского происхождения). Новые помещики стали вывозить в новые седа русских крестьян из своих имений с запада. Так, в частности, родилась Лада. Но и тогда никаких значительных столкновений между финнами, славянами и тюрками не отмечалось. С тех времен и до наших дней. И объяснение такому миролюбию простое: ни одно из племен не норовило паразитировать на другом (причина национальной вражды в России XVIII–XX вв., и чем ближе к XXI веку – тем сильнее).
Враг был общий – разбойники, которые грабили одинаково и финнов, и славян, и тюрков. Сначала просто как разбойники. Потом как созданное ими государство – до XX века включительно.
Правда, сначала хищники были свои собственные. Человеческое общество так устроено, что наиболее удачливому или наиболее наглому воину-охотнику всегда отводилось самое почетное место у костра, предлагался самый лакомый кусок и доставалась самая привлекательная самка (что обеспечивало лучшее генетическое наследство для последующих поколений – в этом смысле сообщество людей ничем не отличается от стаи собак или стада обезьян). Если же такой воин становился вдобавок организатором-вождем, он, как правило, норовил сделать свои привилегии традицией, да еще передать их сыну (сыновьям). Начиная с жилья, пиршественного стола, гарема и кончая пышными похоронами вместе с лошадьми, женами и прочей домашней живностью. Тут славянские вожди ровно ничем не отличались от финских, тюркских, арабских, индийских, китайских и всех прочих. Что делать? Начальство всегда злоупотребляло своим положением и не прекратило этого безобразия до сего дня.
Другое дето, что финские, славянские и тюркские вожди оказались более эгоистичными (и, следовательно, более скандальными меж собой), менее сплоченными и менее организованными, нежели германские. Да и из последних не все, а только норманнские (варяжские). Так уж сложилось, что здоровый климат Скандинавии удерживал детскую смертность на сравнительно низком уровне, а суровая природа не давала возможности прокормить быстро растущее население. Такое случалось и раньше (гунны), и позже (монголы).
Способ прокорма в таких случаях находился быстро: сколотить разбойничью шайку и начать грабить всех окрест. Этим варяги и занимались почти полтысячелетия, пока излишки населения не расселись в виде главарей и их шаек по многим странам Европы – от Англии, Франции, Испании и Италии (до Сицилии включительно – разбойничья генетика, видимо, возродилась спустя несколько веков в виде знаменитой сицилийской мафии) – до Новгорода, Киева, Владимира и Суздаля. Пока не погасили свою пассионарную волну почиванием на награбленных лаврах.
Поэтому не надо стыдиться «норманнской теории российской государственности» – здесь мы просто разделили судьбу множества других стран Европы. Почему-то никто не обращает внимания на созвучие русских «князей» и «витязей» с варяжскими «конунгами» и «викингами», дошедшими до наших дней в виде многочисленных «книге» на севере Европы. И мы тешим себя иллюзиями, будто Игорь – это не обрусевший Ингвар, а Олег – не обрусевший Хроекр.
Германскую шайку разбойников, правившую Россией тысячу лет (в том числе четверть тысячелетия под верховенством разбойников монголо-тюркских), сменила шайка еврейских, с вкраплением в нее грузин, армян и меньше всего собственно русских. Во всей этой мерзости нет ни капли национализма. Потому что еврейская шайка была почти начисто истреблена грузинским разбойником «в законе». Со времен Хрущева ее сменила преимущественно русско-украинская, с очень небольшим вкраплением других национальностей. Но хищничества от этого не убавилось. Мало того, при Ельцине страна была фактически отдана на произвол самых настоящих (в смысле соответствия статьям Уголовного Кодекса) разбойничьих шаек.
И вся эта мразь вот уже более тысячи лет занимается одним-единственным ремеслом – рэкетом общегосударственных масштабов. Обирает население страны, как только может. До сих пор за эти занятия пострадал один-единственный разбойник – князь Игорь. Да и того разорвали на части только потому, что он попытался ограбить дочиста ограбленных вторично. Все остальные до конца XX века включительно злодействовали безнаказанно.
И еще находятся подлецы, которые костерят забитых и ограбленных – веками! – пьяницами, лентяями, ворами, обманщиками и мошенниками. Интересно, чего еще можно ожидать от человека, которого из поколения в поколение бьют смертным боем, гонят плетью на каторжный труд и отбирают силой почти все из наработанного?..
* * *Ну а теперь люди, среди которых вырос и состарился.
Одним из одиннадцати родившихся у бабушки с дедушкой детей и старшим из трех выживших оказался мой отец. Он окончил четырехклассную церковно-приходскую школу и стал «шибко грамотным» по местным понятиям – его родителя и остальные 99 % взрослого населения Ладской волости оставались в то время неграмотными. Сразу же слетался вожаком местной молодежи и вскоре председателем волостной ячейки РКСМ – 14-летним секретарем райкома комсомола по более поздним стандартам, хотя в ячейке, разумеется, состояло всего несколько человек. А затем, с 4-классным образованием, был отправлен в 1920 г. в Комвуз (проще говоря, в областную партшколу) в Саратов.
На протяжении нескольких последующих лет учебы часто бывал в Ладе на каникулах, горячо отстаивал интересы крестьян перед местной бюрократией (он стал к 18 годам кандидатом в члены партии, а это по тем временам было повыше нынешнего олигарха) и поэтому сделался всеобщим любимцем седа. И оставался им при частых наездах в Ладу до конца своей жизни. Отблеск этой поистине всенародной любви районного масштаба постоянно падал на меня, как на его сына, при каждой моей поездке в Ладу, вплоть до 70-х годов, когда я, в отчаянии при виде агонии села, перестал ездить туда. Впрочем, его любили везде, где он жил и работал.
Со своей стороны. Ладу он любил даже больше, чем я, хотя больше, казалось бы, невозможно. Лада была средоточием его помыслов, предметом страсти, объектом радостей и горестей. Он мог часами рассказывать или слушать о ней, посвящал ей бесчисленные стихи, декламировал своего любимого Есенина так, словно тот был родом не из Константинова, а из Лады. И полностью передал эту Большую Любовь мне – увы, не далее.
Именно во время приездов на каникулы в Ладу познакомился там с сельской учительницей. Как положено по давней семейной традиции – ровно на четыре года старше себя и намного сильнее характером. Однако, вопреки традиции, выше по социальному положению: «городская», а не «деревенская», мало того – из мещан, а не из крестьян, с гимназическим образованием, две старших сестры из трех – за инженерами-чиновниками. Влюбился в нее, устраивал с ней вместе агитспектакли в местном клубе, провожал домой, декламировал стихи и в конце концов уговорил выйти за него замуж. Как раз в это время его, 18летнего студента, приняли кандидатом в таены РКП(б), а в 1924 г. он стал членом партии – номенклатурой губернского уровня. Окончив Комвуз, получил назначение управляющим сельхозснаба в Майкоп. Куда поехал и я – правда, в комплекте с беременной матерью. До меня была еще Вероника, но она умерла до моего рождения.
Из Майкопа отца в тот же год на ту же должность перевели в Симферополь, где я фигурировал уже в пеленках, причем вниз головою, спешно вынесенный нянькою при страшном крымском землетрясении 1927 года, так красочно описанном Ильфом и Петровым в «Двенадцати стульях». Через несколько месяцев его с семьей перебросили в Вологду, затем опять ненадолго в Симферополь и, наконец, в Казань, где он начальствовал больше года. Как я теперь понимаю, у него, вдобавок к природному добродушию и жизнерадостности (от его отца), обнаружились незаурядные организаторские способности, и его бросали с места на место, чтобы наладить дело и бежать налаживать следующее. Никаких иных стимулов для столь частых переездов не было и быть не могло – всюду работа и жилье были примерно одинаковые.
А работа должна была быть интереснее интересного. Ведь тогда на четверть сотни миллионов крестьянских хозяйств приходилось в среднем примерно столько же лошадей, и лишь меньшинство были с плутами, большинство – с сохой и бороной вековой давности, а сеяли, как и тысячелетие назад – рукой из лукошка. Несколько сот колхозов и совхозов, уцелевших из нескольких тысяч, созданных в 1918 г. и справедливо названных Лениным «богадельнями», влачили жалкое существование нищенских островков в океане единоличного сельского хозяйства. И вот в этот «океан» с «островами» надлежало запускать растущие партии сельхозтехники – поначалу, естественно, импортной: тракторы, плуги, сеялки, бороны, веялки и пр. Одно из первых моих детских впечатлений в Симферополе 1929 года – ярко-зеленый трактор с ярко-красными ободами колес и звучным именем, запомнившимся на всю жизнь: «Фордзон». Это напоминало превращение конной армии в танковую и, понятное дело, требовало талантливых организаторов. Особенно с учетом того, что техника XX века переходила в руки крестьян XIX, а во многом и XVIII века.
И при этой безумной чехарде он успел еще несколько месяцев отслужить в армии. Правда, тогда красноармеец – член партии был такой же диковиной, как сегодня, скажем, министр – дневальным в солдатской казарме. На собраниях партячейки он сидел на равных с командиром и комиссаром полка. И, естественно, не признавал никакой дисциплины. По его рассказу, когда явился однажды ночью прямо с постели по срочному вызову к командиру не в положенной форме, а в шинели, накинутой прямо на исподнее и в калошах на босу ногу – тот сначала впал в состояние, близкое к обмороку, а наутро написал незадачливому партгусару увольнительную от дальнейшего прохождения службы. Так и остался отец, если верить его красноармейской книжке, «рядовым необученным». Больше его к армии близко не подпускали.