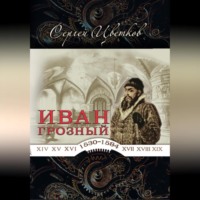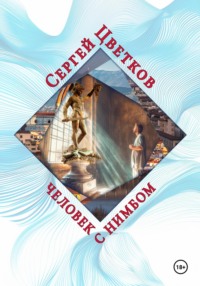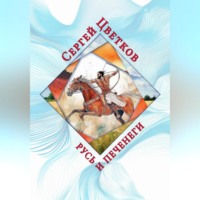Полная версия
Европейская мозаика
– Это правда, ваше величество, наши нравы дают обильную пищу для предвзятых мнений. Ваши послы, впервые приезжающие в Мадрид, приходят в ужас от испанского придворного церемониала, ибо, привыкнув к грациозной вежливости французского двора, они теряются перед строгим благочестием мадридского. Костюмы дам их пугают, обычаи – раздражают или смешат, развлечения кажутся скучными или кровожадными. Много увидев, но мало поняв, они возвращаются во Францию, где приспосабливают свои наблюдения, – надо признать, подчас весьма меткие, – под вкусы того салона, завсегдатаями которого являются. Между тем причины непонимания довольно очевидны. Испания, более гордая, более идеальная, ещё способна на безумства, от чего во Франции давно отвыкли. Сила чувств и неистовство в их проявлении – вот то, что более изнеженные народы склонны выдавать за варварство. Скажите, ваше величество, разве в Париже кто‑нибудь способен поджечь театр, чтобы иметь возможность унести свою возлюбленную на руках?
– Боже мой, конечно, нет, хотя бы потому, что в Париже и теперь не каждая порядочная дама рискнёт поехать в театр. Но о ком вы говорите?
– Так поступил граф Вилламедиана, влюблённый в королеву Елизавету, первую супругу покойного отца нашего нынешнего государя. Испания чтит безумцев, особенно безумцев от любви. Ваше величество слышали когда‑нибудь о Embevecidos?
– Нет. Кто это?
– «Опьянённые любовью». Эти люди могут оставаться с покрытой головой перед королевской четой, даже если они не являются испанскими грандами. Они считаются ослеплёнными видом своих возлюбленных и неспособными видеть что‑либо иное и знать, где они находятся. Король дозволяет им непочтительность, как султан терпит проклятия дервишей. Если ваше величество хочет понять Испанию, вам следует помнить, что это означает понять безумство.
Королева улыбнулась несколько принуждённо, как если бы выслушала рассказ о нравах той тюрьмы, в которой ей суждено было находиться.
– Вы говорите странные вещи, маркиз. Однако я благодарна вам за этот небольшой этюд о нравах моих подданных. Надеюсь, я со временем лучше пойму то, о чём вы сейчас сказали, – ответила она.
После первого публичного выхода Мария‑Луиза вышла из своего затворничества, но лишь для того, что‑бы перейти к тому, что госпожа де Виллар в своих письмах называет «ужасной жизнью дворца». Её важнейшей чертой, закрепленной церемониалом, был строго соблюдаемый и оттого особенно невыносимый tete‑a‑tete короля и королевы. В девять часов утра азафата24 отдёргивала занавеску королевской постели, а камердинep подавал королю горячий напиток: слабый бульон с двумя желтками, разбавленный молоком, вином, которое преобладало, и сдобренный сахаром, гвоздикой и корицей. Королеве азафата подносила принадлежности для вышивания. Затем она же подавала обоим постельные плащи и клала рядом с королём часть деловых бумаг, лежавших на ближайших стульях и креслах, после этого слуги уходили. Король и королева совершали молитву, по окончании которой к Карлосу приходил министр с бумагами. Через полчаса министр удалялся, и азафата приносила королю туфли и халат. Карлос шёл в кабинет, где одевался с помощью трёх лакеев, никогда не менявшихся, и одного из своих фаворитов. Облачившись в платье, король некоторое время беседовал через специальное окошко со своим духовником.
В это время азафата подавала Марии‑Луизе халат – это были семь‑восемь минут, когда король и королева оставались в одиночестве, в случае промедления Карлос осведомлялся о причине задержки. Мария‑Луиза в свою очередь шла в уборную и совершала утренний туалет с помощью азафаты, двух придворных дам и двух фрейлин, чередовавшихся каждую неделю. Если Карлос к тому времени заканчивал исповедь, которая обычно продолжалась недолго, то присутствовал при туалете. Беседа велась стоя и ограничивалась королевскими замечаниями дамам об их знакомствах и набожности.
Из уборной шли по внутренним покоям в часовню слушать мессу в сопровождении лиц, присутствовавших при туалете, и капитана гвардии. После мессы обедали и совершали часовую прогулку в каретах, по возвращении закусывали и время до ужина проводили в молитвах и душеспасительном чтении. Согласно этикету, испанские королевы должны были ложиться спать летом в десять часов, а зимой в половине десятого. Первое время Марии‑Луизе случалось засидеться за ужином до этого неизбежного срока, и тогда одни её дамы, ни слова не говоря, начинали распускать её причёску, другие разували её под столом. В несколько минут она была раздета, её волосы распущены, и сама она отнесена в постель. Её укладывали спать «с куском во рту», говорит в одном письме госпожа де Виллар.
Даже супружеская любовь имела свой распорядок и свою униформу. Когда король приходил, чтобы провести ночь с королевой, он должен был поверх башмаков надевать мягкие туфли, иметь на плече чёрный плащ, в одной руке держать свою шпагу, а в другой потайной фонарь, придерживая при этом правым локтем кувшин, а левым – бутылку двусмысленной формы, подвязанную верёвками. Этот полуторжественный, полушутовской наряд на сонном манекене с лицом призрака не смешил, а пугал Марию‑Луизу, напоминая ей о бессмысленности всего, что она видела вокруг себя.
Любовь Карлоса только отягчала её тоску: Мария‑Луиза чувствовала в ней унылую мономанию безумца. «Король никогда не хотел терять королеву из виду, и это очень обязывало», – пишет госпожа де Виллар со своей тонкой придворной иронией. Три или четыре часа в день он играл с Марией‑Луизой в бирюльки – игру, в которой можно потерять одну пистоль лишь при самой необыкновенной неудаче. Для развлечения он возил её по мадридским монастырям. Разнообразие времяпровождения в этих поездках заключалось в том, что после мессы король и королева садились на широкие кресла, положив ноги на великолепные подушки, и принимали процессию монахов, по очереди подходивших к ним приложиться к руке.
Балы, случавшиеся не чаще солнечных затмений, не могли снять вечный траур двора. Находиться в присутствии короля можно было только одетым в чёрное. Костюмы мужчин с воротниками, охватывающими шею, словно железные ошейники, узкие штаны и тяжёлые плащи уродовали красоту и старили молодость. Дамы носили монашеские нагрудники, мантильи, скрывавшие глаза, корсажи, твёрдые, как доспехи, и фижмы, придававшие телу крутые откосы крепостей. Мода предписывала им носить круглые очки, румянить и белить не только лицо, но также руки, плечи и кожу сзади ушей (пристрастие к румянам было так велико, что их клали даже на бюсты в королевском дворце). Жёны, мужья которых были в путешествии, носили кожаный пояс верности или верёвку. Марию‑Луизу поразило присутствие на балу священников и поведение камареры‑махор – благочестивая старуха бормотала в промежутках разговоров молитвы, откладывая их на чётках, которые не выпускала из рук. Вообще, чётки были у многих дам, – молясь, они машинально отмечали на них ритм менуэтов.
Два карлика с длинными волосами, облачённые в парчовые мантии, пытались развлекать этот могильный двор. Разговор поддерживался главным образом ими. Однако обращать внимание на их шутки полагалось не больше, чем на гримасы каменных масок над порталами дворца. Однажды Мария‑Луиза во время обеда стала смеяться над кривляньями шута, который то и дело подходил к ней с жестяной трубкой в руках, делая вид, что туг на ухо. Камарера сразу пресекла её смех, предупредив, что это не подобает испанской королеве и что ей следует быть более серьёзной. Изумлённая Мария‑Луиза отвечала, что не сможет удержаться от смеха, если не уберут этого человека, и что не следовало его ей показывать, если не хотят, чтобы она смеялась.
Король, с безучастным видом слушавший этот разговор, сделал знак шуту удалиться.
V
Между тем официальное торжество по случаю королевской свадьбы всё откладывалось: казна была пуста. Одно время королевский совет решал, не следует ли для того, чтобы оплатить свадебные расходы, конфисковать купеческий галионы, прибывшие в Кадис. Наконец необходимые средства были найдены, и Карлос смог преподнести Марии‑Луизе в качестве свадебного подарка два зрелища: бой быков и аутодафе.
Празднества происходили на главной площади Мадрида, превосходившей по размеру любую из площадей европейских столиц. Её окружали сто тридцать шесть одинаковых пятиэтажных домов, расположенных на равном расстоянии один от другого. На каждом этаже имелся один балкон с жёлтыми перилами. На изгибах перил с обеих сторон балконов крепилось по одному факелу из белого воска. Их блеск изумлял иностранцев: при нём можно было даже ночью свободно читать самый маленький шрифт в любом месте площади.
Как только королевская карета подъехала к площади, все прочие экипажи были убраны. Король и королева должны были наблюдать корриду с балкона одного из домов. Обзор с лестницы, ведущей наверх, был тщательно закрыт, так что, поднимаясь по ней, увидеть огни было невозможно. Зато, когда Мария‑Луиза поднялась по ней в комнату, выходящую на площадь, она была ослеплена, а на балконе просто потеряла дар речи от неистового сияния, белым огнём заливавшего площадь.
Постепенно глаза её привыкли к свету, и она смогла осмотреться. Королевский балкон выдавался больше других балконов и был накрыт тронным балдахином. Напротив королева увидела балконы послов Франции, Польши, Савойи, Венеции и папского нунция (дипломаты Англии, Голландии, Швеции и других протестантских стран не имели доступа на этот праздник). Её внимание привлекло то, что только французское посольство было одето согласно моде своей страны – это была привилегия, дарованная Карлосом французам, как соотечественникам его супруги. Посланники других стран должны были носить испанский костюм. Гранды и их жёны занимали места по рангу на прочих балконах, украшенных коврами. Толпа народа заполняла всю площадь, кроме огороженной и посыпанной песком арены, зрители теснились в проёмах между домами и даже густо облепили крыши. Разносчики фруктов, конфет и лимонада едва протискивались со своими корзинами сквозь эту толпу, ежеминутно рискуя рассыпать или раздавить свой товар. Они стремились пристроиться к дворцовым лакеям, разносившим придворным дамам подарки от короля – перчатки, ленты, веера, благовонные шарики, чулки и подвязки, – перед королевскими посланниками толпа кое‑как расступалась.
Посреди неясного людского гула резко прозвучал сигнал горна, и в ответ ему взревели десятки труб, возвещая о начале поединков. Площадь восторженно загудела, приветствуя шестерых грандов, выезжающих на арену. Разноцветные султаны колыхались на их шлемах, а нагрудные латы были перевязаны шарфами дам, ради которых они намеревались сразиться с разъярённым зверем. Подняв пики, всадники невозмутимо пересекли площадь и остановились под королевским балконом, поклоном испрашивая у короля разрешения на поединок. Карлос едва заметно кивнул им.
Снова заиграли трубы, и бой начался. Он был великолепен, гранды «быкобойствовали», по выражению госпожи де Виллар, которая чуть не упала в обморок от этого зрелища. Выезжая по очереди на арену, дворяне гарцевали вокруг быка и дразнили его уколами пик. Доведённое до бешенства животное, опустив голову, металось по арене, стараясь достать рогами лошадь, выводимую из‑под удара опытной рукой наездника. В одном случае бык оказался проворнее: ему удалось пропороть брюхо лошади одного из грандов. Её дымящиеся внутренности вывалились на песок. Обезумев от боли, страха и воплей толпы, дико храпя и кося глазами, лошадь поволокла кишки за собой, то и дело наступая на них задними ногами. Бык повернул в её сторону морду, по которой уже бежали с рогов тёмные струйки крови, и в несколько прыжков снова оказался возле неё. Глубоко всадив рога в лошадиный пах, он могучим движением шеи высоко поднял лошадь вместе со всадником и бросил их через себя на землю. Сладострастный крик ужаса вырвался одновременно из многих тысяч грудей, – казалось, бык низверг бойца в ад. На помощь поверженному гранду бросились chub, копьеносцы, волоча по арене жёлтые, голубые, зелёные и красные куски ткани, чтобы отвлечь внимание быка. Некоторые, завернувшись в плащ, на одном колене ожидали его приближения. Бросив свою жертву, бык устремился на них. Несмотря на слепую ярость, заставлявшую его наносить удары только по прямой, ему удалось сбить с ног одного chulo. Тотчас же послышался отвратительный хруст – бык страшными ударами ног насквозь пробил грудную клетку человека. Новая победа чудовища была отмечена бешеным, протяжным воем зрителей. На арену высыпали banderilleros, вооружённые железными гарпунами. Они кружили вокруг быка, стараясь вонзить своё оружие между его плеч. Животное с налитыми кровью глазами, обессилев от боли и бешенства, дико ревело, взрывало копытами песок и трясло окровавленной шкурой.
За это время поверженный гранд успел выбраться из‑под коня. Приблизившись к балкону короля, он попросил у него разрешения убить быка. Марии‑Луизе показалось невероятным, что её супруг, в котором едва теплилась жизнь, может обречь смерти мощного, свирепого зверя. Однако Карлос снова едва заметно наклонил голову, и гранд, вынув меч, направился к быку. Животное почувствовало близость рокового удара: его взгляд стал пристальным, ноги дрожали, оно прерывисто дышало. Гранд сделал приветственный жест в сторону балкона, на котором находилась его дама, и ловко всадил меч по рукоятку в бычье плечо. Бык зашатался, поворачиваясь на месте, ноги его подогнулись, и он грузно, сонливо опустился на песок…
Зрители бесновались, на арену летели шляпы, ленты, сигары, монеты. Продавцы апельсинов с поразительной ловкостью бросали плоды на балконы. Трупы быка и лошади в мгновение ока были привязаны к мулам и увезены.
Бойня продолжалась до вечера. Последнего быка вывели для традиционной пантомимы с участием зрителей. Толпа, изображающая старых маркизов, одержимых подагрой, пьяных солдат, демонов, потрясающих вилами, обезьян, гоняющихся друг за другом, крестьян в бумажных чепцах и с пиками на ослах, окружила быка. Мальчишки, переодетые поварёнками и обмазанные сажей, кувыркались, женщины в фантастических головных уборах подбирали подолы и падали навзничь, демонстрируя непристойные места, остальные бегали, толкались, шумели под шипение и ослепительные вспышки самодельных ракет и треск мушкетов. Некоторые смельчаки с помощью жерди скакали через быка, когда тот устремлялся на них. Фейерверк на площади и в королевском дворце завершил праздник.
После боя Карлос осведомился у французской делегации, как им понравилось зрелище.
– Это празднество – ужасающее удовольствие, ваше величество, – смело заявила едва пришедшая в себя госпожа де Виллар. – Если бы я была королём Испании, оно бы не повторилось никогда.
– Сударыня, мы поставлены Богом, чтобы беречь обычаи нашей страны, а не для того, чтобы отменять их, – холодно произнёс король, сонно глядя на собеседницу из‑под полуприкрытых век.
Три месяца спустя состоялось торжественное аутодафе – неизменный огненный спектакль на свадьбах испанских королей.
Святейшая инквизиция простирала свои объятия язычнику и грешнику, но в одной руке она держала меч, а в другой – факел. В семивековой рукопашной схватке с исламом испанский католицизм вдохновлялся примером не Бога Голгофы, а Иисуса Навина, истреблявшего в Ханаанской земле не только идолопоклонников, но даже их скот. В XV веке, когда мавры сложили оружие, по всему полуострову зажглись костры инквизиции, чтобы неугасимо пылать в течение четырёхсот лет. Торквемада25 обратил Кастилию в море пламени. В течение восемнадцати лет десять тысяч осужденных были сожжены живыми, семь тысяч заочно, в изображениях. Статуи апостолов, воздвигнутые на площади Севильи, покрылись толстым слоем жирной сажи от сгоревших тел. Инквизиция считала себя правовернее Рима: она пренебрегала папскими советами и цензурой.
Сами короли трепетали перед этим подозрительным чудовищем. Филипп II повелел одному вице‑королю Нового Света подставить свою спину под бич инквизиции за то, что он ударил одного из её сочленов. При вступлении на престол он отдал в её руки своего учителя, архиепископа Толедского, со словами: «Если у меня самого в жилах будет кровь еретика, то я сам отдам свою кровь». Передают, что Филипп III искупил слово сострадания, которое вырвалось у него во время одного аутодафе, несколькими каплями крови, выпущенной из его руки ножом палача.
Впрочем, и самое зло может вырождаться. Ко времени Карлоса II крестоносцы преобразились в полицейских, костры зажигались и гасли в положенные сроки, никого не возбуждая и не устрашая: они стали частью церемониала.
Огромный эшафот, над которым возвышалась кафедра Великого инквизитора, епископа Барселонского, был воздвигнут на главной площади. В семь часов утра король, королева, гранды, посланники, придворные дамы, празднично разодетые, заняли места на тех же балконах, откуда они наблюдали бой быков. Через час процессия началась. Во главе её шло сто угольщиков, вооружённых пиками. За ними в плащах, расшитых чёрными крестами, следовало семьсот доминиканцев, несущих хоругви с изображением короля, королевы и папы – ими предводительствовал герцог Медина Цели, наследственный хоругвеносец инквизиции, с зелёным крестом церкви Святого Мартина. Вслед за доминиканцами тридцать человек несли картонные фигурки и две статуи осуждённых в изображениях, из которых одни представляли бежавших приговорённых, другие – умерших в тюрьме: мятежные останки этих счастливцев покоились в гробах, украшенных нарисованными языками пламени. Далее вели вереницей более ста живых преступников – каждого между двумя монахами. Первыми шли сорок покаявшихся, осуждённых с отречением от грехов – двоеженства, суеверий, лицемерия, лжи и т. д. На шее у них болтались верёвки с завязанными узелками по числу ударов плетей, которые они должны были получить, на головах возвышались коросы – картонные колпаки, расписанные шутовскими рисунками, – инквизиция высмеивала свои жертвы. За ними следовало пятьдесят приговорённых, одетых в санбенито – жёлтые мешки с прорезями для головы и рук, испещрённые андреевскими крестами и полукрестами. Это были евреи, осуждённые за тайное иудейство. Будучи взяты лишь в первый раз, они подвергались пока только бичеванию. Наконец появились двадцать евреев и евреек «осуждённых отпущенных», то есть обречённых на костёр. Их одежды и колпаки говорили об их участи: те, которые раскаянием заслужили милость быть задушенными до костра, были отмечены опрокинутыми языками пламени, пламя тех, кого должны были сжечь живыми, стояло прямо, и в нём извивались дьяволы и драконы. У двенадцати наиболее упорствующих в заблуждении рты были заткнуты кляпом и руки связаны.
Вся вереница осуждённых была связана одной верёвкой. «Этих несчастных протащили так близко от короля, – пишет госпожа д'Онуа, француженка, очевидица казни, – что он слышал их жалобы и стоны, потому что эшафот, на котором они стояли, касался его балкона. Монахи, некоторые искусные, другие невежественные, с яростью вступали с ними в споры, чтобы убедить их в истинах нашей веры. Среди осуждённых были евреи, весьма учёные в своей религии, которые с большим хладнокровием отвечали поразительные вещи».
Была отслужена заупокойная обедня. Во время чтения Евангелия Карлос II, с обнажённой головой, приблизился к кафедре, чтобы у колен Великого инквизитора принести присягу святейшей инквизиции. В полдень началось чтение решений и приговоров, прерываемое криками и мольбами осуждённых. Каждый смертный приговор заканчивался словами: «Мы должны отпустить и отпускаем такого‑то и отдаём его в руки светского правосудия, коррехидору26 сего города, или тому, кто исполняет его обязанности при названном трибунале, коих мы сердечно просим и молим милосердно обращаться с обвиняемым и не допустить пролития его крови». Между приговорёнными была семнадцатилетняя девушка редкой красоты – она отбивалась от державших ее монахов и, обращаясь к королеве, просила о помиловании.
– Великая королева, – кричала она, – неужели ваше королевское присутствие ничего не изменит в моей несчастной судьбе? Взгляните на мою юность и подумайте, что дело идёт о религии, которую я впитала с молоком матери.
Бедная девушка не думала, что обращается к той, чьё сердце было также поражено страхом. Мария‑Луиза отвратила от неё взор, выразив на лице сострадание, но не посмела сказать ни слова, чтобы спасти её. Стремясь как можно быстрее покинуть место казни, Мария‑Луиза обратилась к Карлосу с просьбой позволить ей удалиться по причине дурноты. Карлос передал её слова Великому инквизитору, который приказал королеве дослушать чтение приговоров. Госпожа де Виллар, проявившая не менее нетерпения, также получила отказ. «У меня не хватило мужества присутствовать при этой ужасной казни евреев, – пишет она о своих чувствах. – Это было отвратительное зрелище, судя по тому, что я слышала; но что касается чтения приговоров, присутствовать там необходимо, если только вы не имеете удостоверения от врачей о тяжкой болезни, так как в противном случае вы прослывёте еретиком. Нашли даже весьма нехорошим то, что я как бы слишком мало развлекалась всем происходящим…»
После чтения приговоров месса возобновилась: тогда королю и королеве было дозволено удалиться. Но двор и народ остались наблюдать за казнью. Вначале были удушены несколько «возвращённых» – тех, кто покаялся. Каждый раз, когда палач вталкивал внутрь язык жертвы, члены трибунала требовали его к ответу:
– Вы повинны в убийстве человека. Что вы можете сказать в свою защиту?
– Это был преступник, осуждённый законом. Я исполнял только веление правосудия, – отвечал палач.
Тела удушённых кидали в огонь. Затем наступила очередь живых. «Мужество, с которым приговорённые шли на казнь, действительно необычайно, – рассказывает госпожа д'Онуа. – Многие сами кидались в огонь, другие сжигали себе руки, потом ноги, держа их над огнём, сохраняя при этом такое спокойствие, что приходилось только жалеть, что души столь мужественные не были просвещены лучами веры».
А в толпе, глазеющей на костёр, всё так же протискивались разносчики конфет и лимонада, и продавцы апельсинов с той же ловкостью кидали свои плоды на балконы придворных дам.
VI
Неделя за неделей, месяц за месяцем одиночество Марии‑Луизы становилось всё безысходней. Рвались последние нити, связующие её с Францией, с прошлым. Почти все её женщины‑француженки были отосланы, с ней оставались только две: её кормилица и горничная. Но камарера‑махор сделала их жизнь настолько невыносимой, а король, проходя мимо, кидал на них такие мрачные взгляды, что они попросили свою госпожу отпустить их. Один Бог знает, чего стоило Марии‑Луизе выполнить эту просьбу, тем не менее она не стала удерживать их возле себя. Теперь её уединение стало полным. Только госпожа де Виллар и госпожа д'Онуа могли изредка её видеть. Страницы их писем, где рассказывается об этих визитах, совершаемых под наблюдением камареры, полны сцен, напоминающих посещения монастырской затворницы. Однажды госпожа де Виллар показала королеве письмо из Парижа, в котором говорилось «о ней и о её хорошеньких ножках, которые грациозно танцевали и так красиво ступали». Мария‑Луиза даже раскраснелась от удовольствия. «А затем она подумала о том, что её хорошенькие ножки не имеют занятий иных, как несколько раз обойти вокруг комнаты да каждый вечер в половине девятого отнести её в постель».
Скука заставляла её развлекать саму себя. «Она сочиняет оперы, она дивно играет на клавесине и довольно хорошо на гитаре; ей ничего не стоило научиться играть на арфе. Благочестивые книги доставляют ей не много утешения. Это и неудивительно в её летах. Я часто говорю, что хотела бы, чтобы она забеременела и имела ребёнка» (письмо госпожи де Виллар).
Сборники испанских стихов отпугивали её предисловиями авторов вроде: «Сим предупреждается, что слова: бог любви, богиня любви, божество, рай, поклоняться, блаженный и другие – должны пониматься только согласно поэтическому словоупотреблению, а не в каком‑нибудь ином смысле, который мог бы в чём бы то ни было оскорбить чистейшее учение пресвятой матери Церкви, которой я, как покорный сын, повинуюсь во всём, что она предписывает». Зато испанские романсы пришлись Марии‑Луизе но душе, и она часто пела свой любимый:
Милая смуглянка, не забудь,
когда сон смежает твои веки:
отдавать принуждены мы
снам половину жизни человека.
Как в песок вода, уходит жизнь,
столь неудержимо скоротечна, —
будь то в годы старости седой
или в годы юности беспечной.
И течение необратимо это,
но приходит поздно отрезвленье;
бесполезен суеты урок:
не прозренье даст он – сожаленье.
Молодость твоя и красота,
милый друг, товар всего лишь новый.
Ты – богач, но станешь бедняком:
время разоряет, безусловно.
Но несёт необъяснимую печаль сей товар,
снискавший в мире славу,
пеленою застит юный взор,
на запястье виснет кандалами.
И, тая немалую угрозу,
чёрную он зависть разжигает,