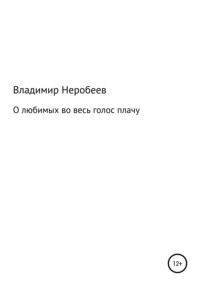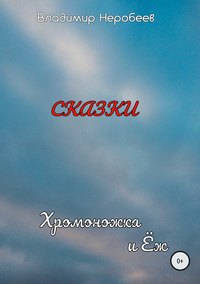Полная версия
Сам я родом из СССР. Воспоминания о себе любимом

Владимир Неробеев
Сам я родом из СССР. Воспоминания о себе любимом
«Отец родной».
Быть до конца честным не всегда получается. Поэтому, наверное, отвечая на вопрос военкома области, полковника Сухарева, я слукавил. Беда не ахти какая, но хотя бы здесь, на чистом листе бумаги надо быть откровенным. Сухорев спросил:
–У тебя же бессрочная бронь! Что же тебя так тянет под ремень?
Действительно, уже три года меня не брали в армию. Я был, не пойми кем: то ли баянистом, то ли певцом – солистом, балалаечником, гармонистом-частушечником в профессиональном хоре.
(Тогда, ой, как престижно было для каждого областного центра иметь народный хор). Наш хор любил и пестовал не кто иной, как первый секретарь обкома партии. Вот отсюда и бролнь!
Он редко пропускал репетиции: прямо с работы часов в шесть садился в зале в четвёртом ряду и не уходил до конца занятий. Нужды финансирования он тут же записывал в блокнот, да и другие вопросы содержания хора, не оставались без его внимания. Вот и призывы в армию держал под своим контролем. Короче, «родной отец» и этим всё сказано. Кстати, о «родном отце». Такой вот случай произошёл со мной. В выходной мы праздновали (чей – сейчас не упомню) день рождения. Естественно, назюзюкались до поросячьего визга, и вот в таком состоянии я пошёл на площадь, где были телефоны автоматы, звонить своей милашке. Время было позднее, далеко за полночь. Стою в будке, – а меня штормит, как в открытом океане, того гляди грохнусь на землю вместе с будкой. Я нисколечко не замечал своей качки, зато проезжавший на мотоцикле ночной патруль меня засёк. Они дождались, когда я закончу разговор и увезли меня в вытрезвитель. Дежурный разбудил женщину – врача, чтобы меня освидетельствовать. Та вышла, заспанная с распущенными волосами и возмутилась:
–Чего его освидетельствовать, он лыка не вяжет, еле на ногах стоит, – сказала недовольная женщина и вернулась в свою коморку. Дежурный стал составлять протокол задержания. Слегка замёрзший патруль тут же грелся чаем. Дежурный спросил меня:
–Как фамилия? – разрази меня гром, не знаю, по какой причине я назвал фамилию «родного отца». Дежурный офицер сначала позеленел, и у него задрожали губы, затем застучали зубы и он, глядя на ночной патруль, покрутил дрожащим пальцем у виска. («Родного отца» боялись не только менты, но об этом чуть позже).
–Доставить откуда привезли! – рявкнул офицер и, изорвав бланк протокола в клочья, кинул их в сержантов. Не говоря ни слова, ни полслова, на том же мотоцикле меня доставили к той же телефонной будке. Так вот о «родном отце».
Его все боялись, как огня, особенно чиновники. За что? Вот несколько случаев.
Он на работу всегда ходил пешком, и постоянно менял маршруты. Коммунальные службы «стояли на ушах», – вдруг, увидит какой непорядок! Как–то, зашёл в продуктовый магазин. Это сейчас с обёрточной бумагой всё оккей, а тогда она была на вес золота. Продавец не знала в лицо «родного отца», и на его просьбу взвесить килограмм муки, резанула прямиком: «Во что тебе сыпать, в шляпу?» «Родной отец» снял с себя шляпу и протянул продавцу. Та со словами: «Чудак человек» насыпала муки, он же, прикрывая ладошкой муку, чтобы ветер её не раздувал, пришёл к себе в кабинет, положил шляпу на стол и приказал секретарше немедленно вызвать начальника торга. Тот прибежал, запыхавшись, прямо в одежде, только снял фуражку и, держа её в руках, вошёл в кабинет «родного отца». Первый мило с ним поздоровался, закрывая собой шляпу с мукой, что лежала на столе, и произнёс дружелюбно:
–Слушай, говорят твоя жена здорово печёт пирожки с капустой, у меня вот прямо слюни ручьём текут. Попроси, пусть испечёт, – и ловко пересыпал муку из своей шляпы в фуражку начальника торга. Тот пулей умчался наводить порядок в магазинах. А вот другой случай.
Для Первого авторитетов не существовало. Как-то он заехал к проходным крупного завода, одних только рабочих насчитывалось около пяти тысяч. Директор завода был превосходным руководителем: восемнадцать лет к ряду его завод удерживал знамя социалистического соревнования среди себе подобных. Но, как говорится и на солнце есть пятна. Около проходных завода образовалась такая большущая лужа, и не было с ней никакого сладу: рабочие обходили её сторонкой, держась за забор, и чуть не падая в неё. Директор попадал на завод через задние ворота, от которых жил недалеко, а об этой луже ни слухом, ни духом не ведал. Так вот «родной отец» подъехал к проходным и остановился на своей черной «волге» прямо на середине лужи. Вахтёры тут же заметили его, мало того, узнали по номерам машины кто таков, открыли ворота и стали показывать руками, чтобы он проезжал на территорию. «Родной отец» приоткрыл дверку, представился и попросил вахтёров пригласить директора завода. Тот мухой прилетел и краешком лужи стал ходить в ботиночках, интересуясь, сломалась машина что ли. Мигом мастеров пришлю, мол.
–Да нет, не сломалась, – отвечал Первый, – у меня дело к тебе. Иди сюда, а то я на совещание опоздаю, – для понта глянул на часы. Вопрос к директору был пустяшным, что-то о футболе, но главное, он вынудил директора топать в ботиночках по луже, которую тут же, как только скрылась «волга» Первого, засыпали гравием и укатали асфальтом. Вот таким чудаком был «родной отец».
Принято говорить: «Бог любит троицу». Расскажу вам и третий случай из жизни «родного отца» Его нам поведал хормейстер Чулков «с глазу на глаз», то бишь по секрету на одной из репетиций. Дело было так. Первому позвонил сверху «свой человек» и сообщил: на него, на «родного отца» пришла анонимно «телега», где дотошно сообщалось о всех чудачествах первого секретаря. Тогда (сейчас не меньше прежнего) подковёрная борьба за власть шла на всех уровнях. (Народ-то про это не знал, да и когда знать: кто же тогда б, засучив рукава, строил коммунизм). Чиновники всех уровней втайне сколачивали вокруг себя группы, исходя из личных интересов, старались спихнуть, сковырнуть того или иного неугодного им лица. (Вот они, прародители сегодняшних бандитских стрелок и разборок). «Родной отец» стал неугодным лицом для второго секретаря, который метил в его кресло и начал копать под ним яму, да сам в неё и угодил. Известно, что во всякой борьбе или битве неожиданное действие одной из сторон, и напор, с каким происходит это действие, опрокидывает вверх тормашками все приготовленные уловки другой стороны. После звонка «своего человека», «родной отец» созвал укороченный внеочередной пленум обкома и провёл его как по нотам. Сам был режиссёром, для чего пригласил на заседание всех действующих лиц тех чудачеств, перечисленных в «телеге». Начался пленум кратким сообщением второго секретаря обкома о ходе уборки сахарной свёклы. Это заняло всего две, три минуты. Второй дольше собирался и выходил к трибуне. Да так и остался около неё. Первый, после краткого сообщения второго, попросил его не уходить от трибуны и стать третейским судьёй. «Родной отец» достал «телегу» и стал её зачитывать. На каждом чудачестве, указанном в тексте, он останавливался, поднимал с места действующее лицо, участвовавшее в оном чудачестве, и спрашивал: «Что, это действительно так было?» Ну, какой же дурак будет рубить сук, на котором сидит. Действующее лицо от неожиданности уподоблялось варёному раку, невразумительно пожимало плечами, сконфуженно разводило руками, не выронив ни слова, садилось. Только один директор завода, что измерял ботинками лужу, был прямолинеен:
–Да это бред сивой кобылы! Хотел бы я взглянуть в бесстыжие глаза автору этого пасквиля.
Всё произошло так неожиданно для Второго (подозрительно быстро вернулась «телега», хотя «свои люди» обещали передать её прямо в руки Генсеку), что он был ошеломлён, смят и сломлен. Бедняга пытался не подавать вида, но тонкая струйка меж его туфель, извиваясь, неумолимо наполнила довольно приличную лужу.
Вот такие были у нас «родные отцы». Когда я заявил в военкомате о своём желании идти служить в армию, полковник Сухорев доложил об этом «отцу». Тот был не в духе и послал военкома подальше, что в какой – то степени обрадовало его. Дело в том, что на действительную службу призывался сорок третий год. Мужиков – то не было в сорок третьем. От кого бабам рожать? Подчинённые Сухарева скребли по всем сусекам, инвалидов, подслеповатых. На плоскостопие иже с ним подобные изъяны, смотрели сквозь пальцы. Всех под гребёнку! А тут я здоровый бык (по словам того же военкома) среди бабских юбок буду жать на перламутровые клавиши. (Эти милые моему сердцу кнопочки, будут основным оружием на моей действительной службе). Но об этом плотом.
Я так и не сказал правду военкому Сухареву. Слукавил. Тому была причина. Вот она, правда. Я представил себе, что рано или поздно мне всё равно придётся идти в армию, и как я буду выглядеть в рядах бойцов. «Старик» (по армейским меркам) двадцати семи восьми лет среди желторотых двадцатилетних. Сдюжу ли трёх, пятикилометровые марш броски, изнурительную строевую подготовку. В свои двадцать три я ещё могу с любым потягаться. Вот в таком настроении я пришёл в хор и объявил о своих намерениях, пригласив на проводы всех желающих. Пришли все, вернее приехали на нашем автобусе около шестидесяти человек. Два дня гудели, а вернее сказать пели, ибо хоровиков мёдом не корми (а тем более водкой), но дай попеть. Многие тогда потеряли голоса, охрипли, и долго потом приходили в себя. Утром второго дня, я уехал на призывной пункт, остальные продолжали «провожать» меня.
Порою кажется, что ты сам себе хозяин и волен выбирать свой жизненный путь. Но это только кажется. В этом я вскоре убедился на личном примере. На призывном пункте меня определили служить в Саратове. Двадцать молодых людей в душном зале на нарах ждали отправки в Саратов. Я примкнул к ним двадцать первым. Тут в середине дня объявился «покупатель» (так звали тех, кто приезжал из частей на призывной пункт набирать новобранцев), крикливый старшина с планшетом на длинном ремешке. Он хромал на левую ногу, и планшет вынужден был громко хлопать его по бедру при каждом приседании. Этот «покупатель» открывал каждую дверь призывного пункта и начинал ругаться:
–Ну, что это такое!? Ни одного нормального не дали. Одни инвалиды. Что я с ними буду делать.
Кто-то на нарах шепнул, что этот старшина из соседнего областного центра. Вышедший из одного кабинета лысый мужчина в белом халате (очевидно начальник призывного пункта), протирая очки полой халата, сказал:
–Ну, вот они все на виду. Кого я тебе дам? – спросил он старшину и тут же обратился к нам. – Есть среди вас здоровые.
Меня ветром сдуло с нар. Какая – то невидимая сила руководила мной тогда. Долго я потом вспоминал, почему так получилось, и не мог найти вразумительного ответа.
–Здоровый как бык, – отчеканил я, вспомнив слова военкома.
–Забирай, – коротко буркнул мужчина в халате, – Не забудь документы на него переоформить.
Следующим утром я уже был в спортивном зале воинской части, где на матах сидели и лежали много таких же, как мы в ожидании своей участи. Сквозь широкие окна спортзала, обтянутые капроновой сеткой, хорошо было видно, как рота за ротой после марша по плацу, заруливала в полуподвал, где, как узнали мы позже, находилась столовая. Солдаты заходили, чуть ли не строем, а поев, выходили вразвалочку, засунув пилотку под ремень. Большинство шли в курилку. Несколько солдат зашли к нам в спортзал. Это своего рода «покупатели» от рот. Они спрашивали, нет ли среди нас спортсменов. Тут зашли солдат и сверхсрочник. Солдат спичкой ковырялся в зубах, сверхсрочник громко ему рассказывал:
–Звоню по телефону, а в трубке какой-то хрип и я ничего не понимаю. Кричу «алло, алло», а в трубке хрип. Потом, наконец, заговорила женщина, жена Чулкова, она танцовщица. Объяснила хрип в трубке. Оказывается, они два дня напролёт гудели, провожая в армию какого-то Z, – и сверхсрочник называл мою фамилию. Сердце у меня затрепетало, как заячий хвост. В чужом городе, в воинской части вдруг прозвучала фамилия нашего хорместера и моя собственная. Тут сверхсрочник обратился к новобранцам:
–Музыканты есть? – я поднялся с мата, пошёл им навстречу. Назвавшись, поинтересовался:
–Сильно охрип Петр Андреевич? Как же он будет теперь проводить репетиции.
Солдат и особенно сверхсрочник остолбенели. Оказывается, они были закадычными друзьями с хормейстером Чулковым.
–Да ты знаешь, – наконец выдавил из себя сверхсрочник, – я ему сейчас позвоню и скажу, что ты в моей части, он вообще потеряет дар речи.
Вот таким образом, судьба мне преподнесла ещё одного «отца родного». Теперь уже в армии. Не будь его, мне пришлось бы не сладко. Нам, поскрёбышам военкомата, предстояло пройти курс молодого бойца. Был конец ноября, а шестого или седьмого декабря принимать присягу. Неделю, как шахтёры в забое, упирались и ногами, и рогами, – нужно было навёрстывать упущенное. «Отца родного» до присяги я ни разу не видел. От «старичков» узнал, что это начальник клуба Слуцкий, а солдат срочник, что был с ним в спортзале, Бархатов – солист областной филармонии. Он появлялся в части только пообедать, иногда торчал на репетициях. Служба у него, скажу вам, разлюли малина, да и у меня, как я понял после присяги, хуже не будет.
Во время присяги я стоял на плацу в строю и увидел Слуцкого на проходной. Дальнейшее я воспринял как сон. Из проходного гуська, держа на руках концертные костюмы, на цыпочках, чтобы не мешать принятию присяги, через весь плац в спортзал прошли все участники нашего хора. Был памятный день: присяга закончилась большим концертом, в котором я, новоиспечённый солдат в армейской форме выступал с хором, и делал всё, что раньше делал в концертном костюме.
Командир части полковник Хрустов был в не себя от радости, крепко жал руку своему замполиту за хорошо организованный праздник, хотя точно знал, что это дело рук Слуцкого. Слуцкого он не любил потому, что тот искусно пародировал Хрустова, особенно его голос. Современные пародисты Галкин и Винокур отдыхают. Только штабные и ротные офицеры, бывало, соберутся на плацу в курилке передохнуть от тяжкой службы, потравить анекдоты, Слуцкий, спрятавшись за кустами можжевельника ка-ак рыкнет голосом комполка, те – в рассыпную, а Слуцкий выходил из укрытия, поправляя ремень с портупеей, хохотал от души. Кстати сказать, в части был ещё один пародист, которого комполка не очень-то жаловал. Случилось это на спорт площадке в выходной день. Играли в волейбол. Играл рядом с солдатами и комполка, но в спортивной одежде не был так приметен. «Болельщиков» на скамейках сидело много. Тут мимо проходил кинолог ефрейтор Овсепян со своим любимцем овчаркой Джульбарсом. (Они друг с другом никогда не расставались). Тут один солдат крикнул кинологу (Овсепяна звали Эдиком):
–Эду! Покажи класс.
Кинолог не приметил комполка на площадке и по простоте душевной приказал собаке:
–Как ругается старшина девятой роты!
Собака подняла морду к верху и гнусавым голосом часто, часто залаяла: «Гав,гав,гав,гав,гав…»
–А как ругается начальник штаба! – скорее приказал, чем попросил ефрейтор Овсепян.
Собака стала в позу, чистым голосом два раза гавкнула: «Гав, гав».
–А как ругается командир полка, – не унимался Овсепян. Спортивная площадка замерла. Овчарка набрала полно грудь воздуха и гаркнула только один раз, но так зычно, каким-то утробным голосом. Болельщики буквально взорвались, стали падать со скамеек от смеху. Все почему-то забыли про командира полка, который стоял тут же на площадке на подаче. Он бросил мяч, снял со взмокшей головы спортивную шапочку, вытирая ею пот с лица, пошёл на встречу кинологу. Вмиг спортплощадка стихла, да так, что слышно было как пищали комары. Полковник подошёл к ефрейтору Овсепяну, пожал ему руку и тихо, тихо (но слышали все) сказал:
–Десять суток гауптвахты. «Будет время ещё что – ни будь разучить с собачкой», – сказал комполка и удалился за пределы части.
Извините, я с этими пародистами сбился с дороги.
После присяги и концерта стали прощаться. Юля Гаврилова подошла к замполиту и попросила:
–Вы тут не обижайте нашего Воробышка (меня так ласкательно называли в хоре) Он у нас такой хороший, – девушка поднялась на цыпочках, дотянулась до моих губ и поцеловала.
–Да никогда в жизни, – вырвалось у подполковника машинально и довольно естественно. В искренности слов командира я убедился тут же, как только уехали мои друзья. Через плац, чеканя шаг, шёл сержант срочной службы Гозмавнюк, помощник командира нашего взвода. Его почему-то все звали просто Гавнюк. Наверное, настоящая фамилия сержанта замысловата и слишком длинно звучит. Подойдя к нам, он отдал, как положено, честь офицерам и обратился к замполиту:
–Товарищ подполковник, разрешите обратиться к рядовому Z, – и назвал мою фамилию. Офицер кивнул головой, мол, обращайся. Дальше голос сержанта звучал уже по – другому, – ясно слышалась командирская нотка. Он приказывал мне переодеться и заступить на дежурство в кочегарку.
–А в чём дело? – перебил сержанта замполит.
–Рядовой Z на днях проштрафился, и получил от меня взыскание: наряд вне очереди. Вот сегодня он должен…
–Постой, постой служивый, – остановил сержанта подполковник. – Ты был на концерте в спортзале? – спросил офицер.
–Так точно, товарищ подполковник.
–Тебе понравился концерт?
–Так точно, товарищ подполковник.
–А знаешь ли ты, сколько труда было вложено в этот концерт? Два часа к ряду рядовой Z крутился, как белка в колесе. За эти два часа он отработал пять нарядов вне очереди. Так что у него в запасе еще четыре наряда, – закончил подполковник. Но сержант был упрямым хохлом, хотя и малость сник от слов офицера, но больно хотелось ему показать перед начальством своё служебное рвение, потому и стал упрямиться, мол, некого послать в кочегарку. Сержант слукавил. Подполковник насквозь видел таких служак, сразу раскусил это лукавство, и ему в душу закралось мнение, что сержант «имеет зуб» на рядового Z. Это же – прямой путь к дедовщине, и замполит в корне пресёк его: сержант за что боролся, на то и напоролся:
–Некому в кочегарке службу нести? – переспросил замполит. – Сержант, проявите до конца своё служебное рвение. Немедленно отправляйтесь в кочегарку. Я сейчас заступаю дежурить по части, непременно наведаюсь туда и проверю.
Так (на время курса молодого бойца, конечно) началась не видимая миру война между мною и младшим комсоставом роты.
Война без поля брани.
Гавнюк затаил на меня злобу. Кто любит выслужиться, злобные людишки. И злопамятные. Сержант, пока шёл курс молодого бойца, не упускал ни единой возможности «щелкнуть меня по носу», и когда ему это удавалось, как ребёнок не скрывал своей радости. Его окружение (сержанты роты курса молодого бойца) то же испытывало массу удовольствий, и никто не удосужился спросить того же Гавнюка, мол, а за что ты над ним так издеваешься. Солдат как солдат. Опыта в службе нет, понятно. Отсюда и оплошности, как-то: расстёгнут воротничок гимнастёрки; не встал по стойке «Смирно!», когда мимо проходил тот же Гавнюк, а просто поднялся с табуретки. За всё это полагалось драить гальюн. А я и не спорю. Кому-то же надо его драить. Драить, значит, драить. Шёл и драил гальюн. Главное, чтобы не было в «одни ворота». Но Гавнюк не унимался. Я анализировал поведение сержанта. Он то ведь в часть попал после курса младшего комсостава. На тех курсах он бедный, очевидно, натерпелся, будь здоров! Там, скорее всего, «Гавнюки» были похлеще его, дай Бог терпения. Вот он и отыгрывался на мне. Кроме того, как подсказывает мой жизненный опыт, есть множество людей, которым очень и очень дурно, если другим хорошо. Моя служба была действительно хороша, чтобы ей завидовать.
Надо идти на политзанятия. (Может ли жить солдат без умных слов Никиты Сергеевича Хрущёва из доклада на очередном съезде партии). Тут звонок дневальному: Слуцкий требует рядового Z на репетицию новогоднего концерта.
Надо идти на строевую подготовку. Тут опять звонок дневальному роты: «Рядового Z с баяном ждёт машина у проходной, надо ехать в подшефный детский садик. Там то же предновогодние репетиции начались». Я, откровенно говоря, замотался с этими спецзаданиями. Уставший, приезжаю в часть, поднимаюсь в роту, а там уже Гавнюк, как кот возле мышиной норки, ждёт, поджидает. Видите ли, я кровать плохо заправил, плохие стрелочки навёл по бокам одеяла. Отдаю солдатам подарки от детей. (Печенье, конфеты, галеты, – без этого от них уехать просто было невозможно) и поступаю в распоряжение кота, то бишь, Гавнюка, что я говорю. Он в присутствии своих сторонников, потирая руки, начинает «выворачивать» меня на изнанку (его любимое выражение). Правда, при виде конфет и печенья изрядно глотают слюнки, но я им не даю, – не заслужили: сначала «вывернете», потом будем посмотреть.
Процедура «выворачивания» такова: Гавнюк сдёргивает с моей кровати одеяло и подушку, и заставляет меня вновь заправить постель. Как бы хорошо я не заправлял, он упрямо сдёргивал одеяло и заставлял вновь заправлять. Его свита от души гоготала, мстя мне за не выданные им сладости. Я заправляю отлично кровать, а результат тот же. В течение двух часов, пока длился у других солдат тихий час, меня тихо насиловали. Это могло продолжаться и на следующий день, следующий и следующий. Как-то мимо проходил командир нашего взвода лейтенант Васин. Он слышал гогот свиты сержанта и видел то действо, над чем они, собственно, смеялись, но не заострил своего внимания и вошёл к себе в кабинет. Через какое-то время прозвучал подъём, и солдаты пошли на плац и я с ними. На пороге меня окликнул комвзвода лейтенант Васин, попросил зайти к нему. Чтобы не нарушать канву сюжета, о Васине, о его трагедии я расскажу обязательно, но позже, и вам станет ясна картина нашего с ним разговора. . Вы не поверите, но я вновь повстречал очередного «родного отца». На следующий день в тихий час меня снова стали насиловать. Но теперь уже гогота свиты не было, ибо гоготать было не над чем. Как только Гавнюк сдёрнул одеяло с моей кровати, я прикинулся шлангом: стал ходить вокруг кровати, мурлыча себе под нос какую-то песенку, прищуривал глаза измеряя, ровно ли стоит кровать; стал поправлять пружины довольно криво закрученные, переворачивать матрац десять раз с боку на бок. Шло время, а гоготать не было причины. Я заправлял постель и на каком-то этапе сам сдёргивал одеяло и начинал по новой. Уже прошёл тихий час, идёт построение. Разве можно оставить постель не заправленной!? Гавнюк отталкивает меня от кровати, сам начинает быстро заправлять, но не успевает это сделать и получает от командира роты взбучку. Вот тут бы пригодился гогот соратников сержанта, но им было не до смеху. Гавнюку комроты пообещал гауптвахту. И это всё итоги урока, который мне преподал лейтенант Васин во время нашей беседы. А теперь о трагедии Васина.
Он был студентом четвёртого курса музыкального училища. Заканчивал вокальное отделение, уже шла практика, он стажировался в оперном театре. Ему прочили чудесное будущее. Он этого заслуживал. Великолепный тенор, легко справлялся с «фа-диезом» второй октавы. «Что тут такого?» – спросите вы. Да, были и есть тенора, которые берут «соль»,«ля» и выше, но «фа-диез» второй октавы даётся только счастливчикам, как говорится, это от Бога. Во время весенней распутицы студент Васин снял мальчугана со льдины, стоя по пояс в ледяной воде. Дальше была простуда, осложнения и в результате не стало того чудного голоса. Врачи ничем не помогли ему. А тут армия. После срочной закончил скороспелые курсы офицеров, и был прислан стать командиром нашего взвода. Вот такая вот оказия. Можно ли теперь утверждать, что мы сами себе выбираем жизненный путь.
До окончания курса молодого бойца еще далеко, и Гавнюку было время «разгуляться, расплясаться» надо мною, благо мне на помощь приходили то Слуцкий, то Васин.
Три раза в неделю мы всей ротой делали пятикилометровые марш броски на пойму реки, где на её берегу расположен армейский полигон. Один взвод занимался боевой подготовкой, по уши зарываясь в глубоком снегу. Другой – под навесом учился не промахиваться из пистолета ТТ, попадать в цель. Третий ещё что-то и т.д. Перерывы между занятиями длились пятнадцать – двадцать минут. А мне перерыва не полагалось: Гавнюк учил меня ползать по – пластунски, животом утюжа снег. Тут же Васин подзывал меня, приказывал на краю полигона поправить перекосившиеся флажки ограждения. Тихонько при этом советовал особо не торопиться, что бы этого занятия хватило до конца курса молодого бойца. А полигон-то большой. Я нехотя слонялся от флажка к флажку, пока труба не затрубит отбой занятиям. Гавнюк, бедняга, охрип на ветру, подгоняя меня быстрее выполнять приказ. Честно признаюсь, до конца курса я так и не исправил кривизну флажков, как ни старался. А потом Гавнюка не стало. Кроме меня, у него ещё был объект воспитания во втором отделении. Рядовой Струков. На нём сержант заметил грязный воротничок. Чтобы впредь такое не случалось с другими солдатами, Гавнюк придумал такой дидактический метод воспитания подчинённых: отпарывался старый воротничок у гимнастёрки и клался на стул у изголовья солдата. Среди ночи (надо же такое придумать) сержант поднимал всё отделение, клали воротничок на простыни и несли всё это в дальний угол двора, закапывать. Ритуал такой: закопаешь грязный воротничок, и он больше никогда не появится у солдата. И другим неповадно будет носить грязные воротнички. Земля была промёрзшая, пришлось её долбить. А долбил кто? Рядовой Струков. Лопата в один прекрасный момент соскользнула и ударила по сапогу, да насквозь и отрубила солдату мизинец на правой ноге. На следующий день Гавнюка разжаловали в рядовые и отправили на периферию. Нет, есть всё-таки на свете Бог. Когда он «выворачивал» меня на изнанку, то обещал добиться того, чтобы меня после окончания курса молодого бойца отправили на эту самую периферию. «Вместо кнопочек, – говорил он, а окружение ржало, – будешь на периферии лямку тянуть. Через день на ремень, через два на камбуз». Бог всё-таки не Микишка, видит на ком шишка.