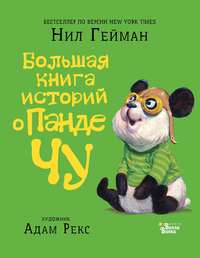Полная версия
Лучшие рассказы
– Вы, возможно, не поняли: у меня остался его альбом.
– Эта фигня со старыми вырезками?
– Да.
Пауза.
– Оставьте у себя. Это уже никому не нужно. Слушайте, мистер, мне надо бежать. – Щелчок, и в трубке тишина.
Когда я засовывал альбом в сумку, на выцветший переплет упала слеза, и только тогда я понял, что плачу.
Во дворе я остановился, прощаясь с Праведником Дундасом и Голливудом.
Три призрачных белых карпа дрейфовали, покачивая плавниками, сквозь свое вечное сегодня.
Я помнил их имена: Бастер, Призрак и Принцесса; но никто на свете уже не смог бы их различить.
У выхода из отеля меня ждала машина. До аэропорта было тридцать минут езды, ровно столько, сколько нужно, чтобы все забыть.
Цена
У бродяг и бездомных принято оставлять знаки на воротах и деревьях и дверях, благодаря которым такие, как они, могут понять, кто живет в домах и фермах, попадающихся им на пути. Мне представляется, что кошки тоже оставляют подобные знаки; иначе чем объяснить, что именно под нашими дверьми весь год напролет появляются голодные, блохастые, бездомные кошки?
Мы даем им приют. Избавляем от блох и клещей, кормим и отвозим к ветеринару. Платим за прививки и – что, конечно, возмутительно – кастрируем и стерилизуем.
И они остаются с нами: на несколько месяцев, на год или навсегда.
Чаще всего они появляются летом. Мы живем как раз на таком удалении от города, куда городские жители выбрасывают их, выживать.
Больше восьми кошек кряду у нас, кажется, не живет, и редко случается, чтобы их было меньше трех. В настоящий момент кошачье население моего дома состоит из: Гермионы и Поды, соответственно полосатой и черной, бешеных сестричек, которые живут наверху, в моем кабинете, и не общаются с другими; Снежинки, голубоглазой белой длинношерстой кошечки, которая много лет жила в лесу, прежде чем отказалась от своих диких повадок в пользу мягких диванов; и последней, но самой крупной – Фербол, длинношерстой черно-бело-оранжевой, похожей на подушку дочери Снежинки, которую крошечным котенком я обнаружил однажды в нашем гараже, придушенную и почти мертвую, так как ее голова запуталась в старой сетке для бадминтона, и которая, к нашему удивлению, не умерла, но выросла и превратилась в самую покладистую кошку, какую я когда-либо встречал.
И наконец еще Черный Кот. Другого имени у него нет, просто Черный Кот, а появился он почти месяц назад. Вначале мы не поняли, что он собирается остаться здесь жить: он выглядел слишком упитанным, чтобы быть беспризорным, слишком взрослым и бойким, чтобы считаться брошенным. Он был похож на маленькую пантеру, а в ночи казался огромным темным пятном.
Однажды я обнаружил его на нашей старой веранде: примерно восьми или девяти лет от роду, самец, с желто-зелеными глазами, очень дружелюбный и невозмутимый. Я решил, что он живет где-то по соседству.
На несколько недель я уехал, чтобы закончить работу над книгой, а когда вернулся, он все еще жил на веранде и спал в старой кошачьей корзинке, которую принесли ему дети. И при этом он изменился до неузнаваемости. У него было несколько залысин и глубокие царапины на шкурке. Кончик одного уха был оборван. Под глазом – глубокая рана и порвана губа. Он похудел и выглядел измученным.
Мы отвезли Черного Кота к врачу, где нам дали антибиотики, которые мы скармливали ему вместе с кошачьими консервами.
Нам было любопытно, с кем он сражался. С нашей прекрасной белой полудикой Снежинкой? С енотами? С клыкастым крысохвостым опоссумом?
После каждой ночи шрамов становилось все больше, и однажды у него оказался прокушен бок; в другой раз живот был располосован глубокими царапинами, которые при прикосновении кровоточили.
Когда дошло до такого, я отнес его в подвал, чтобы он мог оправиться у печи, среди груды коробок. Он оказался на удивление тяжелым, этот Черный Кот, и в подвал я отнес его в корзинке, вместе с лотком, едой и водой. Я плотно закрыл за собой дверь. А когда поднялся наверх, мне пришлось помыть руки, так как они были в крови.
Он оставался в подвале четыре дня. Вначале он был так слаб, что не мог даже есть: раненый глаз заплыл, когда ходил, он прихрамывал, и его шатало от слабости, а из рваной губы сочился желтый гной.
Я приходил к нему утром и вечером, кормил, давал антибиотики, которые смешивал с едой, обрабатывал гноящиеся раны и говорил с ним. В довершение ко всему у него был понос, и хоть я менял содержимое лотка ежедневно, от лотка ужасно воняло.
Четыре дня, которые Черный Кот провел у меня в подвале, были ужасными для моей семьи: крошечная дочка поскользнулась в ванне, ударилась головой и едва не утонула; я узнал, что от проекта, в который я вложил душу (переработка для Би-би-си романа Хоуп Миррлиз «Луд в тумане»[33]), компания отказалась, и у меня не было сил начинать с нуля, предлагая его другим каналам или другим СМИ; дочь, уехавшая в летний лагерь, стала забрасывать нас душераздирающими письмами и открытками, по пять-шесть на дню, умоляя забрать ее оттуда; сын чуть не подрался с лучшим другом, и они больше не общались; а жена, возвращаясь вечером домой, сбила оленя, который выбежал на дорогу прямо перед автомобилем. Олень погиб, машина была разбита, а у жены оказалась рассечена бровь.
На четвертый день кот, прихрамывая, бродил по подвалу, в нетерпении изучая стопки книг и комиксов, коробки с письмами и кассетами, картинами, и подарками, и прочим имуществом. Он принялся мяукать, чтобы я выпустил его, и хоть и неохотно, я это сделал.
Он вернулся на веранду, где проспал остаток дня.
На следующее утро у него на боках появились новые глубокие царапины, а пол веранды был усеян клочьями черной шерсти.
В письмах, которые пришли от дочери в тот день, говорилось, что в лагере не так уж плохо и она продержится там еще несколько дней; сын и его друг разрешили свои разногласия, и я так никогда и не узнал, что послужило причиной ссоры, коллекционные карты, компьютерные игры, «Звездные войны» или Девочка. Оказалось, что продюсер Би-би-си, наложивший вето на «Луда в тумане», брал взятки (или «сомнительные кредиты») у независимой кинокомпании, за что был отправлен в бессрочный отпуск, а его преемница, о чем я с радостью узнал из ее факса, как раз и предложила мою кандидатуру на этот проект, перед своим уходом из Би-би-си.
Я подумывал было вернуть Черного Кота обратно в подвал, но не стал этого не делать. Взамен я решил выяснить, что за животное каждую ночь приходит в наш дом, и разработать план его возможной поимки.
На дни рождения и Рождество моя семья дарила мне гаджеты и прочие дорогие игрушки, возбуждающие мое воображение, но в конечном счете редко покидающие свои коробки. У меня есть дегидратор, электрический разделочный нож и хлебопечка, а в прошлом году мне подарили бинокль ночного видения. На Рождество я зарядил в него батарейки и обошел с ним подвал – так как не мог дождаться сумерек, – выслеживая стаю воображаемых скворцов. (В бинокль не рекомендовалось смотреть при свете, чтобы не повредить его, а возможно, и глаза в придачу.) После я убрал его в коробку, и он так и лежал теперь в моем кабинете, среди компьютерных проводов и ненужных вещей.
Возможно, подумал я, если это животное, собака или кошка, или енот, или кто-там-еще, увидит меня на веранде, оно и не явится, а потому я поставил себе стул в кладовке величиной чуть больше туалета, из которой была видна веранда, и когда все в доме уснули, зашел на веранду пожелать Черному Коту доброй ночи.
Этот кот, сказала моя жена, когда он появился у нас впервые, – почти человек. В самом деле, его огромная львиная мордочка очень смахивала на лицо: широкий черный нос, желто-зеленые глаза, клыкастый, но дружелюбный рот (со все еще гноящейся раной на нижней губе).
Я погладил его по голове, почесал под подбородком и пожелал удачи. После чего ушел в свою кладовку, погасив на веранде свет.
Там я сидел в темноте с биноклем ночного видения в руке. Я включил бинокль, и его окуляры излучали зеленоватый свет.
Время шло, было темно.
Я развлекался тем, что смотрел в бинокль, учась наводить фокус, видеть мир зеленых теней. И ужаснулся, увидев, сколько насекомых роится в ночном воздухе: ночной мир напоминал кошмарный суп, в котором кишмя кишит жизнь. Тогда, немного опустив бинокль, я стал смотреть в черно-синюю ночь, пустую, мирную и спокойную.
Время шло. Я старался не заснуть, тяжко страдая от отсутствия сигарет и кофе, насильно избавленный от этих вредных привычек, которые наверняка помогли бы не сомкнуть глаз. Но не успел я слишком погрузиться в мир грез и снов, как в саду раздался вой, который сразу стряхнул с меня оцепенение. Схватив бинокль, я поднес его к глазам и увидел всего-навсего Снежинку, белую кошку, пронесшуюся по палисаднику пятном зеленовато-белого света. Она пропала среди деревьев слева от дома. Я был разочарован.
И собирался вновь принять расслабленную позу, но мне пришло в голову поинтересоваться, что же так напугало Снежинку, и я принялся внимательно осматривать окрестности, выискивая огромного енота, собаку или злобного опоссума. И вдруг увидел, как по подъездной дорожке к дому движется нечто. В бинокль я видел все так ясно, словно днем.
Это был дьявол.
Я никогда прежде не видел дьявола, и хотя когда-то писал о нем, если бы меня приперли к стенке, я признался бы, что не верю в его существование; он был для меня воображаемой фигурой, по-мильтоновки трагической. Однако то, что теперь двигалось по дорожке к дому, не было мильтоновским Люцифером[34]. Это был дьявол.
Сердце так забилось в груди, что мне стало больно. Я надеялся, что он меня не видит, что, сидя в доме и глядя в окно, я надежно спрятан.
А приближавшаяся фигура мерцала и менялась. Одно мгновение она была темной, похожей на Минотавра[35], в следующее – изящной и женственной; потом превращалась в кота, огромного, покрытого шрамами серо-зеленого дикого кота с перекошенной от ненависти мордой.
На мою веранду ведут ступени, четыре некрашенных деревянных ступени (я знал, что они белые, хотя в бинокле они были серыми, как и все остальное). На нижней ступени дьявол остановился и что-то крикнул, я не разобрал, три-четыре слова на скулящем, воющем языке, архаичном и позабытом, должно быть, еще в древнем Вавилоне; и хотя не понял ни слова, я почувствовал, как, когда он их произносил, у меня на затылке волосы встали дыбом.
И тут я услышал приглушенное стеклом низкое рычание: это был вызов, и, медленно и нетвердо ступая, стала спускаться навстречу дьяволу черная фигура. Это был Черный Кот, который уже не напоминал пантеру и шатался и спотыкался при ходьбе, как только что сошедший на берег моряк.
Тем временем дьявол превратился в женщину. Она сказала коту что-то нежное и успокаивающее, на языке, похожем на французский, и протянула к нему руку. Он впился в руку зубами, и тогда ее губы искривились, и она в него плюнула.
Тут женщина взглянула на меня, и если у меня еще оставались в том сомнения, теперь я точно знал, что это дьявол: в глазах ее горел красный огонь, хотя в бинокль это и не видно – только оттенки зеленого. Дьявол видел меня в окно. Он меня видел. Я в том нисколько не сомневаюсь.
Дьявол, корчась и извиваясь, превратился в нечто вроде шакала, в существо с плоской мордой, огромной головой и бычьей шеей, полугиену-полудинго. В его шелудивой шкуре копошились черви, но он продолжал подниматься по ступеням.
Черный Кот прыгнул, и, извиваясь, они принялись кататься по земле так быстро, что я не успевал ничего разглядеть.
И при этом не издавали ни звука.
Вдали, на проселочной дороге, куда выходит наш подъездной путь, загромыхал припозднившийся грузовик, через бинокль его горящие фары сияли, как зеленые солнца. Я убрал бинокль и увидел в темноте слабый желтый свет фар, а затем красный – задних фонарей, а потом и они пропали.
Когда я снова поднес к глазам бинокль, смотреть было уже не на что. Только на ступенях сидел Черный Кот и смотрел в темноту. Я поднял бинокль выше и увидел нечто, возможно, стервятника, улетавшего прочь.
Я пошел на веранду, поднял Черного Кота и погладил его, и сказал ему много добрых и ласковых слов. Он жалобно мяукнул, когда я подошел, но очень скоро уснул у меня на руках, и я положил его в корзинку, а сам пошел наверх, спать. А наутро обнаружил на футболке и джинсах капельки засохшей крови.
Это было неделю назад.
Но такое случается не каждую ночь, хотя и довольно часто: мы знаем об этом по ранам кота и по боли, которую я читаю в его львиных глазах. У него уже не сгибается левая передняя лапа и ослеп правый глаз.
Не могу понять, чем мы заслужили появление у нас Черного Кота. И кто его послал. И еще, как ни трусливо и эгоистично это звучит, мне хотелось бы знать, надолго ли его еще хватит.
Шогготское [36] особой выдержки
Бенджамин Ласситер пришел к неизбежному заключению, что женщина, написавшая «Пешеходную экскурсию по побережью Британии», книгу, которую он носил в своем рюкзаке, никогда в жизни вообще не была на пешей прогулке и, скорее всего, не узнала бы британское побережье, если бы даже оно протанцевало через ее спальню во главе джаз-банда, громко и радостно напевая «Я и есть побережье Британии» и аккомпанируя себе на казу[37].
В течение пяти дней он следовал ее рекомендациям и в награду имел лишь волдыри на ногах и боль в пояснице. На британских морских курортах множество пансионов, предоставляющих ночлег и завтрак, где будут чрезвычайно рады принять вас в межсезонье, говорилось в книге. Бен зачеркнул эту фразу и на полях написал: На британских морских курортах существует жалкая кучка пансионов с ночлегом и завтраком, владельцы которых в последний день сентября улетают в Испанию, Прованс или куда-то еще, крепко заперев за собой дверь.
Подобных заметок на полях он оставил множество: Ни при каких обстоятельствах не заказывайте, как это сделал я, яичницу в придорожном кафе, – или: Что это за блюдо, рыба с жареной картошкой? – или: Нет, вовсе нет. Последняя была сделана напротив абзаца, в котором утверждалось, что если и есть на свете что-то, что могло бы чрезвычайно обрадовать обитателей живописных деревень на британском побережье, так это путешествующий пешком турист-американец.
Пять адских дней Бен шел от деревни к деревне, угощаясь сладким чаем и растворимым кофе в кафе и закусочных и пялясь на бесконечность серых скал и свинцового моря; он дрожал от холода в двух толстых свитерах, мок под дождем, но так и не сподобился увидеть обещанные достопримечательности.
Найдя себе укрытие на автобусной остановке, где ему однажды даже пришлось переночевать, он принялся искать перевод для ключевых слов путеводителя: он решил, что прелестный означает не поддающийся описанию; живописный означает неприглядный, но смотрится неплохо, если дождь наконец перестал; а восхитительный, возможно, означает: мы никогда здесь не были и не знаем никого из тех, кто был. Он также пришел к заключению, что чем экзотичнее название деревни, тем более она уныла на вид.
Вот и получилось, что на пятый день Бен Ласситер очутился где-то севернее Бутла, в городке Иннсмут, который в путеводителе не был назван ни прелестным, ни живописным, ни восхитительным. В книге не содержалось также описание ни ржавого пирса, ни гниющих на галечном пляже корзин для ловли лобстеров.
На берегу было три заведения, одно возле другого: «Вид на море», «Мон репо» и «Шуб-Ниггурат»[38], и в окне у каждого висела выключенная неоновая вывеска «СДАЮТСЯ КОМНАТЫ», а на двери – табличка «ЗАКРЫТО ДО НАЧАЛА СЕЗОНА».
Открытых кафе здесь не было. На двери единственной забегаловки, торгующей рыбой с жареной картошкой, тоже значилось «ЗАКРЫТО». А пока Бен ждал, когда она откроется, серый день поблек и сменился сумерками. Наконец на дороге появилась маленькая, лицом немного похожая на лягушку женщина, которая отперла дверь. Бен спросил, когда будет открыто для посетителей, она посмотрела на него в замешательстве и сказала:
– Сегодня понедельник, уважаемый. Мы никогда по понедельникам не работаем, – после чего вошла в лавку и заперла за собой дверь, оставив продрогшего и голодного Бена на пороге.
Бен вырос в маленьком городке засушливого Техаса: единственным доступным жителям видом водоемов был бассейн на заднем дворе, а путешествовать можно было лишь в пикапе с кондиционером. Потому у него и возникла идея пешком пройти вдоль берега моря в стране, где говорят практически по-английски. В городе Бена сушь была двойной: здесь гордились тем, что ввели запрет на алкоголь за тридцать лет до того, как остальную часть Америки шарахнуло сухим законом, и потом так его и не отменили; а потому Бен знал о пабах только то, что это рассадники греха, как и бары, только с более приятным названием. Однако автор «Пешеходной экскурсии» утверждала, что, зайдя в паб, там можно обнаружить местный колорит и узнать полезную информацию, что в пабе следует непременно «пропустить стаканчик» и что в некоторых даже подают еду.
Этот паб назывался «Книгой Мертвых Имен», а табличка на дверях известила Бена, что его владельцем является некий А. Аль-Хазред[39], обладающий лицензией продавать вина и крепкие напитки. Бену стало интересно, не означает ли это, что здесь подают индийскую еду, которую он не без удовольствия отведал по прибытии в Бутл. Он задержался у указателей, решая, что выбрать: «Публичный бар» или «Салун», и спрашивая себя, что означает здесь слово «публичный» и не являются ли английские публичные бары такими же частными, как и публичные школы, но в конце концов, поскольку название напоминало вестерн, направился в «Салун».
Там было почти пусто и пахло прокисшим пивом и позавчерашним табачным дымом. За стойкой стояла пухлая женщина с бесцветными волосами, а в дальнем углу восседали два джентльмена в долгополых серых плащах и шарфах. Они играли в домино и потягивали из граненых стеклянных кружек темно-коричневый, с обильной пеной напиток.
Бен подошел к барной стойке.
– У вас можно заказать поесть?
Барменша какое-то время чесала нос, затем нехотя ответила, что, наверное, могла бы приготовить ему по-крестьянски.
Бен понятия не имел, что это значит, и в который раз пожалел, что «Путеводитель» не снабжен англо-американским разговорником.
– А это еда? – спросил он. Она кивнула. – Хорошо. Приготовьте одну порцию.
– А выпить?
– «Коку», пожалуйста.
– У нас не бывает «Коки».
– Тогда «Пепси».
– И «Пепси».
– А что у вас есть? «Спрайт»? «Севен-ап»? «Гаторейд»?
От его вопросов она словно еще поглупела, но наконец произнесла:
– Кажется, у нас осталась пара бутылок вишневого крюшона в подсобке.
– Вот и хорошо.
– С вас пять фунтов двадцать пенсов. По-крестьянски я принесу, когда будет готово.
Усевшись за маленький и немного липкий деревянный столик и потягивая нечто шипучее, с виду и на вкус совершенно химическое, Бен решил, что по-крестьянски – это, вероятно, нечто вроде стейка. Он пришел к этому ни на чем не основанному заключению, приняв желаемое за действительное и представив себе грубого или, положим, буколического крестьянина, на закате ведущего тучных быков по свежевспаханному полю; в тот момент он хладнокровно и лишь при незначительной посторонней помощи мог бы съесть целого быка.
– Вот, пожалуйста. По-крестьянски, – сказала барменша, ставя перед ним тарелку.
Оказалось, что «по-крестьянски» – это прямоугольный кусок острого сыра, лист салата, карликовый помидор со следом большого пальца на кожице, горка чего-то влажного и коричневого, на вкус похожего на кислый джем, и маленькая черствая булочка, – и это разочаровало и опечалило Бена, который решил, что британцы относятся к еде как к своего рода наказанию. Он жевал сыр с листом салата, проклиная всех крестьян Англии за то, что они предпочитают обедать такими помоями.
Джентльмены в серых плащах, что сидели в дальнем углу, закончили играть в домино, подхватили свои кружки и подсели к Бену.
– Чего это вы пьете? – с любопытством спросил один.
– Говорят, вишневый крюшон, – ответил он. – Судя по вкусу, его на химзаводе приготовили.
– Интересно вы говорите, – сказал тот, что пониже. – Интересно вы говорите. У меня вон друг работал на химзаводе, но он никогда не пил вишневый крюшон.
Он сделал драматическую паузу и отхлебнул из кружки. Бен подождал, будет ли продолжение, но тот, кажется, выговорился; беседа замерла.
Стараясь произвести хорошее впечатление, Бен, в свою очередь, спросил:
– А вы, парни, что пьете?
Более высокий, сидевший до этого с мрачным видом, повеселел:
– Что ж, это чрезвычайно любезно с вашей стороны. Мне пинту шоггота особой выдержки.
– И мне тоже, – сказал его друг. – Я не прочь прикончить шоггота. Ха, держу пари, получился неплохой рекламный слоган! «Я не прочь прикончить шоггота». Стоит им предложить. Держу пари, они ужасно обрадуются моему предложению.
Бен пошел к барменше, собираясь заказать две пинты шоггота особой выдержки и стакан воды для себя, но обнаружил, что она уже налила три пинты темного пива. Что ж, подумал он, придется выпить за компанию, тем более что хуже, чем вишневый крюшон, ничего просто быть не может. Он сделал маленький глоток. У пива был привкус, благодаря которому, как он полагал, рекламщики охарактеризовали бы напиток как «полнотелый», но если припереть их к стенке, им пришлось бы признать, что означенное тело принадлежит козлу.
Он расплатился и стал лавировать между столиков обратно, к своим новым друзьям.
– Итак, как вы здесь очутились? – спросил тот, что повыше. – Полагаю, вы – один из наших американских братьев – хотите посмотреть самые знаменитые английские городки?
– Кстати, в Америке тоже есть город с таким названием, – сказал тот, что поменьше.
– В Штатах есть Иннсмут? – удивился Бен.
– Должен сказать, что да, – сказал тот, что поменьше. – Он все время об этом писал, тот человек, чье имя мы не упоминаем.
– Простите? – удивился Бен.
Маленький посмотрел через плечо и очень громко прошипел:
– Гэ Фэ Лавкрафт!
– Я же просил не называть его! – сказал второй и сделал глоток темного пива. – Гэ Фэ Лавкрафт. Гэ Фэ блин Лавкрафт. Гэ блин Фэ блин Лав блин Крафт. – Он замолчал, чтобы набрать побольше воздуха. – Что он там знал? А? Я хочу сказать, что он, блин, знал?
Бен отпил немного пива. Имя было смутно знакомым; он вспомнил, что оно ему как будто попадалось в груде старинных виниловых пластинок в дальнем углу отцовского гаража.
– Это случайно не рок-группа?
– Я не про рок-группу говорил. Я имел в виду писателя.
Бен пожал плечами.
– Никогда о таком не слышал, – признался он. – Я вообще-то читал одни вестерны. И технические справочники.
Маленький пихнул локтем соседа.
– Ну вот, Уилф. Слыхал? Его никто не знает.
– Ладно. Ничего страшного. Что до меня, то я читал этого, Зейна Грея[40], – сказал высокий.
– Да. Ну. Было бы чем гордиться. Этот малый, как, бишь, тебя зовут?
– Бен. Бен Ласситер. А вас?..
Маленький улыбнулся; он ужасно похож на лягушку, подумал Бен.
– Я Сет, – сказал маленький. – А моего друга зовут Уилф.
– Очень приятно, – сказал Уилф.
– Привет, – сказал Бен.
– По правде говоря, – сказал маленький, – я с тобой согласен.
– Согласен? – не понял Бен.
Маленький кивнул.
– Ну. Насчет Гэ Фэ Лавкрафта. Вообще не понимаю, к чему весь этот шум. Он и писать-то, блин, не умел. – Маленький отхлебнул портера и слизнул с губ пену длинным гибким языком. – Взять хотя бы слова, которые он употреблял. Жуткой. Ты хоть знаешь, что это означает?
Бен покачал головой. Ему казалось странным, что он говорит о литературе с двумя незнакомцами в английском пабе. Он даже на мгновение предположил, что стал кем-то еще, пока не смотрел. Чем ниже опускалась риска в его кружке, тем менее противным становилось пиво, а липкое послевкусие вишневого крюшона почти пропало.
– Жуткой — значит изнурительный. Мучительный. Чертовски странный. Вот что это значит. Я смотрел. В словаре. А вот это, другое слово, выпуклогорбый?
Бен снова покачал головой.
– И не говори, а всего-то фаза луны, между второй четвертью и полнолунием. А нас он как всегда называл, а? Блин. Этсамое. На букву «б». На языке вертится…
– Выблядки? – предположил Уилф.
– Неа. Блин. Как его. Пучеглазые. Вот. То есть похожие на лягушек.
– Да брось! – сказал Уилф. – Я думал, это про верблюдов.
Сет энергично покачал головой:
– Лягушки. Опрдленно. Не верблюды. Лягушки.
Уилф отхлебнул шогготского. Бен пригубил, осторожно и без всякого удовольствия.
– Ну и? – спросил Бен.
– У них два горба, – встрял Уилф.
– У лягушек? – удивился Бен.