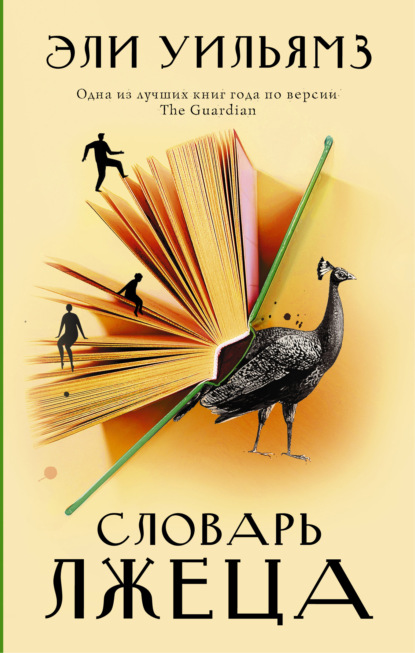Полная версия
Жажда
Чтобы попасть в мою спальню, нужно из ванной пройти в кухню, и уже из кухни в комнату, поэтому получается что-то вроде обзорной экскурсии, но он так добр, что даже не задает вопросов о тарелке с разваренными макаронами, которую моя соседка оставила на бачке унитаза. Когда я запираю дверь в спальню, он выглядит так, как будто находит происходящее весьма авантюрным, хотя в какой-то момент у него на лице и мелькает легкое беспокойство. Я вижу, как он пытается переосмыслить свое мнение обо мне, примирить представление о том, что я уже взрослая, живу на шестом этаже в здании без лифта, в которой помещается разве что раскладной диван и постер с рэпером MF Doom. Он осторожно присаживается на диван, словно боится, что тот не выдержит такого веса, а я стою у двери и вижу, как на него наконец обрушивается осознание нашего неравенства. И хотя я никогда не захожу в комнату, не подстраиваясь под окружение, странно наблюдать за тем, как нечто подобное происходит с этим дружелюбным белым мужчиной со Среднего Запада. Странно видеть, как он вдруг замечает в себе то, что я вижу в нем всегда – оптимизм, самонадеянность, эту уверенность, что нет такого места, где бы он не чувствовал себя своим. Он оглядывается вокруг с нежным ужасом в глазах, как будто до него только сейчас доходит – после ознакомления с экономической реальностью – каким взаимным отчаянием должно быть продиктовано стремление к сближению двух людей, находящихся на противоположных концах жизни. А потом он замечает краски и чистый холст, и я подбегаю, чтобы закрыть дверь туалета, – но уже поздно. Он хочет знать, почему я никогда не упоминала, что рисую, и хороший ли я художник. И, не знаю, из-за того ли, что весь вечер был сплошным унижением, или еще из-за чего, но я отвечаю, что да, довольно неплохой я художник, и это еще одна ошибка, потому как, разумеется, он хочет, чтобы я написала его портрет. Так что я достаю из-под кровати бутылку «Столичной» и наливаю водку в единственную чистую кружку, которая у меня есть; мы пьем из нее по очереди, плавясь от жары и наполовину раздевшись, забыв к этому моменту о дистанции между нами; модель из него выходит не очень: он сутулится и постоянно меняет положение головы, но когда он откидывается назад, полуголый, с этими своими длинными руками, едва заметными веснушками и завитками седых волос на груди, я вспоминаю о существовании тела и у себя и замечаю, как резко стало не хватать воздуха в комнате, как он смотрит на меня, пока я вожусь с палитрой, как будто воспринимает меня всерьез. И хотя я ценю его отношение, мне становится тошно. Его красота дробится на полутона между складками кожи – сиреневый, голубой, возможно, немного титановых белил. Он бормочет, что ему жаль, что он меня толкнул, от водки у него тяжелеет язык, и я спрашиваю, насколько сильно он сожалеет, и он говорит, что очень, и тогда я советую ему молить меня о прощении, и он неплохо справляется; пока я делаю ему минет, комната наконец-то погружается в тишину, извинения Эрик почти шепчет прерывающимся голосом, и, судя по тому, как он аккуратно убирает мне волосы от лица, он действительно имеет в виду то, что говорит, и потом, оттирая акрил с его бедер, я замечаю, что вообще-то буду не против, если он толкнет меня снова. Он думает, что я шучу, и когда понимает, что нет, его лицо мрачнеет и он говорит, что ему такое не нравится. Это был его первый и последний визит в мою квартиру. Когда несколько дней спустя мы идем в ресторан, я вижу: он отдает себе отчет в том, что кормит меня, так же, как я отдаю себе отчет в том, что ничего не знаю об огромной части его жизни, той, что с домом в Джерси, почтовым ящиком и гостевыми полотенцами – я могу все это только воображать, так как согласно одному из правил я не допущена в его дом.
А потом все время что-то мешает. Кто-то из нас заболевает, у меня не хватает сил на то, чтобы проверить почту или помыть голову, у него рабочая поездка или ужин с Ребеккой, и к тому моменту, когда мы встречаемся вновь, мы уже забываем, как оно чувствовалось, когда мы вместе. Отношения между нами неуклонно деградируют, воспоминания накрывает пеленой расстояния. А потом вечером в четверг, на пятьдесят второй день мучительно-целомудренных ухаживаний, он звонит мне и велит встретиться с ним в одном клубе в Сохо и надеть что-нибудь покороче. Я делаю так, как он говорит, несмотря на то, что надежда на секс во мне давно умерла, потому что, может статься, он единственный мой друг. Так что я съедаю половину шоколадного торта и приезжаю в клуб в шортах и кроссовках, настолько готовая трахаться, что когда кто-то задевает меня в вагоне метро, я издаю страшный непроизвольный стон. Эрик появляется сквозь пелену дыма и втягивает меня внутрь своей большой липкой рукой.
Клуб оформлен в стиле походного лагеря времен 70-х. Он подводит меня к яме в центре зала, держа за кончики пальцев; в воздухе висит запах пота, тянутся шлейфы искусственного тумана, совместными усилиями стробоскопа и дым-машины возникают мягкие очертания оранжевых ножей, и я чихаю в сгиб локтя и замечаю пса, который сидит в углу и жует чей-то шелковый тапочек, и это зрелище меня обескураживает, как всегда бывает, когда я вижу животных в местах, где они явно не хотят находиться. Парад синтетических тканей движется в унисон в серебристых лучах прожектора как косяк сельди, баннер с надписью «Лихорадка!» отрывается с потолка, и до меня доходит, что это одно из тех мест, где устраиваются тематические вечеринки (к тому же в объявлении у двери сказано, что через несколько недель будут девяностые). А пока вполне правдоподобная голограмма Чаки Хан теснит со сцены Глорию Гейнор с упругими кудряшками, и Чака что-то мурлычет в своих знаменитых трусиках с бахромой, выгибая смуглые бедра у кромки сцены и заводя толпу – почему-то под песню «That’s the Way» группы KC and the Sunshine Band, отчего происходящее кажется слегка неправдоподобным. Ночи как эта всегда кажутся такими: на мгновение свет перестает мигать, в глаза бросаются банки пива и блестки на полу, мертвое завернуто в новую упаковку и названо ностальгией, а путешествие во времени отравлено иронией.
Я смотрю по сторонам: почти все танцуют, но танцуют с таким видом, словно усмехаются самим себе, словно это такая шутка, мол, смотрите, как я жалок, смотрите, куда меня занесло, хорошо, что ненадолго. Красота музыки становится невыносимой, так что мы с Эриком решаем укрыться в туалете, чтобы немного дунуть; в кабинке рядом кто-то сидит и плачет. Потом мы выходим в самую гущу, и Эрик, конечно, очень ловкий белый мужчина, но при виде хип-хоп движений вынужден отступить, что совершенно нормально, – и вот мы уже в его машине, кондер работает на всю мощность, а мы мчим через туннель Холланда, он протягивает мне телефон и просит скинуть звонок от своей жены, отчего я чувствую себя ужасно, – не из-за симпатии к Ребекке, а потому, что эта ночь, похоже, стала следствием какой-то серьезной семейной драмы, хотя, разумеется, сбрасываю звонок я с тем же удовольствием, с каким слушаю стрекот цикад в воздухе, когда мы подъезжаем к его дому; у него действительно есть почтовый ящик с нарисованным флагом и фамилией «Уокер», выведенной сбоку яркой желтой краской, мы взбегаем по лестнице наверх, и в спальне все рамки с фотографиями лежат лицом вниз, и я на мгновение замираю, осознав, насколько спланирован этот порыв страсти, но в итоге только еще быстрее избавляюсь от одежды, потому что он должен был быть уверенным в том, что я соглашусь, должен был поверить, что сможет добиться от меня не просто согласия, а готовности поехать аж в Джерси, и сама мысль о том, что он все это понимает, его полный контроль над ситуацией – вот что меня возбуждает.
Нет никаких прелюдий. Я, все еще в носках, пытаюсь прочитать в рисунке на обоях, что такого в их браке привело нас к этой ночи, а Эрик стягивает с себя футболку с надписью «Диско – отстой», тянет меня к себе на колени и извиняется за то, что еще не готов, потому что тринадцать лет он спал с одной женщиной, тринадцать лет, и все правила поменялись. Я помогаю ему избавиться от брюк, но ботинки все еще на нем, ботинки со шнурками, и какое-то мгновение мы раздумываем, а потом решаем, что штаны можно просто приспустить; на его лице – темное, истомленное выражение, а тело напряжено и покрыто жесткими вьющимися волосами. Он медленно опускает меня на свой большой, слегка изогнутый член, и на секунду я переосмысляю свой атеизм, на секунду готова поверить, что Бог – это бессмысленное, бесформенное зло, которое придумало аутоимунные заболевания, но подарило нам волшебные органы для совокупления, и я отчаянно трахаю Эрика со всей силой этого внезапного прозрения. Он несет всякую пошлость, но что-то такое мелькает в его взгляде, и я начинаю опасаться, вдруг он брякнет сейчас что-то, к чему мы пока не готовы, поэтому я прикрываю ему рот ладонью и приказываю: «Заткнись, черт возьми, заткнись», и это звучит куда агрессивнее, чем обычно, но срабатывает, и вообще, если хочется встряски, нет ничего лучше, чем сделать из белого мужика свою сучку, – хотя внезапно я паникую от того, что не надела на него презерватив, и, оглянувшись, вижу, что из спальни есть выход в ванную, а в ванной оказываются дополнительные полотенца, и этот жест заботы так трогает меня, что он останавливается, и на мгновение сквозь похоть в нем проглядывает радушный хозяин, обеспокоенный реакцией гостя. Движения замедляются, и мы заходим на опасную территорию зрительного контакта и поцелуев, туда, где всегда совершаются ошибки, где забываешь, что все обречено на смерть, и я не виновата, что в этот момент называю его «папочкой», и уж точно не виновата, что от этого он стремительно кончает и говорит, что любит меня, и мы откидываемся назад в наслаждении и ужасе, не произнося ни слова до тех пор, пока он не вызывает мне такси и не говорит беречь себя, что звучит скорее как «пожалуйста, проваливай», и пока машина отъезжает от дома, Эрик стоит на крыльце в шелковом халатике с цветочным узором, явно принадлежащим его жене, и выглядит так, как будто он не оргазм только что испытал, а пережил тяжелейший сеанс экзорцизма; у его ног свернулся кот, совершенно сбитый с толку белой обшивкой дома и зеленой лужайкой, и я окончательно преисполняюсь ненавистью к этому коту, когда вокруг меня вырастает город в пыли и саже, гордящийся своими размерами, как какой-нибудь постмодернистский роман, создателю которого ужасно хочется воспеть величину собственного достоинства, – но все равно прекрасный даже несмотря на беспощадный июль, выжигающий его улицы.
А потом Эрик неделю не отвечает на мои сообщения, электронные письма и звонки, а я продолжаю улыбаться, листая сигнальный экземпляр новой книги о добродетели щедрости, которую мы скоро издаем. И я теперь знаю, где он живет, поэтому десять дней спустя появляюсь у него на пороге: дверь не заперта, внутри никого, и я брожу по дому, беру холодные лимоны со стола и катаю их в ладони, открываю холодильник, делаю глоток молока прямо из упаковки и забираю его с собой наверх, в спальню, где стоит открытый шкаф с женской одеждой, и я провожу рукой по шелку, шерсти, кашемиру, – а потом раздается голос, и я оборачиваюсь и вижу в дверях ванной – в желтых резиновых перчатках и футболке с надписью «Йель» – его жену.
3
Я сделала аборт, когда училась в десятом классе. Хотя на краткий миг я подумывала оставить ребенка, удовлетворить стремление этой горошинки внутри меня обзавестись легкими. В то время я работала в торговом центре, находившемся на грани закрытия. Восемнадцать часов в неделю разглаживала складки на брюках и следила за напористыми покупателями из Квебека, которые приезжали на север штата Нью-Йорк ради низких цен. Во всем торговом центре открыто было только четыре отдела: аптека CVS, где крекеры для животных лежали рядом с клизмами, «Деб» с наборами трусиков с завышенной талией по пять долларов, оружейный и мой скромный магазинчик одежды для деловых женщин. Я была жалким младшим продавцом, но считалась ценным сотрудником, пока успевала достаточно, чтобы давать старшим продавцам больше времени на болтовню. В обеденный перерыв я управлялась с магазином в одиночку, а двое моих коллег ненадолго отбрасывали сомнения насчет моего умения обращаться с покупателями и шли обедать на Бостонский рынок. Тот факт, что меня на эти обеды не приглашали, я расценивала скорее как жест доброй воли, чем как пренебрежение. Они были со мной милы и были не прочь принести мне пасту со шпинатом в сливочном соусе, которую я ела в отделении неработающего больше банка, где в банкоматах пчелы устроили себе гнезда. В то время я не понимала, нравилось ли мне быть одной, или я просто терпела одиночество, зная, что у меня нет выбора.
Я не была популярной, но и непопулярной не была тоже. Чтобы вызывать восхищение или давать повод для насмешек, сначала нужно, чтобы тебя заметили. Так что история о когда-то поделившейся внутри меня клетке и ее последующем уничтожении – это еще и история о первом мужчине, который меня заметил. Этим мужчиной был Клэй, владелец оружейного магазина, металлист, повернутый на уходе за своими зубами. Он был седьмым по счету черным, которого я встретила в Латэме, точнее, принадлежал к смешанной расе и являл собой безумный образец решетки Паннетта[7] с настолько неоднозначным набором корейских и нигерийских генов, что при разном освещении казался разными людьми. Во время нашей первой встречи Клэй курил на аттракционе «Dance Dance Revolution» у закрытого кинотеатра в молле. Он сообщил, что по уши в долгах и что больше не разговаривает с братом, и было что-то такое в его непосредственности, от чего я рассказала ему, как умерла мама. Как я нашла ее в одной туфле. Как все пыталась изобразить этот момент на холсте, но не нашла подходящего формата. Как прошло всего пять месяцев после ее смерти, а отец уже начал с кем-то встречаться. Эта откровенность была следствием того противоречия, которое определило меня на долгие годы – моего стремления к абсолютному уединению и моего же поспешного предательства этих усилий, стоило мне только завладеть вниманием мужчины. Я делала вид, что не замечаю последствий подобной самоизоляции, но в разговоре с кем-нибудь всякий раз обнаруживалось, как я чрезмерно старательно компенсирую атрофию социальных мышц.
Я была счастлива оказаться вовлеченной хоть во что-то, даже если этим чем-то был разговор по большей части в одни ворота с мужчиной вдвое старше меня. Мы встречались во время моих обеденных перерывов, и он покупал мне мороженое. Я сидела в кабине его универсала и смотрела, как он заряжает и разряжает ружье. Я склонялась над витриной с ножами танто[8] и позволяла ему проводить пальцами по моим волосам. Когда он спросил, сколько мне лет, я соврала. Когда я рассказала ему, что отец не появлялся дома уже несколько недель, он позаботился о том, чтобы у меня были деньги на еду, а иногда звонил и спрашивал, что у меня на ужин. Но все-таки, бывало, я чувствовала его осторожность, сквозившую даже в ругательствах, вопросы между делом о возрасте моих воображаемых парней, историями о которых я его кормила.
На нашем пятом свидании в обеденный перерыв он достал с витрины охотничий нож и вложил его мне в руку. Привычный шведский дэт-метал на фоне словно понизился до шепота под тяжестью дубовой рукоятки и стального лезвия. Хотя Клэй и пытался сберечь мою невинность, временами я чувствовала, что он старается меня напугать. Как и все дети, такой вызов я проигнорировать не могла, твердо решив быть стойкой и смелой. Так что мы купили в CVS «Ред Булл», и он проколол мне уши с помощью зажигалки Зиппо и иголки. Мы поехали к нему – Клэй жил в вагончике в Трое, – и он приготовил мне стейк и показал коллекцию старинного оружия. В его поведении было что-то автоматическое: он постоянно находился в каком-то бессмысленном движении, все время с оружием в руках, как будто бессознательно готовился использовать его по назначению. Он казался сосредоточенным на чем угодно, но только не на том, как заряжать обойму и передергивать затвор. Но случались и моменты, когда мой страх испарялся: например, когда он проходил мимо магазина, где я поправляла вешалки, и в воздухе витало наше общее понимание того, что мы оба ищем разрушения, что мы были цветными в городе, лишенном красок, что мы говорили не столько на языке любви, сколько на языке заговорщиков. Так что когда он вложил мне в руку нож, я расценила это как признание – для него я стала человеком. Он изучил меня и признал мои размышления, мои чувства, саму вероятность того, что даже в моей маленькой подростковой вселенной может существовать повод для убийства.
Дома я прижимаю к бедру тыльную сторону холодного лезвия. В течение тридцати восьми минут смотрю порно на семейном компьютере, а затем сажусь на автобус до дома Клэя. Он не задал ни одного вопроса, только открыл дверь и затащил меня внутрь. Я прошла за ним в спальню, в воздухе пахло порохом и пеплом. Его тело было тяжелым, и он дрожал, пока кончал. В высоком, отчаянном стоне его удовольствия я почувствовала свою силу. И свое заблуждение – в том, что думала, как мало будет значить для меня первый раз. Я не призналась ему, что была девственницей, потому что терпеть не могу нежностей. Я не хотела, чтобы он был осторожен. Мне хотелось с этим покончить. Поэтому когда стало больно, я не захотела уязвлять собственную гордость и вместо «прекрати» сказала «ещё»: словно католичка или натура тонкой душевной организации, я верила, что уровень преданности делу напрямую связан с болью, которую испытываешь в процессе. Я ушла от него кровоточить в одиночестве дома, довольная, что совершила то, что делают все. Мне казалось только, это приносит больше удовольствия, но я была новичком. Я словно прошла обряд инициации, обрезала волосы и вошла в манящую запретную комнату. Каждый раз, когда мы трахались, слов было все меньше, и внезапная, необъяснимая тьма проникала в комнату, когда он вжимал меня в кровать. «Я не плохой человек», – говорил он, пока я обувалась. А потом я забеременела. Вскоре заявился домой отец на помятой с одного бока машине. Я не спросила его, где он пропадал, и он не спросил, кто меня обрюхатил. Я сказала ему сама, что это был парень из школы. Не говоря ни слова, он отвез меня в клинику, а после, когда все было кончено, привез обратно. Отец сделал мне чай и дал таблетку ибупрофена и пропал из дома еще на неделю. Всю эту неделю крови у меня было больше, чем должно быть. Я смутно чувствовала, что избежала чего-то противоестественного.
А была же еще коллекция пластинок моей матери. Я не заходила в ее комнату много месяцев, но тогда нашла и поставила «Four Seasons of Love» Донны Саммер. Я открыла окно, впуская в комнату свежий воздух, и за моими сжатыми губами расцвел и тут же умер смех. Это лишенное радости, инстинктивное движение гортани, впрочем, давало надежду, что когда-нибудь я снова смогу засмеяться.
* * *Когда я поворачиваю голову и вижу жену Эрика, в распахнутое окно залетает ветерок, напоминая о той давнишней весне – о пыли, виниловых пластинках, комнате Клэя с витающим в ней запахом пороха, моем окровавленном нижнем белье на дне мусорки – и раздается визг; звук, в котором я узнаю собственный смех.
Мой смех, тот, который настоящий, – грубоват и уродлив, при его звуках у моих визави на свиданиях, случалось, дрожала рука. Так что нужно отдать ей должное – едва заметное движение бровью служит единственным подтверждением того, что она его слышала. Я стою напротив, зажав в кулаке рукав ее шелковой блузки, и думаю, как странно было бы обратиться к этой женщине по имени, признать тот факт, что я знаю, кто она несмотря на то, что они с Эриком приложили столько усилий, чтобы мы с ней держались как можно дальше друг от друга. Кажется невероятным, что этот аморфный призрак округа Эссекс без явных следов присутствия в социальных сетях и есть Ребекка.
Я пытаюсь соотнести образ из своего воображения со стоящей передо мной женщиной, но данных слишком много, и слишком много моих догадок успело незаметно превратиться в факты. Поправки я вношу неохотно, удивляясь красоте ее ступней. В остальном она совершенно обычная, все в ней настолько невзрачно, что кажется почти зловещим – волосы цвета грязный блонд обрамляют лицо, помятое загаром, мальчишеская худоба, плавный переход бедер в икры и общее впечатление, что, сними она одежду, тело под ней окажется таким же гладким и невыразительным, как ил.
Я поворачиваюсь и встречаюсь с ней взглядом. Она снимает перчатки. В какой-то момент кажется, что она собирается меня ударить. Она движется на меня с настолько ровной спиной, что это было бы даже забавно, если бы ее нарочитая неторопливость не выглядела бы такой жуткой. Мне не то чтобы страшно, но сама мысль о том, чтобы говорить развернутыми предложениями и слушать ее в этой комнате с неубранной постелью, беспорядку которой я же и поспособствовала, кажется невыносимой. Я разворачиваюсь и бегу вниз по лестнице, оглядываясь, – она следует за мной и лучи солнца скользят по ее волосам. От унизительности ситуации, в которой мы оказались, у меня внутри все сжимается; через кухню мы выбегаем на задний двор, – и она падает, поскользнувшись на мокрой траве.
Теоретически мой путь свободен, но, обернувшись, я вижу грязь на ее коленях и смотрящего на нас из бассейна соседского ребенка. Мне становится стыдно за пошлость происходящего – гардении, непристегнутые велосипеды, и я стою, тяжело дыша, над чьей-то женой. Так что я подхожу к ней, беру ее за влажные ладони и помогаю подняться.
– Я знаю, кто ты, но не желаю это обсуждать, если позволишь, – говорит Ребекка, отряхиваясь. – Я просто не закончила тебя разглядывать. Не ожидала, что ты настолько юна. Это ужасно.
– Ужасно?
– Да, для тебя, – отвечает она. Соседский ребенок вылезает из бассейна и бежит в дом.
– Уже поздно. Тебе стоит остаться на ужин, – произносит она, потирая проступающий на руке синяк. Я бы предпочла любой другой вариант, но затем понимаю, что это не настоящее приглашение, а всего лишь возможность подтвердить очевидное: за ее уступку, проявленное ею самообладание, я теперь у нее в долгу.
Ребекка ведет меня в гостевую спальню с отдельной ванной, оглядывает с ног до головы и хмыкает: «Жарко сегодня, не так ли?», намекая на то, что мне и без нее известно – пот течет с меня ручьями. Я смотрю в зеркало и вижу лоснящееся лицо. Она показывает мне на полотенце и предлагает принять душ.
Когда я выхожу из ванной, на кровати меня уже ждет василькового цвета платье, при одном взгляде на которое я понимаю, что, вероятно, никогда бы не смогла себе такое позволить; это символ царства, где цены – набор случайных чисел, царства настолько гипотетического, что когда я думаю о том, что мне нужно сделать, чтобы стать его частью, в голову приходит только напоминание о студенческом долге, и я представляю грустного сотрудника отдела кредитования, нависающего надо мной во сне.
Пытаясь надеть платье, я начинаю подозревать, что Ребекка старается меня унизить. Оно настолько узкое, что я еле втискиваюсь в него, пожертвовав возможностью дышать. Эта преднамеренная издевка так похожа на неуклюжую вежливость, что я чувствую себя обязанной подыграть. Я подумываю, не сбежать ли через окно, но замечаю припаркованные на улице машины и непрекращающийся поток гостей, стремящихся в дом. В толпе я замечаю Эрика, вернувшегося с работы: он приветствует приглашенных у дверей. Он кидает взгляд на часы и хмурится. Семь часов – видимо, в это время начинаются вечеринки для взрослых. Я напоминаю себе, что хотела продемонстрировать свою серьезность, показать, что я не та, кого можно игнорировать, даже если и паникую при мысли, что мне придется с ним встретиться. Но сейчас, когда я смотрю на него из окна, его агрессивная нормальность кажется мне оскорбительной. Я тоже могу быть нормальной.
Поэтому я направляюсь к лестнице и, едва переставляя ноги, спускаюсь вниз – малейшее движение угрожает целостности молнии на платье, скрывающей мою грудь от взора присутствующих. Хотелось бы мне знать заранее, что соберется так много людей. Тот факт, что Ребекка эту информацию опустила, еще сильнее заставляет меня утвердиться в мысли: она надо мной издевается. Ясно, что она своего рода ведьма: за то короткое время, пока я принимала душ и переодевалась, дом превратился в нарочитую декорацию для веселой, в понимании взрослых, вечеринки – буйство конфетти и блестящих воздушных шаров на фоне монашеского завывания нью-эйджа. Но самой хозяйки дома нигде не видно.
Я морально готовлюсь к встрече с Эриком, собираясь вести себя как ни в чем не бывало, но все равно сканирую толпу, чтобы не оказаться застигнутой врасплох. Обращаю внимание на детали, выставленные напоказ – натюрморт как из кабинета стоматолога, полки с хрусталем, фотография неулыбающихся Эрика с Ребеккой на фоне развалин Помпеи, – и на то, что предпочли бы спрятать от посторонних глаз: мусор на кухне, следы от пальцев на экране телевизора. Я беру крабовую котлетку с подноса официанта, чтобы чем-то занять руки; в конце концов, пора что-нибудь съесть, чтобы желудку было чем заняться помимо бесконечного вырабатывания подкатывающей к горлу желчи. В целом же мне настолько не до еды или чувствительности собственного желудка, что не удивляет даже тот факт, что все напитки на этой вечеринке, похоже, безалкогольные.