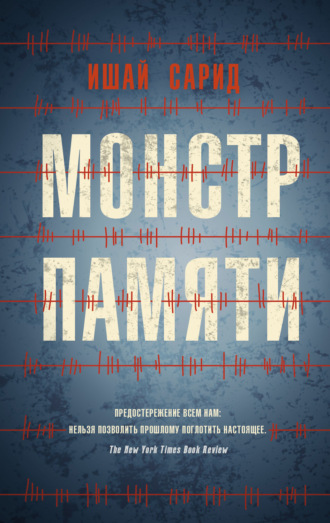
Полная версия
Монстр памяти
Когда ко мне подсаживались учительницы, я ощущал себя плотоядным растением. Каждую хотелось проглотить целиком. Они хотели, чтобы я утешил их после всего, что им пришлось увидеть на экскурсиях, чтобы помог им осознать, как такое могло произойти. После пары бокалов они принимались расспрашивать про мою жизнь, про мою жену. Иногда задушевными разговорами дело не ограничивалось. Между нами вдруг пробегала искра, и оправдание было под рукой – расстроенные чувства, потребность в любви, в тепле.
У самой первой было длинное лицо и грустные еврейские глаза, она хотела, чтобы я лично ей растолковал, почему люди такое сотворили. Она просто не в силах была это понять, да и выпила больше, чем нужно. Я деликатно намекнул, что ее малость заносит. «А и наплевать», – сказала она с пьяной удалью. Нельзя было допустить, чтобы дети увидели учительницу в подобном состоянии, единственный выход – увести ее к себе в номер на другом этаже, чтобы она отдохнула там, пока хмель не выветрится. Она попросилась в душ и вышла оттуда полуголая. Я честно пытался этого избежать, но она проспала со мной до утра. В последующие дни я уже и сам надеялся, что она снова придет, но она протрезвела. О других случаях я сейчас говорить не хочу, это случилось раз или два – неважно. Это было совсем на меня не похоже. Как правило, мне хватало трех рюмок водки, чтобы заснуть в старом гестапо-отеле в Люблине.
В первых поездках ко мне прикрепляли выжившего в Холокосте старика по имени Элиэзер – бодрого, добродушного коротышку. Он любил разговаривать с детьми, отвечать на их вопросы. Умел их увлечь. Элиэзеру было одиннадцать, когда он сбежал из своего городка – вечером, накануне того дня, когда немцы отправили евреев в Белжец. Родители велели ему спасаться одному – братья и сестры были слишком маленькими. Он жил в лесах, пока его не нашли партизаны. Элиэзер чинил им одежду – этому он научился у отца-портного, готовил им еду и иногда даже выходил с ними на дело – выводить из строя железнодорожные пути. Школьники слушали его истории затаив дыхание. Хоть я и замечал в его рассказах разные нестыковки, звучало все правдоподобно, поэтому свои вопросы я оставлял при себе. Да мне и не доводилось слышать от выжившего такой рассказ, чтобы был без сучка без задоринки.
Главным недостатком Элиэзера было то, что он никогда не сидел в концлагере, а почти всю войну провел в лесах. Тем не менее он любил говорить о концлагерях, произносить полные гордости и надежды речи о молодежи, о Государстве Израиль – обо всем, в чем в силу своей биографии ничего не смыслил. Но ребята и учителя любили его, а я не вмешивался. Выживших в лагерях осталось совсем мало, здоровье у них слабое, а Элиэзер был как огурчик. Я сидел рядом с ним в долгих автобусных переездах, он рассказывал о детях, внуках, о процветающей ныне мастерской, которую он создал, когда иммигрировал в Израиль, и вообще о торговых и семейных делах. От его одежды исходил приятный запах старости. Мы отлично сработались. Элиэзер компенсировал мою холодность. У нас с ним установился четкий сценарий: я сообщаю факты, а он придает рассказу душевности. Все шло отлично, пока Элиэзер не упал у себя дома и не сломал шейку бедра. Он поправился, но в поездках больше не участвовал.
Пока Элиэзер лежал в постели, накачанный обезболивающими, я его навестил. В одночасье он растерял все силы – жена кормила его кашей с ложечки. Я довольно быстро ушел и больше не приходил. Найти замену Элиэзеру было очень трудно. Для знакомства с выжившими я использовал базу данных Яд Вашем. Объездил всю страну. Устраивал встречи, пытался убедить подходящих кандидатов присоединиться ко мне. Объяснял, как важно оставить молодым наследие, из уст в уста передать Память, – тщетно. Большинству выживших участвовать в поездках не позволяло здоровье. У некоторых были проблемы с мышлением и памятью – признаки деменции. Другие не хотели возвращаться, боясь посттравматического стресса, и я их понимал. Некоторые, как я подозревал, служили капо или были коллаборационистами и всю жизнь это скрывали. С какой же стати открываться сейчас, на краю могилы?
Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы уломать одного, по имени Йоханан, инженера-строителя на пенсии, жившего на севере, в районе Крайот. Всю жизнь Йоханан упрямо отказывался возвращаться в Польшу, но после смерти жены им овладела тоска по родителям, по убитой сестре и по дому, в котором они жили тогда. Я убедил его к нам присоединиться и пообещал, что мы съездим в его родной городок. Йоханан коротко рассказал, что, когда их взяли, ему было пятнадцать, сестре семнадцать, и оба они прошли селекцию. Мать не прошла из-за какого-то кожного заболевания, а отец исчез за несколько месяцев до этого – его забрали на работы. «Я давно уже забыл их лица, – сказал мне Йоханан, – а сейчас они вдруг вернулись, я ясно вижу их перед собой».
Я сдержал обещание. По дороге в Краков мы свернули с главной дороги в его городок, каких тысячи в Польше и десятки тысяч в Европе. Автобус остановился на главной площади, напротив церкви и лавок мясника и пекаря. Я рассказал детям то, что нашел в документах, – эту церковь в урожайные времена построил на собственные средства аристократ-землевладелец. И он же осудил пятерых евреев за то, что те якобы примешивали к маце кровь христианских младенцев. Приговор был приведен в исполнение с помощью двух волов – осужденных привязали к ним и разорвали на части. И все же евреи продолжали здесь жить. Их презирали, ими помыкали, но они были частью окружающей среды.
Йоханан указал на дальний угол площади, где когда-то была синагога. Мы обнаружили, что сейчас там филиал банка. Мы зашли, и я показал детям место, где раньше находился ковчег со свитками Торы. Операционистка рассердилась и начала что-то нам выговаривать по-польски. Один из мальчишек сгоряча ей нагрубил, запахло скандалом. Заведующий филиалом вышел из своего кабинета, замахал руками, призывая всех успокоиться. Я объяснил ему по-английски, что Йоханан когда-то жил в этом городке, а здесь была синагога. Заведующий хмыкнул и пробормотал: «Добро пожаловать, добро пожаловать», но во всей его фигуре явно читалось: проваливайте!
Йоханан повел нас к своему дому. Было видно, как он ищет приметы в очертаниях старых деревьев, во дворах. Он чуть не споткнулся на разбитом тротуаре, потом свернул на заброшенную улицу, остановился перед маленьким домиком и сказал: «Вот здесь. Здесь мы жили».
Мы заглянули в окно – темень и запустение. Постучали в дверь – никто не ответил. Одна из учительниц заплакала. Дети стояли вокруг Йоханана, и он рассказывал им о своей семье, о сестре и о родителях, задыхаясь от слез, сам не свой от горя. Дети окружили его и утешали, учительницы обнимали его, все было невероятно трогательно.
Когда мы вернулись на церковную площадь, несколько поляков на нас уставились. И заведующий банком тоже вышел на улицу. Туристы до этого городка обычно не добираются, и евреев здесь, конечно же, не видели со времен войны. Один из зевак – от него разило водкой – подошел к нам и заговорил. Поди поспорь с алкашом о тысячелетней истории. Я дал ему несколько злотых, пусть не думает, что евреи жмоты, и он помахал купюрами перед остальными. Мы оттуда убрались.
Мой долг перед Йохананом был выполнен, и на следующий день мы поехали в Аушвиц. Тут даже самых безбашенных подростков охватил священный страх. Бренд делает свое дело. Йоханан был без сил, я видел, что ему трудно идти, и лицо у него стало каким-то пустым. История его жизни должна была наполнить смыслом все те предметы и заброшенные строения, которые нам предстояло сегодня увидеть, и я надеялся, что Йоханан справится. Сначала мы, как принято, осмотрели первый концлагерь – Аушвиц I. Школьникам было трудно понять, что это за место. Здесь стояли не деревянные бараки, какие они видели на фотографиях, а аккуратные каменные здания, первоначально служившие казармами польской армии. Только внутри можно было увидеть камеры пыток, горы волос и протезов, подлинную газовую камеру и крематорий. Йоханан смущенно сказал мне, что никогда здесь не был, это не похоже на то, что он помнит. Я ответил, что он и правда был не здесь, а в Биркенау. Двое школьников хотели поддержать его под руки, но Йоханан пожелал идти сам, опираясь на трость.
Оттуда мы прошли к автобусу и за пару минут добрались до Биркенау. Именно здесь концлагерь являет свою суть – электрические заграждения, бараки, железнодорожные пути, ворота; вот оно, все настоящее, вы можете этого коснуться, дотронуться до места, где истребляли род людской. Я увидел, что руки у Йоханана дрожат, губы что-то беззвучно бормочут, и понял, что совершил ошибку. Я не должен был его сюда привозить. Воспоминания оказались слишком сильны. Дети завернулись в свои флаги и стали фотографировать ворота и проходящие сквозь них рельсы. Я привел группу к грузовому вагону, у которого всегда начинаю свою лекцию. Здесь производилась селекция: направо – те, кого отобрали для немедленного истребления, в среднем семьдесят пять процентов от каждого транспорта, налево – признанные годными для уничтожения через каторжный труд. Их отводили в бараки, раздевали, наголо брили, набивали им номер.
– Я вижу огонь, – сказал Йоханан, глядя вперед, вдаль, в конец дороги.
– Расскажите им! – попросил я.
Дети окружили нас, замерли в ожидании.
– Маму они забрали туда сразу, – сказал он, дрожа. – У нее выступила красная сыпь на коже, потому что у нас не было воды, чтобы помыться. Когда мы увидели дым из трубы, сразу поняли, что это мама. Ничего не надо было объяснять. Нас они забрали туда, – он показал на бараки за путями. – Сперва мою сестру, потом меня. Я видел ее издалека, она была выше меня. Вот и все. Что я там делал в этих бараках, в нужниках, в карьере, спросите вы? Какая разница? Кого это заботит? Я знал, почему не хочу туда. Пусть разожгут огонь, и я в него прыгну. Ребята, я не сделал ничего, что давало бы мне право жить, пусть не рассказывают вам всякий вздор. Это больно, это слишком больно!
Не было смысла вытягивать из него что-то еще. Свою жертву чудовищу Памяти он принес.
Я тут же закончил экскурсию, мы не пошли ни в бараки, ни к руинам газовых камер. Потому что его мать и его сестра как будто в тот самый момент задыхались, корчились в муках, синели, мочились и испражнялись под себя. Может быть, у них были месячные. Может быть, зондеркоманда выволакивала их наружу, искала драгоценности у них во рту и между ног. Это происходило прямо сейчас, – оставаться там было невозможно.
Группа возмутилась. Директор школы пришел меня уговаривать, предложил, чтобы кто-то проводил Йоханана к воротам, посидел с ним в автобусе, а мы продолжили бы экскурсию. Дети подняли шум, затопали от разочарования ногами, на девчонках были сапожки, на парнях – неуклюжие кроссовки. Но мое решение было бесповоротным. Я привез его сюда, и я его отсюда вызволю. Он не останется в Аушвице ни минуты.
Мы вернулись в Краков. В гостинице прикрепленный к группе врач осмотрел Йоханана и дал ему успокоительное – старик все еще был очень взволнован. Я договорился с турагентством, чтобы Йоханана отправили первым утренним рейсом из Кракова в Варшаву, а оттуда в Израиль. Не волнуйтесь, дети ничего не потеряли, на следующий день мы вернулись в Биркенау и завершили экскурсию.
– Ненависть, – пытался я им объяснить, стоя между нарами музейного барака, – злоба и экономия. Экономия, злоба и ненависть – вот что тут было.
Впервые я осмелился отклониться от вашего обычного сценария, по которому работают все гиды, и мой голос дрожал.
– Здесь исчезла иллюзия, именуемая человеком. Посмотрите на себя, на ваших друзей, что вы есть? Мясные туши. Вам приходилось варить говядину? Тогда вы видели сухожилия и кровеносные сосуды, ткани. А рыбу вы когда-нибудь жарили? Вытаскивали из нее кишки, видели ее мертвые глаза? Это вы и есть. И если кроме кишок внутри вас имеется что-то еще, так это похоть и мерзкие побуждения, черви с амбициями. Но из соображений экономии следует воспользоваться животной энергией, которая в вас осталась. Вы не закаленные африканцы, привыкшие к тяжелому труду, и потому ваше уничтожение будет быстрым, позорным, нелепым. Ваше существование ранит землю. Ваша внешность, ваши хитрые разговоры – оскорбление человечеству.
Они смотрели на меня перепуганно. На чьей я стороне? Что за жуть я несу? Мне необходимо было их шокировать. Я больше не мог выдавливать из себя все эти гладкие скорбные, беззлобные объяснения. В продолжение маршрута мы остановились у руин первой и второй газовых камер, примерно в километре от железнодорожной насыпи.
– Они шли сюда пешком, тяжелые чемоданы оставляли у вагонов, семьдесят пять – восемьдесят процентов людей в каждом транспорте уничтожались сразу же по прибытии. Вы должны это понять, история тех, кто остался в живых, – это просто сноска. Подлинная история – это история немедленно убитых, тех, которые не были нигде отмечены, не были зарегистрированы, которым не набили на руку номер, которых погнали прямиком в газовые камеры.
Я встал напротив них над подземной раздевалкой, крыша с которой была снята, удалена, как корка с раны, а под ней – гниль. Перпендикулярно раздевалке расположена газовая камера, гигантский прямоугольник. Там все по-прежнему вопиет, эти прямоугольники кричат нам. Как вы не видите? Вот мама, вот дедушка, вот мальчик: они спускаются вниз по этой лестнице; здесь были вешалки, и скамейки, и указатели, ведущие к душевым. Их сопровождали зондеркомандовцы, обещая после мытья пирожок и горячее питье. Время от времени немцы лупили кого-нибудь дубинками, но изредка, чтобы не вспыхнул бунт, который осложнит операцию, потребует серьезного вмешательства. Дело застопорится, прольется кровь. Я не мог это прокричать, лишь выкладывал перед ними факты, спокойно, сдерживая боль.
Иногда, если погода позволяла, мы шли дальше, к построенным позже газовым камерам, в 1944 году, чтобы справиться с перегрузкой, возникшей в связи с необыкновенным наплывом поездов из Венгрии. Это чем-то напоминало прогулку по заповеднику: в озерцах плавали водяные птицы, большие деревья качались на ветру, в весенней траве тут и там виднелись цветочки. Отовсюду слышались звуки природы. Немцы и евреи из зондеркоманды были здесь отрезаны от мира. Два-три раза в день прибывал транспорт, людей раздевали, начиняли ими газовые камеры – две тысячи человек за раз, приезжала машина Красного Креста, из нее выходил немец и бросал внутрь банку с циклоном Б. Процесс умерщвления занимал двадцать пять минут. Когда стальную дверь открывали, внутри громоздились кучей скорченные грязные тела, а пол был покрыт испражнениями.
Рабы-евреи по-быстрому вычищали все внутри, освобождали помещение от мертвого груза, проверяли рты, срезали женские волосы (здесь мы видим разительное отличие от других концлагерей, где людей стригли до убийства), помещали тела в печи: толстую женщину к худому мужчине или женщину к ребенку и мужчине – главное, чтобы хватило жира для сжигания всей закладки. Такая жирная работа случалась по нескольку раз за день, но большую часть суток – когда останки уже уничтожены, а следующий транспорт еще не прибыл – в лагере царила европейская идиллия, можно было перекусить и отдохнуть.
Куда бы мы ни пришли, дети везде пели гимн Израиля. В Треблинке, напротив мемориала, в Аушвице на платформе, у общих могил в лесах, в Бункере Анелевича на улице Мила. Завернутся во флаги и поют – и так всю поездку.
На одной экскурсии я осторожно спросил учительницу-организатора: может, стоит малость снизить градус? Исполняя гимн по два-три раза за день, по нескольку десятков раз за неделю, в некотором роде обесцениваешь его.
Учительница посмотрела на меня с изумлением.
– Это их утешает, – сказала она. – Это наша победная песнь. Без него что нам остается? Лишь отчаяние. Мы не хотим, чтобы дети возвращались в Израиль с отчаянием в душе. Нам нужно вселить в них надежду.
Я решил не спорить. Мог бы, но зачем? Она была права.
Ненависти к немцам эти дети не испытывали, совсем никакой, даже близко не было. В истории, которую они для себя сочинили, убийц почти не существовало. Они пели печальные песни, заворачивались в израильские флаги и молились за души убитых, словно их гибель была предопределена свыше, – но никогда не направляли обвиняющий перст на исполнителей. Поляков дети ненавидели гораздо сильнее. Когда мы проходили по улицам городов и деревень, они при каждой встрече с местными бросали злые слова про погромы, про их сотрудничество с немцами, про антисемитизм. Но ненавидеть таких, как немцы, нам тяжело. Взгляните на их военные фотографии. Если посмотреть правде в глаза, выглядят немцы просто классно, в этих своих мундирах, на этих своих мотоциклах, невозмутимые, как модели на рекламных щитах. Арабов мы в жизни не простим за их вид, за их щетину, за их коричневые мешковатые штаны, за их некрашеные хибары, за их сточные канавы, за их детей с гноящимися глазами. А вот этот европейский облик, ясный, чистый, – ему хочется подражать. Это первое.
Второе – немцы намеренно старались совершать свои убийства на польской земле, чтобы Германия оставалась красивой, чистой и опрятной. И преуспели. Вся мразь была выброшена на восток, на богом забытые свалки органических отходов, чтобы никакое зловоние не мешало прогрессу и культуре. Интеллигентные туристы могут посетить Дахау, или праздничные площади Нюрнберга, или Олимпийский стадион в Берлине, но настоящий незабываемый кровавый кошмар надо искать на востоке, где в дождливый день зоркий путник до сих пор может заметить торчащую из земли кость. В Шварцвальде, куда наши туристы ездят отдыхать семьями, земля осталась неоскверненной. Немцы специально так задумали. И, что тут скажешь? Задумка удалась.
Третье – это, конечно, большие деньги, которые они заплатили Государству Израиль, и другие поблажки, которые помогают забыть.
И последнее, то, что я осознал лишь со временем, – тайное восхищение душегубством, решительным, дерзким, безжалостным. Невероятным актом сосредоточенной, окончательной жестокости, после которой не остается уже ничего.
Пожалуйста, не подумайте, будто я ненавидел этих ребят. Я видел в них собственное отражение. Я приписывал им все, что было в голове у меня самого, что не давало мне покоя. Я пытался скрыть это за знаниями. В каждой группе находились дети с умным, чутким взглядом, и я старался обогатить их знания. Я рассказывал в микрофон о немецкой любви к зеленым просторам, открывавшимся нам из окна автобуса, об их тоске по дням славы тевтонских рыцарей на Востоке и мечтах вернуться в города, которые они создали, снова стать нацией крестьян, воинов и здоровых, плодовитых матерей.
Большинство детей шумели и не обращали на меня внимания. Или пялились в айфоны, занятые перепиской и играми. Лишь немногие слушали.
– Присядьте, отдохните, – сказал мне однажды директор школы, увидев, как я напрягаюсь, и решив меня пожалеть. – Они уже узнали больше, чем стоило.
В соответствии с распорядком я должен был каждый вечер проводить с детьми задушевные беседы в гостинице, обсуждать непростые впечатления прошедшего дня. Школьники были измотаны и мечтали о свободном времени, сбежать с посиделок им мешали лишь страх перед учителями и серьезная тема беседы. Говорили в основном девочки – рассказывали, как им было грустно, а мальчишки молчали, уставившись в пол, и ждали, когда уже все закончится. Честно говоря, у меня не было на это сил. Я делал вид, что вникаю в их чувства, вдумчиво кивал головой, но на самом деле мечтал перебраться в темный уголок бара и там завершить свой день.
Я не верил тому, что ребята говорят на публичных обсуждениях. Мои уши ловили их тайные разговоры на задних рядах во время официальных церемоний, в автобусе, на тропинках, за столом во время завтраков и ужинов. Там высказывались мысли совсем иного толка – те, что легко перепархивают из потаенных уголков сознания прямо в рот, проскальзывают между зубами, превращаясь в слова. Ашкеназы, – слышал я не раз и не два, – это предки леваков, не сумели защитить своих женщин и детей, сотрудничали с убийцами, это не мужики, не умеют отвечать ударом на удар, трусят, червяки, дают арабам творить что хотят. Я слышал в их голосах злорадство, слышал, как они говорят между собой, что ашкеназы не были невинными жертвами, видно, не просто так их убивали, смотрите, что они сделали с мизрахим[1], таких змей никто не любит. Да, были и такие разговоры, господин председатель, у меня нет причин лгать. Необходимо исследовать это явление. Я не стал искать научного объяснения. Сам я ашкеназ только на четверть, лично мне обижаться не на что. По их представлениям, я на три четверти мужик. Но откуда это отвращение?
Только несколько лет спустя я осознал, что места, пропитанные ненавистью, лишь плодят ненависть. В какой-то поездке в Биркенау один школьник, толстяк со злобным взглядом и раскрасневшимися от холода щеками, начал выцарапывать на деревянной стене женского концлагеря: «Смерть левакам». Бдительный учитель вмешался и не дал ему закончить. А дружки принялись его утешать и сказали, что в Израиле они завершат это дело вместе. Закутанные в государственные флаги, с кипами на головах, они ходили между бараками, испытывая ненависть, но не к убийцам, а к жертвам. Осознать это было нелегко. В разговорах по душам ребятки помалкивали, но все же я разгадал их – целиком и полностью, до конца.
Тем временем карьера моя шла в гору. Я уже почти получил докторскую степень. У меня были хорошие рекомендации от директоров школ, я прекрасно ориентировался на территории концлагерей, был прилежным и верным служителем Памяти. Я постоянно разъезжал с группами и в Израиле почти не бывал. Руфь привыкла и, ожидая, пока дела окончательно наладятся, растила нашего сына в одиночку. Мы очень боялись скатиться в нищету, а поездки пополняли наш банковский счет.
Доказав свою компетентность в организации экскурсий для школьников, я с успехом выдержал экзамен на гида-сопровождающего для солдат и работников Министерства безопасности. Работалось с ними гораздо легче. Они являлись в военной форме, дисциплинированные, не мешали, моим объяснениям внимали молча. Подслушивать их разговоры было неинтересно. Я скучал по безобразной болтовне школьников. В красивой старой синагоге города Тыкоцина, евреи которого были расстреляны в близлежащем лесу, они надевали на головы береты и молились за благополучие Государства Израиль: «Оплот Израиля и Избавитель его! Благослови Государство Израиль, начало избавления нашего. Храни Израиль по великому милосердию Твоему, простри над ним покров мира Твоего». Это было красиво, и мне тоже хотелось поклониться Ему, но там Бога не было, я в этом уверен, а если и был, то был он богом дерьмовым, дерьмовым отцом в Небесах, величайшим дерьмом, – со всеми вместе я произносил: «Аминь».
У входа в Детский лес, на окраине города Тарнова, трубач военного оркестра играл перед тремя марширующими колоннами. Немцы расстреляли здесь десятки тысяч человек, по большей части евреев и нескольких польских интеллектуалов – и восемьсот маленьких детей из еврейского сиротского приюта. Я объяснял, как убивали здесь еще до создания лагерной системы. Убивали неаккуратно. Повсюду кровь, дергающиеся тела, ненужные свидетельства. Соприкосновение с жертвами чересчур непосредственное, расход боеприпасов чрезмерный – вот что заставило их построить концлагеря, в которых процесс уничтожения напоминал борьбу с вредными насекомыми или мышами, а для черной работы можно было использовать рабов-евреев. Трубач исполнил красивую и печальную мелодию, армейский кантор пропел «Эль мале рахамим», потом спели гимн, женщины-офицеры положили на землю плюшевых медвежат – детям.
Эти военные вовсе не ненавидели немцев. В их речах убийцы не имели ни облика, ни языка – будто свалились с небес. Мы здесь не ради мести, – неизменно повторяли офицеры в своих выступлениях перед безмолвными солдатами, стоящими по трое, в парадном обмундировании.
Если бы вы служили тогда в немецкой армии, скажем в пехоте, или занимались техобслуживанием самолетов, или распределяли личный состав, или сидели на станции радиоразведки, и ваша любимая родина пребывала в состоянии войны с врагами, что окружают ее со всех сторон, дезертировали бы вы из армии, если бы узнали, что где-то в далеком, богом забытом краю, на востоке, совершаются такие грязные дела? Скорее всего, нет. Я бы точно не дезертировал.
Однажды, в Биркенау, в особенно жаркий летний день, после того, как я провел несколько экскурсий для военных, слишком долго пробыл на солнце и слишком мало пил, перед глазами у меня замелькали огоньки. Я стоял перед солдатами у бетонных развалин газовой камеры, и вопросы, роящиеся в моей голове, выплеснулись наружу.
– Кто бы из вас дезертировал? – выпалил я.
Ни одной руки не поднялось. Лица у всех были растерянные. Симпатичные младшие офицерики стали переглядываться – о чем это он?
И тут я не смог сдержаться и задал им еще один вопрос:
– Если бы вы узнали, что в одно прекрасное утро проснетесь и обнаружите, что ваши извечные ненавистные враги исчезли с лица земли, при том что ваши руки не обагрились кровью и ваши глаза не увидели ни единого трупа, кто бы из вас об этом пожалел?


