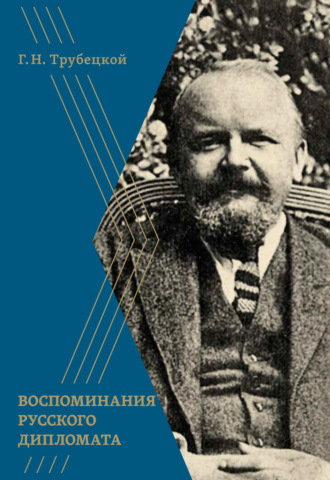
Полная версия
Воспоминания русского дипломата
Его младший брат Дмитрий рос одиноко среди старого поколения своих родителей и дяди Дмитрия. Он мало привык к обществу сверстников и всегда казался в нем немножко стариком. В детстве одно время он долго болел, и тогда сам завел бумагу с чертежом, где черными и красными чернилами аккуратно вел записи своей температуры и рисунок кривой колебаний. Он любил приставать к старшим, чем впрочем отличаются почти все мальчики известного возраста. Помню как он на своем детском велосипеде разъезжал по коридору верхнего 3-го этажа Капнистовского дома в Москве (огромная казенная квартира попечителя учебного округа была как раз против Храма Христа Спасителя) и развозил по комнатам молодежи – студентов-племянников, всегда живших у Капнистов, – квитанции на право ночевать в собственной комнате. Помню, как он долго и упорно одним пальчиком стучался в дверь Бори Лопухина, пока последний не вылетал из нее совершенно разъяренный. Этого только и нужно было Дмитрию, который удирал от него на своем велосипеде. Борьба с ним была невозможна. Как младший, он был балованным Веньяминчиком, и если старшие молодые люди жаловались его матери, она говорила им: «Бедные, маленькие, вас Димитрий обидел». Однажды мы с моим другом Семеном Ивановичем Унковским поймали его в саду и тут же изобразили военный суд, причем были и прокурором, и адвокатом, и судьями. Приговорили обвиняемого к порке и тут же произвели не особенно сердитую экзекуцию. Нам потом здорово досталось от тети Эмилии, но свое удовольствие мы получили. Бедный Дмитрий. Он был и остался очень хорошим малым, благородным, добросовестным, необычайно трудоспособным, но он как-то засох, и у него никогда не было молодости в характере. А между тем он с ранних лет всегда был кем-нибудь увлечен, и всегда избирал своим предметом самую молодую, красивую, привлекательную и жизнерадостную девицу. Если у него был хороший вкус, то сам он не обладал прелестями, которые могли нравиться, и которые в таких случаях важнее серьезных достоинств, кои у него были. Он так молча и упорно преследовал предмет своего увлечения, что обычно становился ему в тягость. Он оставался верен своим увлечениям, пока они не выходили за кого-нибудь замуж, тогда он переносил свое чувство на другую. Так он действовал с ранних лет почти до 40-летнего возраста, когда судьба над ним сжалилась и он женился на Ольге Бантыш, совсем молоденькой и не видавшей жизни. А он уже был членом Государственной думы, после того, что проделал судебный стаж, участвовал в сенаторской ревизии Туркестана графа К. Палена и был предводителем [дворянства] Золотинского[81] уезда Полтавской губернии.
О родителях его сознательно не вдаюсь в подробности, потому что это слишком близкие для меня люди, и я буду говорить о них, когда буду рассказывать о себе, если только память дозволит мне повести святую повесть о моей семье и себе самом, и я успею это сделать.
Мои родители
Я хотел занести сюда хотя бы в самых общих чертах то, что мне припомнилось о семьях моего отца и моей матери, отчасти по рассказам, отчасти по личным воспоминаниям. Я думаю все время о моих детях. Мне хотелось бы, чтобы они не были безразличны к памяти тех, кто мне дороги и близки. И теперь я подошел к тому, что ближе всего лежит моему сердцу, что может быть всего труднее передать так, как хотелось бы. Я знаю заранее, что мои слова не удовлетворят меня. Я буду говорить о моих родителях.
И здесь поперек моим попыткам лежит ужасный недостаток памяти. Вот откуда выглядывает на меня лик смерти, когда хочешь и не можешь вызвать к жизни то, что так недавно трепетало всеми красками. Да помогут мне близкие дорогие мне души вдохнуть в эти страницы воспоминаний живую память о себе, или хотя бы дуновение своей личности.
Мне стыдно, что я знаю так мало подробностей о жизни моих родителей до той минуты, когда они попадают в поле моих личных воспоминаний.
Папа
Мой отец родился [3 октября] в 1828 году, и, как я уже говорил, воспитывался в Пажеском корпусе. Впоследствии от старой княжны Тани Гагариной, скончавшейся в Баден-Бадене, я знаю, что в это время он бывал иногда по воскресеньям у них в доме в Петербурге. Мой отец вышел в [лейб-гвардии] Преображенский полк, некоторое время был адъютантом полка{58}. От этого времени у меня остался почему-то в памяти его рассказ, как в полковой праздник было такое разливанное море, что даже в стойла лошадям лили шампанское. Мой отец участвовал в Венгерской кампании 1848 года[82], по крайней мере, я помню бронзовую медаль в память этой войны{59} в числе его орденов. Он был адъютантом командующего гвардией генерала Арбузова, потом князя А. И. Барятинского{60}. Последний предложил моему отцу ехать с ним на Кавказ, когда был назначен туда наместником, но мой отец остался в Петербурге. Он женился первым браком на графине Л. В. Орловой-Денисовой. От этого брака у него было трое детей: старшая Софья Николаевна Глебова, вторая Марья Николаевна Кристи и сын Петр Николаевич. Они унаследовали крупное состояние своей матери и ее сестры графини Толстой, которая после ее смерти взяла к себе всех трех детей и воспитала их. Все трое имеют в настоящее время большое потомство. Моя сестра Глебова – прабабушка[83] и сохранила до сих пор (декабрь 1925 года) поразительную живость и подвижность. Не всякий молодой за ней угоняется[84].
Мой отец рано овдовел, покинул военную службу и жил в Москве. Он страстно любил музыку. В это время великих реформ для русской музыки также наступила знаменательная эпоха. Перед тем, незадолго, проявился гений Глинки. Громадный толчок в музыкальном развитии России дали братья Рубинштейны, – в Петербурге Антон, в Москве Николай. Я не буду повторять того, что сказано о значении Николая Рубинштейна в воспоминаниях моего брата Евгения. Его гений и его музыкальная деятельность были своего рода откровением музыки. Он разбудил природные дремавшие способности и врожденную у нас музыкальность и дал этим способностям и силам должное направление. Его усилия падали на благодарную почву и приносили богатые плоды. В Московском обществе нашлись просвещенные и чуткие ценители музыки, которые сплотились вокруг него и помогли ему создать Императорское Музыкальное Общество и Консерваторию с кадром крупных даровитых профессоров и артистов. А симфонические концерты, которыми он дирижировал, и камерные вечера стали широкой музыкальной школой, привлекая тысячи слушателей во всегда полные залы. Концерты эти были своего рода событиями, и ими жила музыкальная Москва. Я помню атмосферу какого-то светлого торжества, которая чувствовалась в залах Дворянского собрания, когда бывал хороший концерт и особенно когда выступал Антон Рубинштейн. Николая я не застал и помню его только в моем раннем детстве, но дух Николая Рубинштейна был живуч долгие годы в Москве. Вплоть до революции сохранились старые верные его поклонники и последователи, которые оставались неизменными посетителями симфонических концертов.
Мой отец был в числе друзей и почитателей Николая Рубинштейна и деятельно помогал ему во всех его начинаниях, будучи одним из основателей Музыкального общества{61}. В то время хор, выступавший в концертах, составлялся из любителей. Отец мой был в числе постоянных участников, и здесь на спевках он встречался и сблизился с моей матерью, которая была очень музыкальна и, как я слышал, была любимой ученицей Фильда. Таким образом общее увлечение музыкой сыграло решающую роль в жизни моих родителей.
Я снова прибегаю здесь к воспоминаниям «Из прошлого» моего брата. Читайте и перечитывайте эту книгу, если хотите понять сердцем, кто были мои родители и чем была для них музыка.
Мой брат был на 10 лет старше меня. Он описал годы семейной жизни моих родителей, когда меня не было еще на свете. Для меня Ахтырка, в которой я родился, существует только по рассказам, а не по личным воспоминаниям. В памяти моей от этого времени запечатлелись отдельные отрывочные сцены, сами по себе незначительные, но почему-то врезавшиеся в детскую память. Мои более связные воспоминания начинаются с переезда нашего в Калугу. Переезд этот был обусловлен материальными затруднениями, которые стали испытывать мои родители. Они вынудили моего отца с большим горем пойти на продажу родового поместья Ахтырки, содержание коего стало ему не по средствам, и он продал это имение за гроши. Еще раньше, чем решиться на этот шаг, отец мой стал искать государственной службы, и был назначен в Калугу вице-губернатором в 1877 году{62}. Здесь протекли счастливейшие годы нашей семейной жизни.
Я не помню своих родителей иначе, как пожилыми. И все мои воспоминания с самой ранней поры моей жизни складываются вокруг бережной нежной и всепоглощающей любви моего отца к матери. Он не мог жить без нее, он молился на нее, и когда у себя в кабинете он садился в кресло читать газету, он пододвигал ее портрет так, чтобы видеть ее каждую минуту, когда глаз отрывался от чтения; после его смерти мы нашли его письмо к нам детям, в котором он писал: помните, что вы обязаны Маме больше, чем жизнью…
У нас детей сложилось твердое представление о Папе, что на нем почивало особое благословение Божие. За несколько лет до кончины моего отца, в Москву приезжал известный о. Иоанн Кронштадтский и служил молебен, если не ошибаюсь, в Елизаветинском институте, хозяйственной частью коего ведал мой отец, как почетный опекун. Разговорившись с моим отцом после молебна, о. Иоанн сказал ему, что на нем благословение Божие, и что пока он жив, в его семье все будут живы. Предсказание это сбылось, и мой отец скончался, не зная горя семейных потерь.
Я никого не знаю, кто был бы таким счастливым человеком, как он. Источником этого счастья была его душа младенчески чистая, ясная и добрая. Физически он был редко здоровый человек и никогда не хворал. Моя мать всегда говорила, что переезд в Калугу сохранил моему отцу много лет здоровья, ибо, конечно, в Москве нельзя было бы установить такого правильного, ничем не нарушаемого образажизни. Он вставал всегда в один и тот же час в 8 часов утра, пил два стакана чая, потом шел в кабинет, где ему давали маленькую чашку кофе, которую он выпивал, наскоро прочитывая известия в «Московских ведомостях», потом ехал на службу. После завтрака опять уезжал на службу, потом по делам и визитам, перед обедом ложился отдыхать, тотчас засыпал и просыпался ровно через 1/4 часа, после обеда иногда занимался и почти ежедневно кончал вечер партией в винт, у нас дома или у кого-нибудь из друзей. Во все перерывы в течение дня он забегал к моей матери, рассказать где был и кого видел и обо всем посоветоваться.
Мой отец был необыкновенной доброты и незлобивости. Он вечно за кого-нибудь хлопотал и, если о ком заботился, то он уже обдумывал его во всех подробностях. Личные свои дела он не умел вести. Его неисправимой доверчивостью к людям нередко злоупотребляли. Он готов был поверить явному мошеннику, если тот обещал не надуть его. Он был совершенно не способен сердиться или обижаться на кого-нибудь, и поэтому у него не было и не могло быть врагов. При этом никогда никакое мелкое чувство и мелкая мысль не имели доступа в его чистое сердце. Ему органически чужды были тщеславие и зависть. Ему даже была простота от Бога. Это был в своем роде цельный самородок. Только получившие дар Божий чистоты сердца могут быть так просты и непосредственны, как дети, быть так цельны и настолько чужды мысли и старания чем-то такое казаться, а не просто быть. Изо всех детей моего отца в наибольшей мере этот дар непосредственности был унаследован моим братом Евгением.
Ко всем этим счастливым качествам у моего отца присоединялась способность удовлетворяться и находить удовольствие в самых скромных условиях жизни. Он, который смолоду привык к богатству и даже к роскоши, наслаждался разведением самых скромных грядок у себя в саду, и с таким же интересом относился к хозяйству в Меньшове, где урожай мог поместиться в двух ваннах, как в былое время в крупных имениях. Но главным его интересом и его страстью была музыка. Ради нее он готов был обо всем забыть. Для чистых душ музыка это та же молитва, конечно, не пошлая веселенькая или чувственная музыка, которая является грубой материализацией искусства, а та музыка, которая уносит над землей, «всякая ныне житейския отложив попечения», та небесная музыка, которая как благодать сходит на композитора и исполнителя и заражает и уносит слушателей в иной мир. Вот эта музыка-молитва звучала в чистой душе моего отца так же, как и моего брата, который так умел передать эти переживания, говоря о 9-й симфонии Бетховена. И та же музыка уносила мою мать в надзвездные пространства.
Главным лишением для моего отца, когда он переехал в Калугу, было, конечно, удаление от симфонических концертов и музыки, связанной с Николаем Рубинштейном, невозможность принимать деятельное участие в Императорском Музыкальном Обществе. Но мой отец тотчас основал музыкальное общество и музыкальную школу в Калуге. Он создал даже оркестр из любителей и устраивал концерты, с целью пропагандировать музыку и в то же время для усиления средств Братства борьбы с расколом{63}, которое он также организовал. В Калужской губернии было много старообрядцев, и с ними устраивались собеседования и велась проповедь.
Мой отец приглашал на концерты в Калугу своих друзей – артистов. Мне было лет 6, когда к нам приехал Николай Рубинштейн. Хорошо помню это посещение, как к нему приехал с визитом, чтобы благодарить за участие в концерте в пользу Братства его руководитель Архимандрит Мисаил. Оба они стояли в столовой у входа в гостиную, куда мне нужно было пробраться. Они разговаривали и кланялись друг другу. Потеряв надежду, что они покинут это место, я на четверинках пополз между ними, и они, продолжая свои поклоны, с удивлением увидали меня у своих ног. Мне было очень страшно, но все обошлось благополучно. Помню также, как старшие не решались просить Рубинштейна сыграть что-нибудь и меня послали к нему с нотами. Мне тоже было страшно идти, но Рубинштейн добродушно принял ноты и сел играть. Я, конечно, не мог тогда оценить его игры, мне только передалось благоговейное напряжение всех слушавших.
Приезжал также давать концерт профессор Консерватории пианист Пабст, отличавшийся блестящей и сильной игрой, и молодая в то время певица Климентова-Муромцева. С ее приездом связаны забавные воспоминания. Мой отец был феноменально рассеян. Когда он решил ее выписать, то написал не только ей, но и моему брату Петру: «Скажи этой дуре, чтобы не вздумала ломаться и приезжала». Он перепутал конверты, и Муромцева получила письмо, предназначавшееся моему брату. Она очень добродушно отнеслась к этой ошибке и возвращая брату письмо, которое ему предназначалось, сказала: «Напиши в Калугу, что дура не будет ломаться и приедет». Перед концертом мой отец командировал за ней в Москву огромного жандарма Степанова с большой рыжей бородой и рядом медалей на груди. Степанов участвовал в любительском оркестре, играя на флейте. Ему было поручено привести артистку. Появление огромного жандарма в доме Муромцевых произвело переполох. Муж Марьи Николаевны был известный, в то время считавшейся левым, профессор университета, впоследствии председатель I Государственной думы. Муромцев был начеку, ожидая всяких неприятностей от властей. Поэтому когда появился жандарм, он решил, что это по его душу пришли. Но вскоре все выяснилось, и Марья Николаевна с удовольствием признала в жандарме своего коллегу.
О феноменальной рассеянности моего отца я припоминаю некоторые случаи, кроме тех, которые привел мой брат. Так, однажды, придя к знакомым, он совершенно забыл, что находится в гостях, а не дома, и все ждал, когда же, наконец, уйдет его собеседник, а хозяин, в свою очередь, недоумевал, почему так долго сидит мой отец. В конце концов, последнему надоело сидеть, он извинился, что ему надо выйти, и только когда вышел на воздух, понял свою ошибку и вернулся домой. Никто не коверкал так имен, как мой отец. Однажды ему нужно было видеть по делам директора одного из департаментов Министерства финансов г[осподина] Тухолку. Он поехал к нему на квартиру, позвонил у двери. Дверь отворил ему какой-то господин. Мой отец спросил его: «Здесь ли живет г[осподин] Падалка…» – «Здесь нет г[осподи]на Падалки, здесь живет директор департамента Тухолка» – был ответ. – «Ну не все ли равно Падалка или Тухолка, – сказал мой отец, – «Мне его нужно видеть». – «Это я Тухолка», – с достоинством возразил господин, и моему отцу пришлось извиниться, по счастью он напал на необидчивого человека. Такие недоразумения случались с ним постоянно, но мой отец был так известен своей рассеянностью и так было очевидно, что он не хочет никого обижать, что на него и не обижались. В последние годы его жизни его рассеянностью воспользовался один мошенник, предложивший моему отцу выгодные условия закладной под дом, которым владел на Смоленском рынке. Дом выходил на две улицы и значился под двумя номерами. Мой отец осмотрел один дом, а закладная была составлена на совсем другой дом под теми же номерами, но в другом порядке. Этот дом совершенно не стоил тех денег, которые дал мой отец. В конце концов жулик перестал платить за него проценты, дом пошел с торгов, и так как никто не хотел купить его, то он достался моему отцу с приплатой в пять рублей к сумме долга.
Помнится, когда сделка еще не состоялась и нельзя было ожидать такой именно проделки, я все же, хотя был еще молод, решился высказать свои сомнения, ибо владелец имел определенную репутацию мошенника. Но мой отец ответил мне: «Он обещал мне, что не обманет меня». Что можно было делать, при такой доверчивости… Моему отцу долго пришлось возиться с этим жуликом. У него было несколько домов, которыми он спекулировал, и он подкупал полицию. Поэтому когда его искали, будто бы, чтобы вручать повестки в одном участке, он проходил в соседний свой же дом, значившийся в другом участке, и таким образом оставался недосягаем. Однажды я был в кабинете моего отца, когда он пришел в связи с какими-то своими махинациями. Его разговор был явно жульнический, и он старался доказать, что по закону он чист. Я тогда, при нем же, сказал моему отцу: «Я удивляюсь, почему ты не обратишься к великому князю [Сергею Александровичу] (генерал-губернатору), чтобы принять административные меры. Ведь его могут в 24 часа выслать из Москвы». Нужно было видеть, как изменился в лице и как совершенно иначе заговорил этот мошенник. Но мой отец, после его ухода, только упрекнул меня за то, что я обидел этого человека.
Моя мать была на 12 лет моложе моего отца. В ту пору, что я их помню обоих, кроме последних двух лет жизни моего отца, когда он начал заметно дряхлеть, я совершенно не замечал разницы в их возрасте. Каждый из них сохранил до конца необыкновенную свежесть и молодость духа. Мой отец никогда не задавался отвлеченными вопросами и интересами. Его долг ему был ясен и долг этот ему подсказывал не только рассудок, но и сердце. Покинув военную службу в молодых годах, он сохранил в душе ту внутреннюю дисциплину, которая составляет суть военного призвания. Он вырос в крепких устоях старого дворянства, которое не разделяло Престола и Отечества и считало своим долгом и делом чести служить им не за страх, а за совесть. Император Николай Павлович, его царственный и рыцарский облик сохраняли обаяние для людей его поколения, воспитавшихся и прошедших военную службу в его царствовании. Портреты его, в том числе известная гравюра Сверчкова{64} – Николая Павловича в санях, в одиночке – висели всегда у него в кабинете.
Поступив на гражданскую службу, мой отец продолжал так же честно и нелицеприятно служить Государю и Отечеству, как он это делал будучи военным. Не надо думать, что это заставляло людей его воспитания быть формалистами и прямолинейными. Отнюдь нет. Сердце участвовало в их служении не меньше, а иногда и больше, чем рассудок, и иногда это бывало большое сердце. Люди поколения и понятий моего отца были прямыми продолжателями того служилого и боярского класса, на костях которого сложилась и выросла Россия. И когда понятия эти стали разлагаться, то и основы империи дали трещину.
Как мой отец был на службе, таков он был и в жизни, с прямой, ясной, чистой душой. Характер моей матери был сложнее, потому что и сама она выросла в другой среде, более открытой новым запросам.
Мама́
В юности своей мама была веселая, живая, шалунья, верховодившая среди молодежи, музыкальная, чуткая и с той способностью увлекаться чем-нибудь, «экзальтироваться», как говорил мой отец, которую она сохранила до конца.
Выйдя замуж, ставши матерью, она прониклась чувством ответственности, на нее выпавшей. Это была великая и горячая душа, пламеневшая любовью к Богу и людям. И весь смысл ее существования сосредоточился для нее в семье, в детях. Если оба мои старшие братья вышли замечательными людьми, то это потому, что мама вложила в них всю свою душу.
Однажды, когда моей сестре Марине было лет 9, к ней обратилась не без ломания одна молодая дама: «Скажите, как вас воспитывает ваша мама, что вы такие все хорошие…» Марина ей ответила: «Нас мама совсем и никогда не воспитывает». Дама пришла в восторг от «прелестного» ответа.
И Марина была права, потому, что мама никогда не приставала к детям с тем, что обычно разумелось под воспитанием – хорошие манеры, регламентация всех мелочей жизни, а между тем вся душа ее горела в детях. Первой основой воспитания у нее было самовоспитание, личный пример. Она понимала, что в душу ребенка с первыми проблесками сознания западают семена, определяющие ее на всю жизнь, и что нет ничего более святого, чем эта младенческая душа, нет ничего более ответственного, чем подход к ней. Как же можно к ней подойти, чтобы бросить в нее эти семена добра… – Только самому очистившись и с молитвою и любовью наклоняясь над колыбелью. Ангел Божий, охраняющий ребенка, сообщает ему один драгоценный дар, который потом так часто растрачивается в жизни: чутье правды и искренности. Никакие нравоучения и строгие внушения, не согретые искренними убеждениями, не могут пробиться к душе ребенка. Они могут создать только внешнюю дисциплину. Ее польза и даже необходимость несомненны. Это, как помочи, которые научают первым шагам. Но еще важнее воспитание духа. Оно дается только полной искренностью, полной правдивостью и любящей материнской душой.
Я знаю по рассказу самой мамы такой случай. Мой старший брат Сережа был еще совсем маленький. Она была с ним в детской. В это время пришла прислуга доложить, что кто-то пришел с визитом. – «Скажите, что меня нет дома» – ответила мама. – Сережа вытаращил глаза: «Как мама, ты говоришь неправду!» – Мама густо покраснела, и сказала: «Я ошиблась, я хотела сказать, что сейчас ухожу из дома», и тотчас поднялась и ушла из дома, хотя раньше никуда не собиралась. Она измерила расстояние между условным кодексом правды и душой ребенка, не воспринимающей этой условности, для которого несовместима неправда и его мама.
На внешнюю сторону воспитания мама обращала меньше внимания, предоставляя ее гувернанткам, зато она сосредоточивала все внимание на совесть и душу. Можно сказать, что все ее воспитание было как будто приготовлением к говению. В вопросах совести у нее не существовало пустяков, и она всегда это говорила: вся жизнь складывается из «пустяков», и человек незаметно катится вниз, если не серьезно относится к своему долгу, своим обязанностям. У мамы были любимые притчи, которые она всегда напоминала, и которые врезывались нам детям в память. Одна из них была про лодочника, которому нужно было переехать реку прямо против того места, откуда он отчалил и который забирает далеко вперед. «Зачем ты это делаешь» – спрашивает его мальчик, и лодочник показывает ему, как течение относит лодку в сторону, как сильно нужно грести и забирать вперед, чтобы пристать к намеченной цели… «Забирайте же и вы повыше, гребите сильнее, чтобы жизнь не отнесла вас далеко назад. Только так вы можете достигнуть вашей цели».
Еще одно место из Гоголя особенно любила мама. Она всегда выписывала его и читала нам. И я выпишу его здесь. Это известное лирическое отступление по поводу Плюшкина: «И до какой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! Мог так измениться! И похоже это на правду… – Все похоже на правду, все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, – забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: „здесь погребен человек“; но ничего не прочитаешь в холодных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости».
Мама читала эти вещи, когда имела задушевный разговор, в котором будила совесть, пробуждала раскаяние, возбуждала стремление к исправлению. Никто не умел так, как она, вызывать эту внутреннюю исповедь у своих детей. Она сама была нашей живой совестью. Сколько раз я останавливался перед дурным поступком не потому, что это было не хорошо, а потому, что это огорчит мама или возмутит ее. Останавливала не только любовь к ней, но и страх перед ней, – страх не наказания, не внешних последствий, а страх, внушаемый ее нравственной личностью. Такой страх перед матерью не есть ли тот же страх Божий… – Мама нам импонировала, мы все ее боялись, я может быть больше других в своем детстве и отрочестве. Одно время у меня это было слишком сильное и неправильно выражавшееся чувство. Я боялся, и это вызывало во мне скрытность, но все же это происходило не от страха наказаний, ибо не в этом была сила воздействия мама, а в нравственном авторитете. Потом это ненормальное чувство прошло, осталось другое, которое мы испытывали все и до конца. Мама нам импонировала, и когда у нас являлось сомнение, так ли мы поступили – мы боялись ее, потому что в ней олицетворялся суд живой неподкупной совести, который болел за каждый наш грех сильнее нас самих, но никогда не смягчал зла, никогда не выдавал серого за белое. Нам детям приятно было видеть, что мама импонировала не только нам, но и своим сестрам и братьям и вообще всем, кто ближе стоял к ней, а особенно нашим гувернанткам, которые смертельно боялись ее. И это было более чем удивительно, потому что она не только ничего не делала, чтобы внушать такое чувство, но искренно огорчалась, когда видела, например, что это создавало одно время расстояние между ею и мною. Впрочем, это расстояние ей удалось заполнить своей материнской любовью, ибо ничего не действовало на нас так сильно, как ее огорчение, когда мы сознавали себя виновными в нем.

