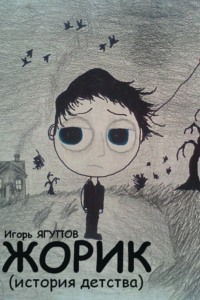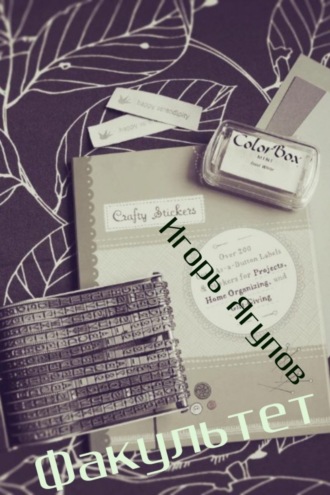 полная версия
полная версияФакультет
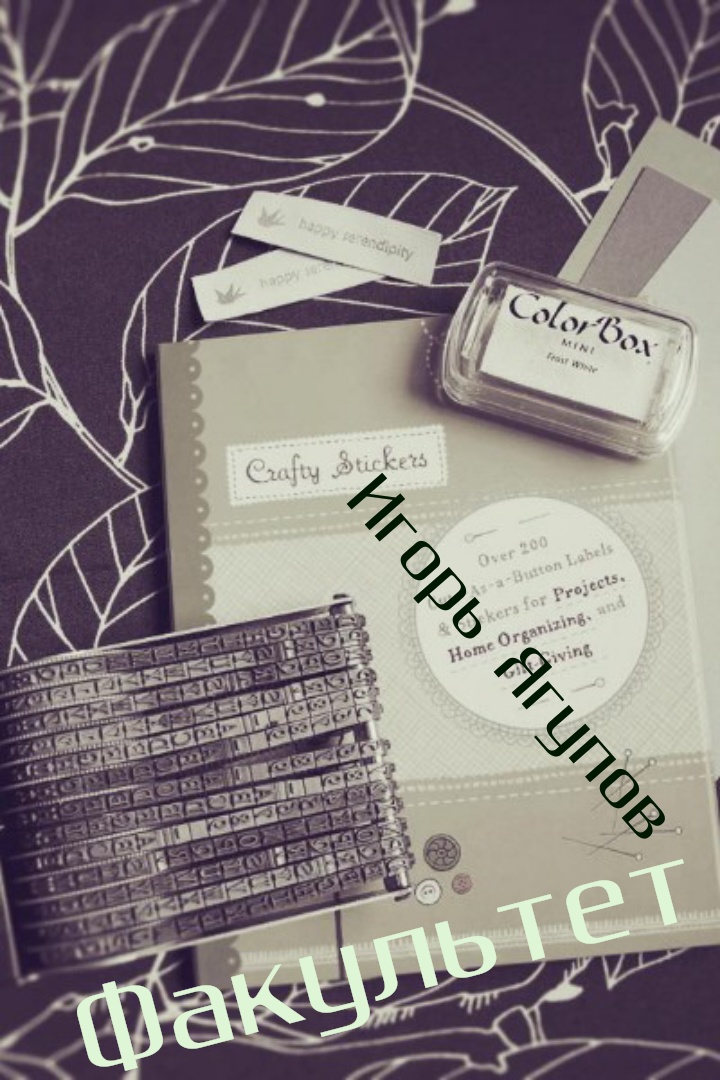
ФАКУЛЬТЕТ
1.
Погода стояла мягкая. Да, такой погоды уж не встретишь сейчас. Шел июль 1986 года – жаркий и солнечный. По гулким прохладным и залитым светом вечерним коридорам института прогуливаются пришедшие на собеседование абитуриенты. Глаза у них умные. И вдумчивые они все. И литературно одаренные, наверное. И все немного похожи на Пушкина: в очках и кудрявых волосьях.
– Да где же вы видели Пушкина в очках? – возмутится кто-то.
Но в кудрявых волосьях все. И с «сантиментом» в прищуре глаз. Ах, как обманчивы бывают кудряшки волосьев. И вычитанная где-то фраза всплывает в памяти: она была завита, как овца, и так же развита…
– Ну, вас-то всех примут, – многообещающим голосом вещает какая-то девочка молодому человеку в густых прыщах.
– Кого это – нас? – дожимает из девчонки признание молодой прыщеносец.
– Ну, ребят, – охотно поясняет девчонка. – Вас всех примут. В педагогический ребят всех берут, кто пришел.
Как выяснилось позднее, девчонка пророчествовала. Откровение не посетило ее лишь в одном: того прыщавого и не приняли. Но где найдешь сейчас даже и такую прорицательницу? И где сейчас такая погода? А ты-то сам что там делаешь в такую мягкую погоду? Что?
2.
Все вокруг выглядят нарядными и радостными. Малознакомыми, но многообещающими. Большая аудитория пахнет краской. Этот запах, как запах розового масла – Понтия Пилата, преследовал нас все экзамены. Сдали! И слетелись теперь душным утром клевать гроздья победы. Не верится, никому еще не верится, что поступили. Но блеск в глазах уже есть. И ощущение, что жизнь завершилась счастливо…
– Меня-то приняли или нет? – спрашивает меня Оксана, опоздавшая на зачисление.
Она шутит: отличницу Оксану, сдавшую первый экзамен на «отлично», по закону зачислили уже заранее, без сдачи оставшихся предметов. Но Оксане все в новинку, все волнительно, и она самоутверждается:
– Меня зачислили или нет?
– Зачислили, зачислили.
– Точно?
– Да куда уж.
– А ты фамилию-то мою знаешь?
– Знаю.
– Точно?
– Точно, точно: Стецюк твоя фамилия.
3.
Оксана Стецюк приехала в Мурманск из маленького поселка в глубине Кольского полуострова. Приехала поступать в институт, приехала в большой город, приехала покорять и завоевывать. Так когда-то д’Артаньян скакал в Париж. Как и тот гасконец, Оксана кинулась в город с головой, далеко обогнав в его познании, как это часто бывает – и как это, кстати, и вышло с тем гасконцем, – гораздо более опытных и искушенных городских жителей.
Чего только она не вытворяла. В сентябре она заявила, что является мужененавистницей. А уже в ноябре вышла замуж, когда большинство ее ровесниц все еще зябко поеживались в своих девичьих кроватках.
Лиха беда начало. Оксана играла в самодеятельных театрах, на Новый год переодевалась гусаром, пела в ресторане, где-то прослушивалась и даже ездила в Калининград с какой-то концертной программой. Словом, она вела богемный образ жизни, успевая при этом еще и учиться в институте.
Потом, правда, Оксана перестала совершать глупости. А жаль…
4.
Мы стоим у расписания, предвкушая скорое начало занятий.
– Современный русский язык, история КПСС, введение в специальность… – читаю я. – Мерзость какая. Разве это может быть интересно?
– Кому как, – обиженно огрызаются две девчонки, старательно списывающие расписание в блокнотики.
С тех пор мы узнали друг друга гораздо лучше. И теперь я могу сказать с уверенностью: им это действительно было интересно. Им все было интересно. По крайней мере, они все это выучили на отлично. Девчонок звали Оля и Лена.
5.
Лена и Оля учились в школе в одном классе. Они вместе пришли в институт, который и окончили с красными дипломами. Оля почему-то называла Лену Кузей. Кузя с Олей все время почему-то занимались Маяковским и, я в этом уверен, знали о нем (вдвоем, по крайней мере) больше, чем сам Владимир Владимирович знал о себе.
Оля с Леной были лучшими студентками нашего курса. Это уж точно. Нравилось ли им учиться на филфаке пединститута? Наверное – да. Хотя они, безусловно, могли бы поступить и в любой другой вуз, который тоже окончили бы с красными дипломами. Нравилось ли им все, чем им приходилось заниматься на филфаке пединститута? Наверное – нет. Все никогда не может нравиться. Все предметы не могут быть одинаково интересны. Но Оля с Леной знали все. И по всем наукам имели только отличные оценки, подкрепленные нерушимыми, как единство партии и народа, знаниями.
6.
Осенняя свежесть из раскрытых окон. Но запах краски все еще чувствуется. Лекция. Альберт Сергеевич читает нам введение в современную советскую литературу:
«Почему современные писатели продолжают писать о войне? Не только потому, что это была трагедия целого народа, трагедия, о которой нельзя забыть, но и потому еще, что это было время героического порыва, высокого духовного взлета отдельной личности и народа в целом. Когда наши люди обнаружили в себе подлинную человечность, величие духа, преданность социалистическим идеалам.
Современная жизнь стала сложнее, противоречивее. И, быть может, обращение к теме войны – это в какой-то мере тоска по одухотворенности, ясности, четкости жизненной позиции. Во время войны многое было проще, жизненную позицию легче было определить. Это тоска и по нравственному максимализму в людях».
Да, как говаривала мамаша Кураж, в мирное время человечество растет в ботву. А революция даже еще лучше войны, потому что когда провозглашают революцию, то сражаться за нее идут только желающие. Это уже Марсель Пруст сказал.
А Смирнов все тянет и тянет свою волынку, завораживая нас зловещей, почти детективной ситуацией:
«Поздней осенью 1943 года партизанка Зося Норейко идет на задание в тыл врага. Она пробирается по ночному лесу, страшно боится и все же идет».
У меня ощущение дежа вю. Где-то я это уже слышал. Но где? Подобных книг я явно не читал. Эврика! Это же история про – задери ее – Красную Шапочку!
Чем дальше в лес – тем страшнее. В Смирновской проповеди появляется серый волк: «главное для него – не победа над врагом, а выжить любой ценой…»
Студенты жадно впитывают свежий воздух, заносимый ветерком в аудиторию. Им тут еще нюхать и нюхать. Пять лет пройдут и горы станут песком – только тогда покинут они эти стены. Но об этом никто сейчас не думает: возраст еще не тот.
Стулья в аудитории мягкие, парты зеленые, свежеокрашенные – рассадницы лаковой вони. Студенты чувствуют новую жизнь и себя, в нее входящими. Они вырвались из чего-то, ушли из детства и стоят теперь перед выбором: записывать или не записывать эту чертову лекцию?
Смирнов доходит до пункта поедания Красной Шапочки волком: «и тогда Антон Голубин, боясь разоблачения с ее стороны в будущем, решает избавиться от Зоси». Жуть.
Звенит звонок, и мы на пятнадцать минут избавляемся от Смирнова. Студенты галдят: впереди второй час «пары», а Зося все еще не съедена.
– А мне здесь нравится, – говорю я Олегу Малышкину. – Мне очень нравится здесь.
Олег Малышкин смеется…
7.
У нас с Олегом, наверное, разная ментальность. Да, это точно. На первом курсе нас повезли «на картошку».
– Вы мне понравились в полях,– сказала нам потом в качестве комплимента Людмила Львовна Иванова. – Вы не строили из себя коллектив.
Строить-то мы ничего не строили, но Олежек Малышкин изрядно подпортил там нервы доброй половине из нас. Он родом из Белоруссии. Для них картошка (бульба) – что для украинцев сало, а для русских водка – дело святое.
Мы лениво ползаем по полю: работа у нас на время, а не на результат.
– Ну давайте наберем еще по ведерку? – ноет Олежек.
Когда все, набрав еще по ведру продукта, злобно косясь на Олежку, садятся отдыхать, Олежек просит:
– Ну еще хоть по ведерку, а? Картошка же!
– Отдохнем. Потом!
– А сколько будем отдыхать? – умильно заглядывает в глаза Олежек.
– Полчаса! – рявкают пятнадцать глоток.
– Ой! – Олежку чуть удар не хватил.
– Двадцать минут, – снисходим мы.
– Десять, ладно? – причитает наш картофельный маньяк.
– Пятнадцать!
Олежек затихает. Обстановка стоит нервозная. Кажется, что слышно, как тикают неумолимые часы на Олежкиной руке. Последние минут пять нашего счастья он уже не спускает взгляда с циферблата. И вот: пик, пик, пик.
– Пятнадцать минут прошло, – с трогательной заботой не то о нас, не то о картошке уточняет наш друг.
Да, мы, правда, не были еще тогда коллективом – раз не убили Малышкина прямо там на грядке! Я не знаю, пойду ли я с Олежкой в разведку, но «на картошку» я с ним точно больше не поеду. Никогда!
8.
Зал шумит… Нам вручают студенческие билеты в читальном зале институтской библиотеки. Нас вызывают по одному, и декан жмет нам руки и желает всякому свое.
– Виктория Куклина, – оглашают очередное имя.
По проходу идет красивая девочка с замечательной аккуратной головкой и огромными голубыми глазами.
– Смотри, – шепчет сзади Олег Малышкин, – фамилия – Куклина, и сама на куклу похожа.
Да, Вика действительно была похожа на куклу. Она проучилась семестр или два и бросила. Она всегда хотела заняться высокой модой. И экстравагантность ее одежд, смягчаемая единственно шикарной фигурой, которая все-таки справлялась с творческим натиском храброй портняжки, давала к этому все основания. Не знаю, производили ли ее модели фурор на подиуме, но наших педагогов Вика потрясти сумела.
– Ой, что это за оранжевые штаны? – ужаснулась перед каким-то коллоквиумом Пантелеева при виде прохаживающейся по коридору Вики. – Что они здесь делают? Я надеюсь, это не наша студентка?
– Наша, наша.
– В таких штанах?
В таких, в таких, Людмила Тимофеевна. Штаны еще никогда не определяли человека. Вика была очень милой и неглупой девочкой. Но свои желтые штаны вместе со всем их содержимым она вскоре из института унесла. И наши педагоги ее к тому подтолкнули. И правильно ли это было?
9.
– Я буду преподавать у вас введение в специальность, – сказала нам Галина Борисовна вчера.
Тогда мы еще не знали, что это означает. Сегодня мы стали мудрее: мы танцуем какой-то сомнительный греческий танец в Доме пионеров, что рядом с институтом. Так, наверное, танцевали пленные троянцы, взбадриваемые острыми копьями пирующих победителей.
Галина Борисовна смотрит на нас и, близоруко щурясь, улыбается. И самое удивительное, что улыбается она не нашим мучениям. Нет, ей просто нравится, как мы танцуем. Это мы поймем потом: хороших людей так мало, что их трудно сразу распознать…
Мы танцуем греческий танец в Доме пионеров под присмотром Галины Борисовны…
10.
Галина Борисовна – педагог. Именно педагог, а не преподаватель, учитель, работник высшей школы и прочее. И самое дорогое ее качество – умение радоваться успехам других. Ох, как это тяжело. Это почти невозможно. Но есть, есть люди, которым дается эта радость легко и искренне, которые без оглядки на себя возликуют от вашего успеха. Галина Борисовна именно такой человек…
Она – Человек. Это бóльшая похвала, чем может показаться на первый взгляд. Так ли уж много вокруг нас настоящих людей? Почему же тогда так мало педагогов на нашей курсовой выпускной фотографии? Ведь мы всех приглашали. Лично. К каждому подходили и просили прийти. И ведь они – педагоги – не чужие нам все-таки: пять лет мы с ними были рядом, и пять лет они из нас что-то лепили. Не знаю уж, какими мы были Галатеями, а они – Пигмалионами, но прийти и сфотографироваться с нами могли бы.
Где же ректор, которого лучшие из нас неизменно выбирали на всех спецсеминарах? Где же Людмила Львовна Иванова? Где же ненаглядный наш куратор Альберт Сергеевич Смирнов? Где все они? Времени на нас не хватило?
А Галина Борисовна сидит себе в самом центре. Да она просто не могла не прийти. Как же так: столько лет мы были вместе – и вдруг она бы позволила себе не прийти и не остаться навсегда с каждым из нас маленькой частичкой себя, своего сердца и своей доброты. Мы были разными, но она любила нас всех.
Спасибо, Галина Борисовна. За все спасибо. И за эту фотографию тоже. Спасибо за то, что Вы отдали нам всю себя без остатка. Нам и тысячам других студентов – с других курсов, из других лет и десятилетий – тем, кого Вы учили быть учителями.
Далеко не все из нас остались в школе. Но, быть может, мы ушли оттуда, потому что совестно было быть плохими педагогами после всего того, чему Вы нас научили? Кто знает? Вы-то нас всех хвалили. Как известно, доброе слово и кошке приятно. А ведь мы не кошки, а люди. То есть существа более других нуждающиеся в добром слове и, к сожалению, менее других за него благодарные.
Галина Борисовна, Вы так навсегда и остались просто «преподавателем педагогики». Хотя именно Вам, если бы дано нам было такое право, мы накинули бы на плечи профессорскую пурпурную мантию.
11.
Двадцать восьмое декабря. Мы сдаем анатомию прямо под Новый год. Нечасто видели меня на лекциях по этому предмету. Не везет мне и сейчас: девчонки лезут вперед и в аудиторию не прорваться.
– Что, предмет сильно интересный? – спрашиваю я у Оксаны.
– Не знаю, – пожимает она плечами.
Да, Оксана, видать, тоже нечасто доходила до этих лекций.
– Тут такая очередь… – говорит Оксана, – тут такая очередь…
И мы едем с ней на такси по засыпанному снегом городу в театр Северного флота, где какая-то тетенька по предварительной договоренности выдает ей гусарский костюм. Оксана будет выступать в нем на новогоднем вечере.
К нашему возвращению тускло освещенный коридор пуст. Мы опасливо заходим в царство теней, скелетов и скальпелей. Увешанный, как злая волшебница Гингема, со всех сторон муляжами каких-то кишок, нас встречает анатом.
Тусклыми глазами мы смотрим друг на друга. Ком тошноты стоит у меня в горле. Мы с ним сразу понимаем, что вряд ли у нас очень много общих интересов, так что на долгую беседу взахлеб рассчитывать не приходится.
Анатом показывает мне плакат с жутчайшего вида куском мяса. Ком в моем горле поднимается все выше. Плакат очень натуралистичен.
– Это что у нас? – спрашивает педагог.
– Это у нас… у вас, – я не могу представить, что такое есть и у меня, – почка, – выдавливаю я.
Анатом вздыхает:
– Это не почка.
– Печень? – я прилагаю отчаянные усилия по сдерживанию тошноты.
– Нет, – входит в азарт мой собеседник.
– Желудок?
Если – нет, то я пас.
– Угадали. А что в него впадает и что выпадает из него?
– Впадает рот, а выпадает прямая кишка, – шепчу я томно, прижимая платок к губам.
– Ну, это, конечно, упрощенная трактовка пищеварительного тракта, но… – вздыхает анатом, выводя в моей зачетке заветное слово.
Я выхожу из кабинета и иду домой. Не нужна мне Оксана с ее гусарским костюмом, и обед мне тоже не нужен. И ужин не нужен тоже…
12.
Интеллигентами не становятся – ими рождаются… Идет конец второго часа семинара по общей психологии. И тут дверь открывается.
– Можно? – говорит красное осовелое существо, вползая нетвердым шагом в аудиторию.
Имя существу – Сергей Макаренков. Он даже пишет стихи, но и пьет больше Есенина. Сережа, как в сомнамбулическом сне, идет меж парт, дыша туманами перегара.
– Макаренков, Макаренков, – шепчут девчонки. – Это не твоя группа. Твои в тридцать восьмом.
– А? – говорит, как бы очнувшись, наш поэт. – А?
Проблеск разума обманчив: Сережа продолжает путь по проходу, силясь не натолкнуться на парты.
– У твоих зарубежка. Зарубежка у твоих, – уже в голос ревут девчонки. – В тридцать восьмом. За-ру-беж-ка-а-а!
До Макаренкова доходит наконец-то суть мысли, хотя детали, очевидно, остаются в тени. Так, наверное, собака понимает команды «фу», «нельзя», «назад». Так или иначе, но Сережа разворачивается в проходе со степенностью авианосца и уплывает вон, кивнув на прощание.
Психолог закрывает рот, открытый еще с того момента, когда Сережа сказал «можно?»
Не залежится этот Макаренков в институте, – мрачно вещает Марина Волохова.
И точно – не залежался. Со второго курса он ушел в армию и больше в стены вуза не вернулся.
13.
Кто-то мне говорил, что Лена Гришко сейчас работает продавщицей. Мне это кажется вполне понятным, логичным и даже каким-то закономерным. Что мне кажется непонятным, та это то, зачем Лена поступила на филфак пединститута. Почему не в кулинарное училище? Почему не на курсы буфетчиков? По конкурсу не прошла, что ли? Почему именно пединститут?
Трудно ответить на этот вопрос. Не вязалась Лена с ее крикливым грубоватым характером с литературой, не вписывалась она в сюжетные повороты и философские диспуты. Единственным положительным результатом для Лены за пятилетний срок, что отмотала она в институте, было замужество. Благодаря этому Лена смогла остаться в Мурманске и не возвращаться в захолустный поселок, откуда была родом. Родив ребенка, получив диплом и оставшись в областном центре, Лена стала продавщицей…
Но почему же она все-таки сразу не пошла в торговое училище?
14.
На фотографии наш курс стоит чинно рядами, где смешались воедино преподаватели и студенты, друзья и недоброжелатели, умные и глупые и где уж подавно мы не делимся на какие-то условные группы, данные нам на заре нашей учебы деканатом, чей «злой умысел» разделил нас, как кроликов из сказки.
Но группы-то все-таки у нас были. Их было две – «В» и «Г». Мы дружно сидели на лекциях или прогуливали оные. Мы даже не могли себе представить, чтобы сфотографироваться отдельно. Да, мы были единым курсом, но… Но группу «В» я все-таки знаю немного хуже.
Говорят, что первобытное стадо людей было однородным. Группа «В» выделилась из первобытного стада много сотен тысяч лет назад и потому была страшно разнородна.
В ней, например, училась Диана Ямансарова, которая все время выходила замуж. Нет, не подумайте ничего дурного: Диана выходила замуж все за одного и того же человека – таинственного морского офицера. То они уже заявление подавали, но у него был важный поход. То она уже платье заказывала, но он страшно заболевал. То она распределяться хотела в Североморск, к нему поближе, но его переводили куда-то, куда – сколько не иди – все равно не дойдешь. В общем, все время что-то случалось. Диану просто жалко было…
– И куда только парни смотрят, – плотоядно не выдержал как-то Дима Тормышев (сам он к тому времени уже был женат).
Я тоже не знаю, куда они смотрели так долго, пока Диана убивалась по своему моряку. Диана была красивой и очень доброй. Чего им еще надо было? Утешает одно: уже после окончания Дианой института офицер все-таки внял голосу разума. Диана вышла замуж, стала прапорщиком и переехала вместе с мужем в Севастополь.
Кроме Дианы в группе «В» учились Лена Шарыгина и Ира Фомичева. Лена училась в институте – как будто служила в армии, то есть, как будто ее туда насильно призвали. Ни к чему был ей этот институт. Много было у нее других, более серьезных дел. Не было у нее времени на детские шалости вроде лекций и семинаров. Лена рано вышла замуж и родила сына. У нее был муж-шофер. Был этот самый сын, который то болел, то его надо было за тридевять земель таскать в детский сад. И у Лены абсолютно не было времени, чтобы заниматься. Она и не занималась.
Ира Фомичева знала, как оверлочить петельку, как связать свитерок, где купить творожок. К обучению в вузе она была неспособна. У нее было сознание завхоза. Почему она не бросила учебу? Ведь высшее образование – это все же не курсы кройки и шитья? Не знаю.
А еще в группе «В» попадались – как глубоководные сплющенные рыбы в Марианском желобе – уж совсем темные и странные личности – Наташа Кондратенко и Марина Грибова.
Бог их знает, что они делали ночью, но днем они всегда отсыпались. На занятиях Наташенька и Мариночка были редкими гостьями. Приходили они иногда, да и то к третьей паре. Сначала слышался по коридору тяжкий стук кованых сапог. Он приближался. И тогда становился отчетливым дробный перебой второго подголоска. Затем в кабинет – пальто нараспашку, каракулевая шапка заломлена на ухо – строевым Чапаевским шагом входила Наталья, а за ней, как Санчо Панса, адъютантским скоком семенила Маринка.
– Щас Чупашева? – вопрошала Наталья
– Нет, сейчас Иванова.
– Тьфу, черт, обозналась, – ругалась гостья и вместе с верным оруженосцем спешно покидала аудиторию, а затем и учебное заведение в целом.
В силу такой маневренности раздевалкой девицам было пользоваться не с руки, потому они и ходили всегда «у польтах» и в сапогах. Тот факт, что эти подружки окончили институт, свидетельствует о том, что милосердие наших преподавателей принимало подчас уродливые формы.
Я помню, как после каждого «госа» Марина и Наталья вылетали из аудитории со стонами:
– Ой, наверное, двойка! Ой, я ничего не знала!
На «госах» мы сдавали литературу, язык, методику и педагогику. Если человек, закончивший филфак по полному курсу, не может сдать эти предметы, то какой же он специалист?
15.
Первый (конечно, после вступительных) экзамен – античная литература. Массы трепещут в коридоре. Я и еще несколько камикадзе сидим в аудитории и разглядываем злой волей доставшиеся нам билеты.
– Ты куда, Одиссей, от жены, от детей? – вертится в моей голове.
Здоровый студенческий цинизм вырабатывается годами лихих наездов на сессионные зачеты в экзамены. У первокурсников еще нет его. И требовать, чтобы они поведали миру о ситуации, царившей в античной богеме в течение двух веков, просто безжалостно.
Вялость и непонятность свили гнездо в душе моей. Передо мной уже двух умных девчонок отправили на пересдачу. Я сажусь перед Любовью Сергеевной.
– Древнегреческая литература в таких-то веках, – мямлю я вопрос.
У Ендовицкой в глазах загорается огонек интереса. Нет, не к древнегреческой литературной истории в моем исполнении. Эту историю она знает раза в два лучше самих тогдашних тупоумных греков и на три-четыре порядка лучше меня. Нет, ее интерес – это интерес энергичного хищника к своей жертве. Так Каа смотрел на Бандар-Логов. Я млею. Кто из нас Бандар-Лог сомневаться не приходится…
– О Каа, – шепчу я, как завороженный.
– Что? – переспрашивает Ендовицкая и тушит взгляд.
Я немного прихожу в себя и оповещаю:
– Эти века в древней Элладе по многим причинам не отличались литературной плодовитостью.
Ендовицкая хмыкает. Я – Хоббит, а она – Голлум. И нет у меня колечка в кармашке.
– Причина-то одна, – замечает Любовь Сергеевна, – писателей хороших не было.
– Не знаю, – чуть было не брякаю я, но вовремя одумываюсь.
– Но кто-то был? – вопрошает Ендовицкая.
– Был, был, много, кто был, – соглашаюсь я и начинаю нести все, что запомнил из лекций и учебников.
Ендовицкой явно надоедает. Она прохаживается от стола к окну и обратно. Дойдя в очередной раз до стола, она садится на стул и говорит:
– Достаточно.
Я – летучая мышь в нелетную погоду! Сейчас, сейчас.
– Четыре, – говорит Ендовицкая. – Неплохо.
Словно расцелованная лягушка, я принцессой вылетаю из кабинета. Из пятидесяти человек зарубежку сдали у нас с первого раза двадцать шесть. А пятерок было две или три. Да столько же четверок. Так что теперь по всем вопросам античной литературы – или ко мне или, если меня вдруг не окажется на месте, то к Любови Сергеевне…
16.
Деканат – это как аппендикс: орган важный, нужный, но непонятно зачем. И от которого на деле одни только неприятности. Наш деканат был рыбным: в нем жили декан Сомов и Селедка.
17.
– Как его звать-то, декана нашего? – спрашиваю я на первом курсе у наших девчонок.
– Сергей Александрович, – отвечает мне Марина Долгирева. – Как Пушкина, только наоборот.
Так он для меня и остался навсегда этим «Пушкиным наоборот». Сергей Александрович закончил истфак МГУ. Правда, говорили злые языки, что приняли его туда лишь потому, что он был из многодетной семьи. Так или иначе, но образование есть образование. И хорошее образование расширяет кругозор даже и детей из многодетных семей.
Сергей Александрович обладает очень важным качеством – способностью к компромиссу: он преподавал научный коммунизм, потом научный социализм. А закончил политологией. Причем все курсы читал он по одним и тем же конспектам. А деканатом тем временем заправляла секретарша Селедка.
18.
Зачем она замуж не вышла? Думаю, это ее и озлобило. Селедка работала секретаршей в деканате и держала бразды правления факультета в своих цепких руках. При этом она ненавидела нас всех. В этом надо отдать ей должное: она не делала никаких исключений.