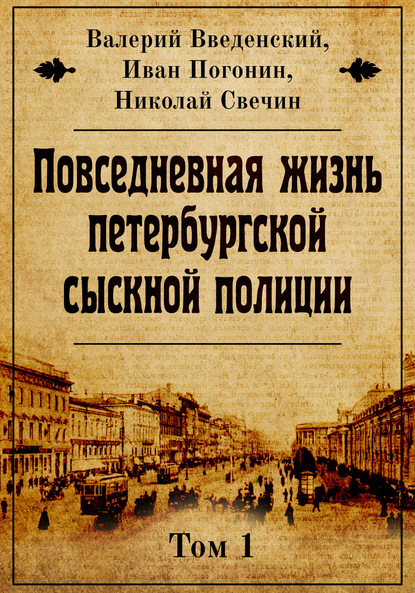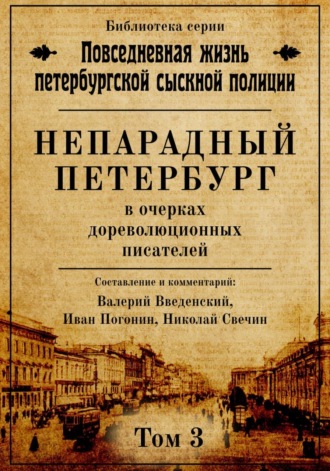
Полная версия
Непарадный Петербург в очерках дореволюционных писателей

Николай Свечин
Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции. Том 3
Предисловие
Этот сборник – для тех, кто хочет оказаться «на дне» дореволюционного Петкербурга: «похристрадничать» в рубище нищего, покопаться крюком в помойных ямах, прокатиться на козлах извозчиком, подкрепиться в Обжорном ряду, попьянствовать в трактире, заночевать в ночлежном доме, попасться полицейским во время облавы и после заключения в съезжем доме отправиться этапом на родину.
В первом томе «Повседневной жизни» петербургскому «дну» – мазурикам, ворам, нищим и т. д. – посвящена глава «География зла». Но из-за ограничений по объему книги мы были вынуждены опускать многие известные нам сведения, которые, мы уверены, интересны нашим читателям. Поэтому и собрали этот небольшой сборник. Как и в предыдущих томах, мы попытались, насколько возможно, снабдить текст культурологическими и топонимическими комментариями.
Коротко об авторах произведений, включенных в сборник:
Николай Николаевич Животов (19 (31) августа 1858 года —26 июня (08 июля) 1900 года). Происходил из дворян. В 1877 году сдал экзамен на звание учителя начальных училищ. С начала 80-х годов начал работать в петербургских газетах, считался одним из самых умелых репортеров столицы. Некоторые его очерки, в том числе публикуемые здесь «Петербургские профили», после публицикации в газетах выходили отдельными изданиями. В 90-х годах Н.Н.Животов, кроме репортажей, писал также криминальные романы. Похоронен на Смоленском кладбище Петербурга;
Николай Платонович Карабчевский (29 ноября (11 декабря) 1851 года – 22 ноября 1925 года). Сын полкового командира. В 1868 году окончил Николаевскую реальную гимназию, в 1875 году – юридический факультете Санкт-Петербургского университета. С 1879 года служил присяжным поверенным. Был защитником обвиняемых в самых громких дореволюционных судебных делах: «процессе 193-х»; «деле И.И. Мироновича»; «деле Ольги Палем»; «деле мултянских вотяков»; «деле М.Бейлиса». Кроме публицистических и юридических статей, сочинял и беллетристику. После 1917 года жил в эмиграции. Умер и похоронен в Риме;
Николай Иванович Свешников (16 (28) августа 1839 года – 25 июня (7 июля)1899 года). Сын мещанина, торговца холстом. Окончил приходское и уездное училищи в городе Углич. В 1852 году был отправлен отцом в Петербург, где сперва служил «мальчиком» в свечной лавке, трактире и булочной, затем сторожем в балагане, печником и т. д. С 1859 года торговал книгами в разнос. Из-за присрастия к алкоголю, постепенно «опустился». В 1870 году за кражу со взломом был приговорен к заключению в работном доме, где начал писать воспоминания. В 1899 году их фрагмент под своим именем опубликовал Н.С.Лесков (очерк «Спиридоны-повороты»). В 1896 году книга Свешникова «Воспоминания пропащего человека» уже под именем автора была напечатана полностью в журнале «Исторический вестник». После смерти Н.И. Свешникова отдельным изданиям вышел сборник его очерков «Вяземские трущобы», которые размещен в данном издании;
Анатолий Александрович Бахтиаров (3 (15) июля 1851 года – 23 ноября (16 декабря) (или 21 сентября (4 октября)) 1916 года). Сын чиновника. Окончил Московскую учительскую семинарию военного ведомства. Сужил преподавателем русского языка в Петербургской военно-фельдшерской школе. С 1884 года параллельно стал писать статьи для газет и журналов. Затем его репортажные очерки по физиологии Петербурга были изданы в сборниках: «Брюхо Петербруга» (1887 год), «Пролетариат и уличные типы»)1895 год), «Отпетые люди» (1903 год) и др.;
Всеволод Владимирович Крестовский (11 (23) февраля 1839 года —18 (30) января 1895 года). Дворянин польского происхождения. Учился в 1-ой Санкт-Петербургской гимназии и на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Литературную славу Крестовскому принес его дебютный роман «Петербургские трущобы». В жанре физиологического очерка написал три книги: «Петербургские типы», «Петербургские золотопромышленники», «Фотографические карточки петербургской жизни» (1865). Могила В.В. Крестовского ныне находится на Литературных мостках Волковского кладбища.
Основные источники, использованные составителями для комментариев:
• Адресные книги города С. – Петербурга под редакцией П.О. Яблонского» (1892–1902 гг.);
• Адресные и справочные книги «Весь Петербург – Весь Петроград» (1894–1917);
• Большая Топонимическая Энциклопедия Санкт-Петербурга: 15000 городских имен / [под ред. А.Г. Владимировича]. – Санкт-Петербург: ЛИК, 2013;
• Алянский Ю.Л. Увеселительные заведения старого Петербурга / Юрий Алянский. – СПб.: Аврора: Стройиздат СПб., 2003;
• Демиденко Ю. Б. Рестораны, трактиры, чайные..: из истории общественного питания в Петербурге XVIII – начала XX века / Юлия Демиденко. – Москва: Центрполиграф: Санкт-Петербург: Русская тройка-СПб, 2011;
• Векслер А. Ф., Крашенинникова Т. Я. Такая удивительная Лиговка / Аркадий Векслер, Тамара Крашенинникова. – Изд. 2-е, дораб. и доп. – Москва: Центрполиграф; Санкт-Петербург: Русская тройка-СПб, 2012;
• Город С.-Петербург с точки зрения медицинской полиции: Сост. по распоряжению г. С.-Петерб. градонач. ген. – майора Н.В. Клейгельса врачами Петерб. столич. полиции при участии и под ред. ст. врача И. Еремеева. 1897 г. – Санкт-Петербург: тип. Ломковского, 1897;
Николай Николаевич Животов «Петербургские профили»[1]
1. Среди бродяжек – шесть дней в роли оборванца
1Я достал старые дырявые тиковые[2] шаровары, такую же рубашку, весь в дырах засаленный сюртучишко, опорки[3] без подошв, портянки… В таком наряде, подмазав физиономию и надвинув ветхий картуз с разъехавшимся козырьком на глаза, вышел из своей квартиры по чёрной лестнице…
Мне предстояло ознакомиться с закулисной внутренней стороной жизни бродяжек, число которых определяется в Петербурге тысячами. В одну ночь нас, оборванцев, полиция забрала при обходе ночлежных домов более тысячи человек. Я в число арестованных не попал, во-первых, потому что у меня "безупречный" паспорт находился при себе, а во-вторых, чиновник сыскной полиции, руководивший обходом, знал меня лично… Впрочем, этих наблюдений за шестидневное скитание по притонам и трущобам подпольного Петербурга у меня накопилось довольно. Я почти не касался внешности притонов, с такой полнотой описанных до меня, не касался и грязи, вони трущоб, составляющей заботу санитарных комиссий… Меня исключительно интересовала жизнь бродяжек, их быт, прошлое, настоящее и будущее.
Ведь каждый бродяжка – человек не из глины и песочка, а из тела и души, как все мы с вами, читатель. Скажу более. Большинство из нас, ожиревших, равнодушных ко всему, кроме собственной утробы, представляют серую картину будничного прозябания: вчера как сегодня, завтра как вчера и так вся жизнь от купели до гроба. Между тем, среди бродяжек, что ни субъект, то драма, трагедия или, по меньшей мере, ряды поучительных злоключений, о которых можно сказать, что это было бы смешно, если бы не было грустно!
Что вы скажете, например, о чиновнике, дошедшим до большого чина и служебного положения, который такой же бродяжка как и я, обнял меня и со слезами расцеловал за… за… один стаканчик водки! Эти дрожащие, чёрные от грязи руки, когда-то писали предписания и распоряжения, а теперь протягиваются только за копейкой и за стаканчиком… Неужели это не драма? Разве не интересно проследить, как этот субъект совершил своё превращение, к ужасу всех своих близких? А вот купец-гостинодворец, имевший свои кладовые, лавки и дома… Он дрожит, не попадая зуб на зуб, от холода, а сквозь дырья одежды просвечивает старческое тело…А сколько таких «перекувырнувшихся» богачей, когда-то спаивавших целые орды прихлебателей в «Зимних садах»[4], «Палекристаллах»[5] и других веселых уголках… Если бы тогда им показать их теперешнюю фотографию?
Да, среди бродяжек много жизни гораздо более интересной, чем мы видим на театральной сцене, в гостиных знакомых, в салонах, клубах и собраниях! И эта жизнь стоит наблюдения, но наблюдения не в монокль или с высоты бельэтажа. Так вы ничего не увидите, и ни один бродяжка не станет с вами говорить! У каждого из них есть свое самолюбие, кладущее холодную печать равнодушия, когда он встречается с «господином»…Вот почему только в роли оборванца можно сойтись с бродяжками как с людьми и увидеть близко их жизнь. Бывший начальник сыскной полиции И.Д. Путилин отлично знал эту особенность быта бродяжек и потому, когда он хотел что-либо узнать, его чиновники переряжались в арестантов и «подсаживались» к бродяжкам; результаты всегда получались удовлетворительные. А на официальном допросе этот бродяжка был только «арестант за номером таким-то», с лаконичными ответами на вопросном листе.
2Было холодное осеннее утро, когда я вышел из дома в своем новом наряде.
– Но где можно достать прямо рваный наряд? – спросит читатель.
Бродяжки имеют всё свое собственное: поставщиков, биржи, рестораны, отели, клубы и все прочее. Есть специальные лавочки и маклаки, которые переодевают бродяжек. Например, бродяжка куда-нибудь отправился: оделся более или менее прилично, но ему хочется выпить, а выпить не на что… Он идет к маклаку. Здесь с него снимают костюм, одевают лохмотья и разницу выдают наличными деньгами, на которые он может хорошо выпить. А костюм? На что бродяжке костюм? Он и голым вышел бы, если бы не забирали нагих в полицию. Ему решительно всё равно, в чем он одет, если только на дворе не лютая стужа, а в кармане есть один или два пятака на выпивку. Вот последнее обстоятельство нередко доводит бродяжку до преступления, не исключая грабежа, потому что честным трудом достать гривенник бродяжке почти невозможно: на место служить его не возьмут; в поденщину его бракуют как слабосильного; рабочих домов у нас нет; нищенство запрещено… А голод ведь не тетка, особенно если душа требует стаканчика. Требует так сильно, что подвернись случай – бродяжка мог бы совершить геройский подвиг; но подвертывается чаще всего случай стянуть что-нибудь, не исключая дубинки у приятеля…
Десятки раз я наблюдал воспаленные глаза бродяжки, трясущиеся руки, стучащие зубы и губы, шепчущие мольбы… Он бросается, мечется по сторонам, лихорадочно хватается за окружающее, забывает все на свете и готов идти на каторгу за стаканчик в эту минуту. Скажите ему: «на, выпей», и он заплачет от радости, бросится вам в ноги и исполнит всякое ваше приказание. Зато, если надежда на стаканчик исчезает и «душа» не удовлетворена, он становится страшным! В такие минуты он способен на всё, и, мне кажется, большинство преступлений совершается именно при таком состоянии. Все лицо бродяжки искривляется, кулаки сжимаются, глаза застывают в состоянии не то гнева, не то ужаса…Смотреть в такие глаза жутко.
Попробовал и я однажды пригубить предмет страсти бродяжки, то есть стаканчик в питейном доме на углу Лиговки и Обводного канала[6]! Боже правый! Что за водка? Это какая-то отрава, дурман, нечто совсем невозможное! Очень вероятно, что питейные дома просто отравляют своих посетителей, медленно приучая их к отраве, как приучают себя морфинисты? Это положительно не водка.
Первый день своего интервью я посвятил Обводному каналу с его чайными, кабаками, ночлежными приютами. Второй день – Лиговка, ночлежный дом Общества благотворителей и чайная Общества трезвости[7]. Третий день – Сенная, Таиров[8] переулок, Никольская площадь. Четвертый день – Выборгская сторона и Петербургская. Пятый – застава, и шестой – гавань с «Дерябинскими казармами». Я приобрел до ста «друзей» среди бродяжек, записал более двухсот бытовых историй, осмотрел несколько сот трущобных заведений! Никогда я не думал, что размеры бродяжного Петербурга так велики, что так много людей, живущих без пристанища, в рубище.
Разве этот мир не заслуживает нашего внимания, не стоит описания и не представляет бытового интереса?
3В первый день моего «интервью в роли «оборванца» я больше всего страдал от холода…Буквально зуб на зуб не попадал, а согреться рюмкой водки я не мог: в кабаке водку пить невозможно – это, как я сказал, отрава, мутящая душу и дурманящая голову, а в сносный трактир меня не пускают. И странное это обращение! Прямо за плечи и в шею! В самом деле, почему же с бродяжкой нельзя иначе разговаривать, как по шее? Только приоткрыл я дверь и вошел в полугрязный трактир на Обводном, как «услужающий» бежит навстречу, берет за плечо и толкает обратно в дверь… Я открыл рот для протеста и… бежит другой «услужающий»… Готовилась формальная выставка и пришлось от греха уходить…
Очень странное чувство испытываешь, когда идешь бродяжкой по улице… Вот уж воистину по костюму встречают! Городовой зорким взглядом осматривает с головы до ног и провожает долгим взглядом, раздумывая: «взять его или не стоит?» За что взять? Вот ещё вопрос! Мало ли за что бродяжку можно взять? Он, наверное, что-то сотворил, а если не сотворил, наверное, сотворит…Уже одно то, что бродяжка – говорит за нелегальное его существование в столице.
Но ещё более тяжелое чувство вызвали встречи с «господами»…Какой-то барин в цилиндре окинул меня презрительно гневным взглядом и обозвал «дрянью», хотя я ровно никому ничего не сделал и каждому смиренно спешил дать дорогу. Каждая встречная дама испуганно от меня сторонилась и крепко прижимала к себе свою ридикюль, точно я собирался броситься на неё грабить! Неужели в самом деле довольно выйти в оборванном костюме, чтобы от тебя как от чумы или прокаженного все бегали? Неужели все бедняки непременно воры, грабители, убийцы?
С такими мыслями дошел я до скрещения Лиговки с Обводным каналом, где Лиговка перестает носить честное название улицы-бульвара[9] и превращается в вонючий канал… Тут я вздохнул свободнее, почувствовал себя как рыба в воде…Тут не встретишь ни важного барина, ни благодетельного купца 1-й гильдии, ни шикарной дамы, слабые нервы которой не переваривают бродяжек… Тут наш квартал, квартал оборванцев, пропойцев и бесприютных бродяжек. Мы встречаемся тут друг с другом без антагонизма. Я не только перестал сторониться, но не боялся даже заговорить со встречающимися, тогда как заговори я с «барином» на Невском, он, наверное, отправил бы меня в участок за покушение на грабеж, а «барыня», если бы не упала в обморок, то заорала бы на всю улицу: «Караул!»
Впрочем, самый отвратительный для нас, бродяжек, народ – это «рвань-баре», как мы зовем швейцаров, дворников, лакеев. Это положительные гроза и мучители бедняков, перед которыми они считают себя важными особами! Я, например, за шесть дней не слышал ни одного бранного слова от городовых (мимо них я всегда семенил мелкой рысью; с одной стороны это почтительно, с другой стороны – ускорительно, то есть, скорее минует опасность), не имел ни одной неприятности или столкновения с прохожей публикой, а швейцары, дворники и лакеи не пропускали меня без глумлений, издевательства и чуть ли не побоев, решительно без малейшего с моей стороны повода! Например, такие случаи. Иду я по Загородному около Подольской… Дворник стоит в тулупе с бляхой на груди и руки в кармане. Я дрожу, не попадая зуб на зуб…
– Стой- с…! – раздается команда.
Я не обращаю внимания и продолжаю идти.
– Ты не слышишь? – кричит дворник.
Я обернулся и посмотрел на «собаку» (так у нас зовут дворников).
– Ты куда пошел? – обращается дворник, поднося грязный кулак к самой моей физиономии.
Я не знал, что ответить, не желая заводить скандала; если бы я вломился в амбицию, то раньше, чем моё инкогнито было бы раскрыто, я рисковал потерять несколько ребер…
– Я тебя…
И опять непечатная ругань. Я всё молчу и именно поэтому «собака» утихла….
– Пошел назад! – сказал он мягче и отвернулся.
Я вернулся.
В другой раз я шел по Разъезжей. Жирный с наглой физиономией швейцар схватил меня за рукав, и без того рваного сюртучишка; добрая половина рукава осталась у него в руках. Раздался веселый смех… Швейцар бросил в меня лоскутом, и, гогоча, проговорил:
– Эй, ты, бархатный барин, давно ли с Казачьего плаца[10]?
Я не стал, разумеется, защищать свои права, и продолжил путь…
По Невскому проспекту, Морской улице и другим людным местам дворники не только ворчали меня с криком: «Вон, рвань!», но нередко «травили», то есть гнали с кулаками, заставляя бежать от греха.
В нашем квартале нет дворников и швейцаров: последние совсем отсутствуют, а первые относятся к нам, как к местным обывателям, довольно снисходительно. Здесь, после путешествий по Загородному и Разъезжей, мне даже вонь Лиговки мила, а грязь улиц и дворов показалась чем-то родным. На откосе Обводного канала лежало человек 15 бродяжек и я направился к ним. Внизу по обмелевшему каналу двигалась барка, копошились рабочие, бабы полоскали бельё, свесившись над водой, а на высоком зеленом берегу лежали бродяжки.
Все они лежали на спине, с плохо прикрытой наготой и подложив под головы руки. Среди них было три женщины и десять мужчин. Когда я стал приближаться, некоторые повернули головы, но сейчас же, приняв прежние позы, не обращали больше на меня внимания. «Нет», – услышал я короткое замечание и больше ни звука. Прежде чем приблизиться к компании, я осмотрел их издали. Среди мужчин было большинство бородатых, заросших волосами и грязью стариков, но два-три совсем молодые парни. Женщин с трудом можно было отличить от мужчин только вблизи. Это какая-то пародия на женщин: сухие, беззубые, с корявыми лицами, в коротких рваных юбках на голом теле…
Минут пять я простоял, не будучи в состоянии дать себе отчета в мыслях. Отвращение, жалость, брезгливость и холод все вместе заставляло меня дрожать и у меня появилась мысль бежать, снять с себя «мундир» и отказаться совсем от «интервью». Что это: малодушие, трусость или просто нервное состояние? Однако «взялся за гуж – не говори, что не дюж!» Я сделал над собой усилие и подошел совсем близко к компании. В одном кармане у меня была запасенная бутылка столовой водки, а в другом хлеб и колбаса. Я сел рядом с компанией и, доставая провизию, сказал громко:
– Не хотите ли, братцы, могу поделиться?
Если бы в эту минуту там, внизу, перевернулось бы вверх дном несколько барок, впечатление, наверное, не было бы сильнее. Все бродяжки, мужчины и женщины, вскочили с травы и мигом меня окружили.
– Э…э… да у него «поповка»[11], – закричал старик, – ты это из каких же, милый человек, что «поповку» пьешь?
– Это у него бутылка только «поповская», – заметил другой, – смотри, не вода ли там?
– Ну, соси[12] сам сначала и передай нам, – скомандовал один из них.
Раньше я не мог рассмотреть его физиономии, а теперь он стоял к лицу передо мной. Я взглянул и…бутылка вывалилась у меня из рук. Этот бродяжка, этот несчастный оборванец – старый литератор, автор нескольких прекрасных идейных романов и недавно ещё газетный сотрудник. Я уставил на него глаза и не слышал хохота кругом.
– Ты ли это? – назвал я его по фамилии.
– Да, я, а ты откуда меня знаешь?
Через полчаса мы сидели с Иван Ивановичем (псевдоним) в одной из «рестораций» в деревянном домике с цветными ставнями, как в провинции. «Ресторация» состояла из буфетной комнаты и двух небольших каморок со столами без скатертей и табуретами; в одной из каморок полулежали на столе и спали двое бродяжек. Мы сели в смежной каморке и Иван Иванович заказал «двоим чаю на шесть копеек». Впрочем, в чашки мы налили вместо чая моей водочки и, «пропустив», закусили колбаской. Вид моего собеседника сразу принял радужное выражение, глаза сделались масляными, губы сложились как-то умильно, голова склонилась немного на сторону и он тихо начал:
– Да, вот где нам довелось встретиться! Ну, я-то пьяница запоем, забулдыга, одинокий, а ты, ты-то как дошел до этого вида? Ведь у тебя семья была!
Я рассмеялся и успокоил его на свой счет.
– Нехорошо! Зачем издеваться над нашим несчастьем?
– Да кто же тебе говорит, что я издеваюсь? Вовсе нет! Напротив! Я хочу испытать на себе ваше положение и рассказать в печати свои впечатления, чтобы установить правильный взгляд на вас, бродяжек. Публика считает вас мазуриками, мошенниками, тогда как вы в большинстве случаев глубоко несчастные люди и только! Ты вот сам пишешь, а рассказать свое положение не можешь, потому что сжился с ним, не замечаешь его; все равно, как мы, петербуржцы, живя здесь, не замечаем красот города, а приедет провинциал и сейчас все осмотрит, восторгается. Если же я пошел бы в своем костюме, я ничего не увидел бы и не услышал… Вот чем объясняется мой маскарад! Неужели ты думаешь, что мне очень приятно переживать эти дни?
– Ну, Бог тебе судья! А я вот шестой год наслаждаюсь прелестями Обводного канала и ночлежным домом Кобызева[13]…
– Ты, я думаю, можешь быть моим проводником по трущобам?
– О, нет! За шесть лет я не был нигде, кроме здешних трущоб. Даже в Вяземской лавре[14] не был, а про острова и заставы даже не слышал ничего…
– Постой, что же ты, однако, делаешь, чем питаешься?
– Как тебе сказать…Птица небесная…В прошлом году напечатал рассказ в … Получил 120 рублей и в неделю их спустил, долги заплатил; весной тут на барке работал, дрова катал, но большей частью ничего не делаю и живу надеждой…
– На что?
– Напиться. Другой цели у меня нет. Сегодня я напьюсь?
– Пей, что ж, я могу поделиться…
Пока мы говорили, Иван Иванович успел четыре раза подлить себе в чашку и бутылка почти осушилась…Он проделывал это так искусно, что я ни разу не заметил его маневра…
– У меня, брат, чистота в карманах, да и бутылочка того…
Я достал рублевую бумажку, и Иван Иванович шмыгнул как на крыльях из «ресторации»…Через минуту он вернулся ликующий…
– Я полштофа[15] взял, прости, ведь и ты выпьешь?
– Так рассказывай же ещё про себя.
– А ты написать не вздумай. Ещё чего доброго кому-нибудь до меня дело окажется, помогать вздумают; ради всего прошу – ни слова!
– Фамилии твоей я не напечатаю, а про встречу расскажу.
– Ну, это можешь. Пиши – Иван Иванович.
– Это твой псевдоним.
– Э…плевать. Мне теперь на всё плевать.
– Что же, тебе, пожалуй, можно позавидовать! Ты, как Диоген, не имеешь никаких привязанностей к жизни.
– И хорошо! А вы все зависите от других, от среды света, окружающих. Это тоже кабала! Ты ведь помнишь, отчего я первый раз запил? Умерла моя невеста. Мне тогда было 24 года. Вот когда я узнал, что значит страшная привязанность! Можно сказать, что с тех пор я не отрезвлялся, разве только по необходимости, когда не на что выпить. Но с годами это состояние прошло, и осталась одна страсть к водке.
– Видишь, как ты сам себе противоречишь: разве страсть к водке не та же привязанность, кабала, зависимость?
– Пожалуй, только у нас такое количество кабаков и водка так дешева, что зависимость от этой кабалы не страшна.
Иван Иванович стал заметно хмелеть, язык заплетался и через час он уснул на столе. Усилия растолкать его были тщетны, и мне пришлось уйти, не попрощавшись. Скорее на воздух! Мне становилось невыносимо душно в этой смрадной атмосфере в присутствии этого погибшего товарища.
В романах люди спиваются как-то скоро, а тут пятнадцать лет уже прошло и кто знает, сколько ещё лет впереди.
4При выходе из «ресторации» я наткнулся на толпу бродяг, о чем-то шумно толковавших.
– Полковник, – кричали бродяжки, – давай две косушки[16], ты сегодня католик!
«Полковник», «католик» – я ничего не понимал и остановился около толпы. «Полковник», детина лет сорока, среднего роста, плотный, с когда-то черной, но сильно поседевшей бородой клином; из-под рваного картуза выбивались пряди войлокоподобных волос; правильно-продолговатый нос и впалые карие глаза свидетельствовали о минувшей красоте «полковника».
– Товарищи, – закричал я, – хоть я и не «католик» на две косушки «настрелял»[17].
– Волк его забодай, да ты «итальянку ломал»[18] или «торгаш»[19]? Все равно, веди в «стойку»[20]…
Мы направились в соседний питейный дом.
Описывать ли внутренности этого «дома», пропитанного сивушным запахом?[21] Отмечу только, что при самом входе на дне опрокинутой бочки какой-то бродяжка писал письмо в деревню. Нас встретил «капитан», состоящий на посылках у целовальника и получающий за свои услуги иногда стаканчик. «Капитан» всех вошедших знал и только на меня покосился, а остальным приветливо махнул головой, приглашая к прилавку… Он увивался, очевидно, рассчитывая на стаканчик, и обиженно отошел в сторону, когда узнал, что угощает «новичок».
– Капитан, позвольте и вам поднести? – обратился я к нему.