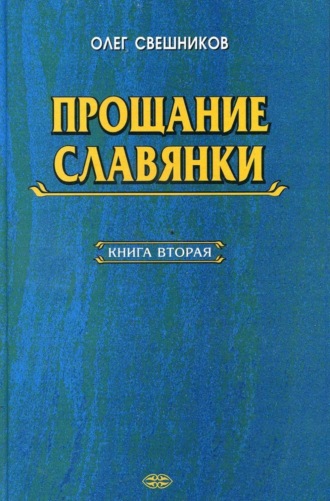
Полная версия
ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ. Книга 2
На этот раз вражеские танки оставили психическую атаку. Слишком много машин горело, дымилось желтыми клубами на поле сражения. Они открыли гибельный огонь уже с дальнего расстояния! Палили бешено. И не в белый свет. Над пушками
артдивизионами высоко, у самых облаков, летали самолеты «Фокке-Вульф», какие с высоты корректировали огонь.
Все опять смешалось, спуталось в водовороте огня и дыма, снарядных разрывов. Несмотря на то, что воины, едва приподняв голову, обреченно падали в смерть, все батареи ответили на сокрушительный огонь. Началась нескончаемая дуэль пушек с танками. Свист снарядов объял, заполнил всю землю. Вспышки от выстрелов бесконечно загорались и гасли кострами, словно на поле сражения шел диковинный танец света и тьмы.
Орудие Михаила Ершова разило танки метко, удачливо. Фашисты ее отметили, стали окружать. Снаряды рвались у орудия все щедрее, воины только успевали прятаться за шит от летящих осколков. Но вот у пушки с оглушительным воем разорвался снаряд. Фонтан из огня и земли взметнулся в небо! Ощущение такое, обвалилась каменная гора! И камни разрушительным половодьем понеслись на пушку, сшибая в гибель, в излом, ее и героев-воинов.
Орудие ушло в молчание!
Над окопом взлетел траур!
Спустя время, тяжело приподнялся Ершов, выполз из могильного холма. Кровь текла по его лицу, скапывала на грудь, на гимнастерку. Отплевывая землю, превозмогая боль, тихо спросил:
─ Живые есть?
Прихрамывая, тоже крепясь от боли, подошел и встал у орудия Башкин.
─ Все? ─ сурово спросил командир.
Воин не ответил. Они оба, как сговорились, в мгновение посмотрели на наводчика. Павел Куликов лежал неподвижно, сгорбившись, руки распахнуты, словно хотел на прощание обнять и поцеловать русскую землю. Лежал в крови, какая перемешалась с землею. Смотреть было страшно.
Близко донесся грохот битвы. Ершов как ожил, опомнился. Тихо спросил:
─ Как пушка, Александр?
─ Жива! Щит разбит, броня треснула.
─ Садись в кресло наводчика!
Башкин быстро открыл затвор, загнал снаряд в казенник. И в перекрестье прицела стал рассматривать поле сражения.
Михаил Ершов, еще в трауре, тоже стал его вдумчиво рассматривать в бинокль:
─ Бери танк, что выскочил на взгорье! Сам отдается! За Родину, за Сталина! Огонь!
Выстрел не получился. Снаряд пролетел мимо.
Командир орудия взбеленился:
─ Куда к дьяволу стреляешь? ─ он сам внес поправку в прицел, пока Башкин засылал тяжелый снаряд в казенник пушки. ─ Смири волнение! В сталь обратись! В снаряд, какой посылаешь в танк!
Успокоившись, артиллерист Башкин подкрутил панораму к цели, нажал на спуск. Резкий грохот сотряс воздух. Орудие дернулось, полыхнув ослепительным пламенем, и снаряд точно ударил по черной башне танка, с которого торопливо, в панике стали спрыгивать немецкие автоматчики.
─ Быть тебе командиром батареи! ─ возликовал Ершов, довольно рассматривая в бинокль поле сражения. Увидев, как из лощины цепью вывалилась пехота, нетерпеливо подал команду: ─ Заряжай осколочными! Огонь! Огонь! ─ вновь и вновь приказывал он.
И Башкин в жаре, в поту, размазывая в суете по лицу черную гарь, сжав спекшиеся в порохе губы, без устали, уже не пригибаясь, не боясь пуль и осколков, метался по изученному крестному пути от орудия до ящиков с боеприпасами. Загонял в казенник то бронебойные снаряды, то осколочные, садился в кресло наводчика и стрелял, стрелял, поражая фашистское воинство.
Но немецкие танки все шли и шли вперед, решив умереть или разделаться с непокорным орудием.
Неожиданно Башкин вскричал в испуге:
─ Командир, кончились снаряды! Все ящики расстреляны!
─ Что, значит, кончились? ─ взревел Ершов. ─ Живо спустись в землянку командира огневого взвода. Там есть запас, тридцать снарядов! Не мельтешись, быстро! ─ с угрозою потребовал он.
И в тот момент, когда воин-храбрец занырнул в землянку, прикрытую плащ-палаткою, у пушки раздались три взрыва, заполнив вокруг пространство пороховым дымом и пламенем. Скопище осколков осыпало горячим железом пушку, изогнуло ее в подкову! Выбежав со снарядом, Башкин увидел у пушки глубокую воронку, где он сидел в кресле наводчика, и где теперь густела гибельная пустота, невольно подумал: не спустился бы в землянку, точно бы убило!
И опять удивился: почему же не убило?
Ужели его матерь Человеческая, благословенная Мария Михайловна, нашла единение со святою Богородицею, и постоянно отмаливает его от смерти?
Чудо! Живое чудо!
Вернувшись к себе, в битву, стал искать глазами Михаила Ершова, желая угадать, од каким завалом лежит командир? Надо было скорее его раскопать! Может, еще жив? Но где он, где? Ужели снаряд попал в живую плоть и та плоть обреченно разнеслась в разные стороны вместе с осколками? Так воины умирали не раз! И только у Бога заново собирали плоть, угадывали человека, кто он? Чем жил?
Так думать было страшно. Но вскоре он увидел, как в самом углу траншеи, зашевелился могильный холм, и показалась треснутая каска Ершова. Он подбежал, помог ему выбраться. Сержант встать не мог, сидел, прикрыв лицо руками. Между пальцами сочилась кровь.
─ Врача, врача! ─ во всю силу души крикнул Башкин, желая перекричать зловещие раскаты сражения. ─ Помогите, помогите!
Надежда Сурикова выносила с поля битвы раненого артиллериста, когда услышала крик о помощи. Спустившись в траншею, врач в тревоге наклонилась:
─ Михаил, родненький, что случилось? Покажи, куда ранен? В глаза? Ты ослеп? ─она пыталась с необычною нежностью отнять его руки с лица.
─ Это ты, Наденька, ягодка сладенька? ─ с любовью, пряча боль, произнес он. ─ Кто еще? Такие ласковые руки. Открою глаза ─ и увижу тебя! Увижу солнце! Ведь увижу? Как же я стану жить, если не буду видеть тебя, любимую?
Врач поняла, командир орудия контужен взрывом. Он ничего не слышал, ни себя, ни поля сражения. Он только чувствовал ее близость. И жил ею.
─ Отними руки, ─ ласково попросила женщина от милосердия. ─ Только не спеши глаза открывать. Хорошо?
Она взяла ватку с йодом, стала осторожно очищать веки от осколочного стекла. Затем чисто промыла спиртом брови и лицо. Не чувствуя больше под чуткими пальцами опасности, колкого стекла, попросила открыть глаза.
Михаил Ершов принял отречение:
─ Боюсь, ─ слепо улыбнулся сержант. ─ Боюсь, что больше не увижу тебя. И солнце.
─ Увидишь, ─ заверила врач, сама не зная, насколько права. ─ Еще надоем! И я, и праздник света.
─ О чем ты? ─ выразил волнение Ершов, блуждающе нащупав ее руки, в печали целуя. ─ Разве можешь ты надоесть? Страшно не это. Страшно жить незрячим. Не видеть тебя. Вот что страшно.
Женщина, решившись, сам разлепила ему глаза.
Со страхом спросила:
─ Видишь?
Ершов закрыл глаза ладонями, медленно открыл:
─ Вижу, Надя, вижу! ─ радостно воскликнул он. ─ Помоги встать!
Надежда подала руку, воин поднялся. И он совсем неожиданно взял ее на руки, закружил в ласковом вальсе у пушки. Но быстро обессилел, выпустил ее из рук, присел на станину. ─ Закружилась голова, ─ честно, с сожалением признался артиллерист.
─ Ты контужен, ранен, потерял много крови. Надо срочно идти к реке Девица, на пункт эвакуации. Ночью придет пароход, повезем вас в госпиталь.
─ Перевяжи мне голову, ─ тихо выговорил он. ─ И налей спирту. Я выпью.
Он выпил, поцеловал любимую:
─ Иди! Раненые ждут тебя. Я останусь. Я не могу срочно! Прости! Я должен бить врага. Я обессилел, да. Потерял много крови. Но я еще не утратил честь и совесть! Я должен взять Семилуки. Такую клятву я дал себе и России. Иди, не то я заплачу. Уже подступают слезы.
─ Почему заплачешь? ─ нежно спросила Надя Сурикова. ─ Раны мучают?
─ Зачем так спрашивать? Ты знаешь, почему? Я люблю тебя! И боюсь, что убьют! Если убьют, значит, вижу тебя в последний раз! Почему и плачу!
Он желал на прощание поцеловать ее в губы, но устыдился, и поцеловал руку, как джентльмен:
─ Все, иди, ягодка! Тебя ждут раненые.
Любимая женщина сама поцеловала воина. И, взяв сумку с красным крестом, выбралась из траншеи, и как исчезла, истаяла в дыму, спеша к раненым на поле сражения.
Михаил Ершов громко крикнул:
─ Живые есть в траншее?
─ Есть, командир! ─ подбежал Башкин, глаза горели битвою, у груди держал пулемет; правая щека опалена красно-пороховыми вылетами пуль. ─ От фашистов отбиваюсь! Прут бешено. Как озверели.
Он подошел к пушке:
─ Как голубушка? Отслужила? ─ он с любовью погладил остывший ствол.
─ Живое! Чего станет? У пушки колеса на резине! Попрыгает, как царь-государь на балу, и снова, как с гуся вода! Но сильно разбит прицел!
─ Разбит прицел! Разве это беда? ─ возликовал командир орудия. ─ Бьем враг прямою наводкою! Заряжай осколочным! Живо, гробину твою.
Башкин подтянулся:
─ Слушаюсь! ─
Снаряды понеслись в гущу врага. Смерть шла за смертью. Гитлеровцы растерялись. Они были уверены, что орудие, какое сдерживало наступление пехоты, уничтожено. И вдруг произошло невиданное чудо: пушка, загнанная в могилу, стала опять стрелять. Немецкое воинство в панике залегло.
Три танка-крестоносца развернулись и повелительно устремились на редут Ершова ─Башкина. Ждать сближения не стали, открыть огонь издали, на поражение. Грозные стволы беспрестанно озарялись вспышками.
─ Александр, живи верою! Выстоим! Или не победим? Выстоим! За Родину! За Сталина! Огонь! Огонь! ─ кричал во все поле битвы командир орудия, дабы не слышать в себе страха гибели.
Александр Башкин только успевал загонять в казенник снаряды и бить по танку, как прикажет командир; он все поле видел в бинокль, как полководец. Битва был немыслимо трудная. Пока получалось ничего. Был подбит танк командирского танка, слышно было, как с грохотом слетела башня, он задымился, заиграл огнем.
Ершов ликовал:
─ Молодчага! С тобою можно воевать.
Но танки-крестоносцы все крепче сжимали в петле редут Ершова ─Башкина. Снаряды рвались у орудия щедро. Без устали стреляли пулеметы, но трассирующие пули растекались по щиту и пока не задевали героев. Но вскоре танковый снаряд оглушительно разорвался на площадке, у самого колеса. Пушка вздыбилась, и с силою толкнула Михаила Ершова на землю. Он упал, заливаясь кровью. Он еще жил и все старался подняться, но каждый раз по боли, обреченно падал на землю. Собрав последние силы, поднял голову, дико, невидимо посмотрел в пространство, вышепнул:
─ Александр, держись! За Родину! За Сталина! ─ и упал Сашка, держись…– и упал лицом вниз.
Башкин не знал, убит командир орудия или не убит?
Он не мог ему помочь.
Танки были уже у позиции! Кровавая схватка ожесточилась. Воин один работал у пушки за пять артиллеристов. Носил снаряды, заряжал, наводил, стрелял.
─ Врете, гады! Не возьмете! ─ нервно подбадривал он себя. И стрелял, стрелял.
А злобствующий враг все наседал и наседал. И страшен был его натиск. Все ближе подбирались танки, автоматчики, какие тучею бежали по всему полю, держась за железные подолы, бежали зверьем, полупьяные, и секли, секли из автоматов все живое. Они были настолько близко, что уже уверовали в победу, что возьмут живьем отчаянного храбреца. И надменно кричали:
─ Рус, сдавай-с!
Страх гибели давно покинул Башкина. В сердце жила только ненависть к врагу. И жило желание больше взять с собою незваных пришельцев в вечность. Но страх, правда, тоже был, обжигал и мучил его. Страх попасть в плен. Сколько он в плену натерпелся, врагу не пожелаешь. Вспомнишь все муки, и ручьем льются слезы из глаз. Плена он боялся. И знал, больше враг не увидит его с поднятыми руками. Увидит только с простреленным сердцем.
─ Я вам сдамся, ─ кричал он громовым голосом, подобно богу Перуну, во всю землю и во все небо, и знал, что немцы его не слышат. Но кричал громко, разгневанно. Так было легче, приятнее душе. ─ Сюда, ближе, сволочи! Возьмите! Я вам сдамся! Кровью поганою захлебнетесь.
И бил по врагу то из орудия, то из пулемета.
Но вот снаряд угадал в пушку. Взрывная волна вознесла Александра Башкина высоко в небо и бросила по боли, со стоном на Русскую землю. Он упал, и больше не шевельнулся. Если только вспомнил на прощание стихи поэта: и сам не знаю, когда я умер, вчера или тысячу лет назад?
VI
Сколько Александр Башкин лежал, сжившись с вечностью, не помнит. Придя в себя, ощутил, жив: окаянная смерть, неразлучная подружка солдата, еще раз пронеслась мимо. Он тревожно ощупал себя. Ран не было. И даже не контужен. Только стоит невероятная боль у сердца от падения на землю и в голове густится чудовищно-страшное гудение.
Он с могильного взгорка скатился в траншею, подполз к орудию. Величия было мало, одна грусть! Пушка была разбита. Возникла немыслимая жалость! Воин слышал, еще шла битва, и надо было брать пулемет и вливаться в пламя огня, но он не мог просто так покинуть исковерканное орудие. Он присел на ящик, обнял ствол. И, посидев, помучив себя по трауру, заплакал. Плакал долго, ибо долго не отступала строгая молитвенная печаль. Орудие было живое, родное существо! Он прощался с верным другом. Прощался на все времена. Прощался с командиром орудия, со всем остальными артиллеристами, кто пал в битве с крестоносцами смертью героя.
Он взял пулемет, что лежал у разбитого орудия, гранаты, и пополз на соседнюю батарею, так и не решив для себя, а где Михаил Ершов? Бились у пушки соборно! В могилу легли по отдельности! Он видел его могилу, но не мог разобрать, это погост? Или еще не погост? Некогда было наклониться, пощупать пульс! Три танка шли на батарею! Жизнь и смерть, слились в самое крохотное мгновение!
После сам лег под траур! Явись пророком, уясни, где Михаил?
Взяли немцы? Попал в плен?
Башкина невольно, повелительно опалило жаром! Но вскоре в успокоение подумал: зачем немцам убитые? Если был ранен, то Надя Сурикова, его ангел, не могла не спасти воина.
Соседнее орудие оказалось комбатовским. Здесь располагался штаб командира батареи Ивана Мороза. Расчет у пушки убит. Смотреть страшно. Человеческие тела лежали валом, вразброс, были изувечены, лица залиты кровью. Комбат тоже погиб. Погиб ужасно. Острый веер осколков рассек шею, голова отделилась от тела и откатилась к лафету, покоилась в странном, безмолвном одиночестве дико и безобразно. Белокурые волосы, черные от крови, спутались, слиплись, и ветер безуспешно пытается растащить их, взметнуть. Глаза безжизненно смотрели в пространство, в их открытости застыла тяжелая печаль. Тело раздавлено колесом пушки, на груди зияла разорванная рана. То, что это тело капитана, он понял по двум орденам Красного Знамени, которые холодно отсвечивали эмалью на разорванной гимнастерке.
Страшно было смотреть и на остальное. Вокруг валялись пустые разбитые ящики, почерневшие от пороха гильзы, окровавленные обмотки, оторванные руки с зажатою гранатою. Он отошел к орудию, желая проверить: исправно ли? И у бруствера, в окопе, увидел связиста. Он сидел, уткнувшись лицом в рацию. С руки на проводе свисала телефонная трубка. Она жила, говорила. Тревожный голос без устали звал:
─ Иван, родной, помоги огоньком! Рота гибнет! Не можем подняться! Иван, родной, помоги! Пропаши снарядами седьмой квадрат. Ребята гибнут!
Башкин живо взял трубку:
─ Кто говорит? Слушаю вас.
─ Иван? Ты? ─ живо встрепенулся голос в телефоне. ─ Ты куда пропал, родной? Бьюсь, а ты молчишь! Это я. Командир роты Павел Синица. Помоги огоньком, родной.
Башкин тихо вымолвил:
─ Командир батареи капитан Иван Мороз пал смертью героя.
─ Кто говорит? ─ донеслось требовательно.
─ Командир батареи рядовой Александр Башкин!
─ Браток, орудие стреляет?
─ Еще не знаю. Щит не пробит, накатник не снесен. Затвор и прицел в целости.
─ Пропаши седьмой квадрат! Залегли! Не можем подняться в атаку. Огонь пожирает людей. Танк стоит живым дотом. Не пускает. Помоги, милок!
─ Помогу! Но объясните проще, где он, седьмой квадрат, который надо пропахать? Командир убит, корректировщик убит. Я один.
─ Можешь выглянуть, посмотри, где сосновое урочище. На опушке до башни вкопан танк! Мы не достаем, он не подпускает. Бьет из орудия, пулемета.
Башкин в каске осторожно выглянул из окопа. И едва в густоте порохового дыма разглядел фашистскую машину.
─ Вижу, товарищ командир роты! Уберем дот, это нам в райское блаженство!
Он огляделся в поиске снарядов. Все ящики были пусты. Заглянул в землянку командира батареи. И обнаружил то, что искал! Загнал снаряд в казенник, приник к прицелу и стал вращать маховик поворота. Выбить танк было сложно, даже невозможно. Он зарыт в землю. Попадаешь в танк, снаряд зарывается в землю. Попадаешь в башню, снаряд скользит по крышке башни и улетает в сладостное пространство. Почему в сладостное? На мгновение прожил больше.
На поле битвы танк сразить проще. Он в движение, тут, кто кого? У кого сильнее нервы, талант воина, тот и пан!
Башкин смело вступил в дуэль с крестоносцем, И уничтожил крепость. Пришлось истратить, спалить десять снарядов. Но святое дело свершилось.
Он услышал, как рота Павла Синицы поднялась в атаку, оглашая поле битвы раскатистыми криками: «Ура! За Родину! За Сталина!»
Великая радость ожила в сердце воина.
Нашлось время, оглянуться. Время близилось к вечеру, но оба воинства, и русское воинство, и немецкое, и не думали уступать друг другу. Оставалось только удивляться, где изыскивались силы? Скорее, бесконечен человек в силе, как Вселенная, ибо плоть ее.
Теперь Александр Башкин бился за всю батарею. Он один, совершенно один, сдерживал танки с черными крестами, полупьяную, взвинченную пехоту. Немцы заметили смельчака, открыли по его орудию губительный огонь. Биться пришлось с тьмою драконов! И он бился, пока была сила, пока было везение. Сам по себе воин не был плотью от Ильи Муромца, он был тонок, гибок, как тростинка, но сила духа была окаянная, и, несомненно, заложена богами Руси! И, несомненно, нес еще в себе талант полководца! На поле битвы он изыскивал чувством пророка тот танк, кто нес ему опасность. И вышибал его, вышибал свою гибель! Опережал!
Воин Руси ─ это искусство!
Он сам заряжал пушку, сам наводил, сам стрелял! И если получалось, ликовал: «За Родину, вам! За Сталина!» Но вот снаряд громом ударил в пушку, пробил щит, вывалился к лафету. Но не взорвался. Почему не взорвался, как и в лесу под Медынью, ─ можно только гадать. Взорвался бы, от смельчака ничего не осталось. Исчез бы с земли без молитвы могилы! Как дивное видение. Без осмысления смерти!
Не успев испугаться, Башкин, посмотрел на снаряд, прикинул для себя: взорвется, не взорвется? Оставит ему пушку, не оставит? Стоит ли искать спасения? Решил, стоит! И стал торопливо отползать от орудия, от еще не взорванного гостинца, в котором таилась загадка его гибели.
Загадка его спасения.
Загадка его воскресения.
Воин Башкин отполз вовремя. По редуту оглушительно, сильно разгоняя всплески огня, ударил танковый снаряд, и орудие горестно, скорбно взлетело в небо, где плыли облака, и опало грудою железа. Не отползи, и кто знает, как бы дальше сложилась жизнь воина?
Ничего не оставалось Александру, как снова взять ручной пулемет с дисками, и влиться в роту Павла Синицы. Его ратники смело поднялись в контратаку, желая подальше от деревни отогнать фашиста! Впереди роты шел капитан, держа высоко в руке пистолет.
Сошлись врукопашную, сошлись мгновенно. Бились люто, молча. Только слышались людские хрипы, придушенные стоны. Никто не уступал в упорстве, мужестве.
Александр Башкин дрался в самой гуще врагов. Он любил эту грубую солдатскую работу. Там, на смоленской земле, при первом боевом крещении было страшно. И неприятно убивать вблизи. Враг, конечно, есть враг. Никто не звал его на святую Русь. Сам пришел, самозванцем! Без жалости убивал, жег города и деревни. Но враг вблизи ─ был человек! Со своими чувствами, тревогами и печалями, с живым сердцем, в котором трепетно и изумленно билась любовь к жизни. И убивать его, насаживать на штык, разбивать прикладом голову было мучительно трудно.
Башкин не слышал себя убийцею, не слышал в себе разбойничьи посвисты атамана Кудеяра, желание по рукоять всаживать в жертву, под сердце, финский нож. В воине жила жалость за чужую человеческую жизнь! Тревожилась неуемная печаль, если видел чужую боль, чужую смерть.
Он был русским человеком! Он был до величия и загадки русским человеком! Он был растворен в Руси, как синь неба! И в первый раз, в Ярцево, вернувшись из штыкового боя, он долго стоял, прислонившись щекою к березе, смотрел на звезды в ночное время, стремясь унять мятежность в сердце, проклятую жалость к тем, кого он убил. Он сутки не мог надкусить хлеб, съесть ложку каши из солдатского котелка. Потом пообвык. Смирился с короною мстителя! Помогла лютая ненависть к фашисту за поруганную Русскую Землю, какую он любил с необычною силою. Воин знал кулачные бои, на Руси любили ходить деревня на деревню! И еще жило осмысление: если не ты, значит тебя! И теперь воин бился ловко, где кулаком, где гранатою, где штыком.
За ротою Павла Синицы поднялась вся дивизия! Вернее, то, что от дивизии осталось!
Гитлеровцы, как не бились, но отступили в свою деревню, отступили туда, откуда начали штурм. И снова встали тем же щитом у города Семилуки!
VII
Крепость Русского Воинства выстояла. Воины пели и ликовали, радостно махали касками, обнимали друг друга. Прокопченные пороховым дымом лица сияли счастьем. Тяжело далась победа, но далась! Казалось, и каждая луговая былинка, не сгоревшая в огне пожарищ, радовалась вместе с людьми, гордо распрямляясь на ветру, сладостно покачиваясь в бестревожном мире. И березы теперь не ощущали сиротливости, по ласке тянулись к солнцу, с полною щедростью укрывали от зноя зелеными ветками притомленную русскую рать.
Мгновение боя было равно само по себе прожитой жизни!
Спасибо, Русь, что сберегла!
Но битва еще не закончилась. Город Сталина был в опасности! Верховная Ставка наполняла ослабленную дивизию соками жизни. На ее вооружение поступили самолеты и танки, полевая артиллерия, стрелковые роты. На таком военном перекрестье и встретил Александр Башкин своего командира орудия Михаила Ершова.
Он в радости толкнул его плечом:
─ Вы ли, товарищ командир?
Сержант обернулся:
─ Башкин? Ты? Жив? ─ он тоже выразил изумление. ─ Скажи, где встретились? На пути к Берлину!
─ Вижу вас. И не верю. Значит, живы?
─ Жив, Александр!
─ Просто чудо! Когда снаряд разорвался у пушки, и вы упали на землю распятьем, подумал все. Звал врача, а сам не мог помочь. Отбивался от танков.
─ Получается, еще раз спас, гробину твою! Не пустил танки на позицию. Погуляли бы гусеницы! ─ он обнял воина. ─ Надежда, любовь моя, разыскала и раскопала. Уже в усыпальнице! Отправила в госпиталь. Восемь ран насчитали, весь перебинтован. Как чучело.
─ Так быстро выписали?
─ Выписали? Ха! Сбежал! После Берлина долечусь! Как ты, Александр? Где воюешь?
─ В пехоте у Павла Синицы!
─ Пойдешь ко мне наводчиком?
─ Надо спросить у командира! Как решит?
─ Спрашивать? У пехоты? ─ рассмеялся командир орудия. ─ Ты с лафета спрыгнул? Твоя пехота по полю черепахою ползает, а я над полем огненными птицами летаю! Удивляешь, гробину твою! Сам согласен? С командиром договорюсь. Орудие я получил новенькое. Сам выбирал. Вместе встанем щитом к Сталинграду. Договорились?
Тем временем в штабе дивизии шла напряженная работа, как сокрушить оборону города Семилуки? На карту наносились синие стрелы наступления, троекратно проверенные расчетами и военною наукою.
Сам он покоился на холме. И мирно, упоительно грелся под лучами золотистого солнца. В изгибе плавно текла река Девица, впадающая в Дон. Тихо плескались на волне рыбачьи лодки. Близко к окраине подступали густые хвойные леса. Видны яблоневые сады, бегущие по полю тропинки. Все жило покоем, несло ощущение красоты жизни. Ничего не говорило о том, что в русском древнем городе затаились фашисты.
И только рассматривая город в бинокли, можно было увидеть сооружения дотов и дзотов, какие грозно блестели сталью. В каждом форту-крепости стояли танки, артиллерия. Открывались взору бесконечные траншеи для пехоты, опутанные колючею проволокою. Все надо было снести, сокрушить в штурме.
Дивизия жила в окопе, ждала зова военной трубы! Немцы веселились, играли на патефоне русские песни, усиленные репродуктором, громко, смеясь, кричали:
─ Русс, чего остановился? Иди на побоище. Будем звериную кровь пускать! Боишься? Ты же дикарь, смерти не чувствуешь!
Довольно, пьяно хохотали. И снова заводили во всеуслышание задорную «барыню» или разудалую песню: «Окрасился месяц багрянцем».
И опять кричали, глумились:


