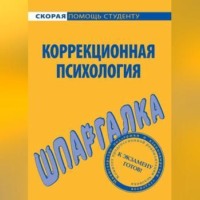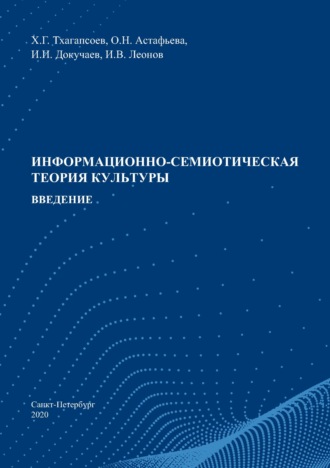 полная версия
полная версияИнформационно-семиотическая теория культуры. Введение
• материальные системы (которые, в свою очередь, подразделяются на неорганические, органические, природные, технические, социальные и социотехнические).
При оперировании данным типологическим признаком встает вопрос о гомогенности или гетерогенности системы (что в культурологии пока далеко не всегда и в должной мере учитывается).
По уровню (и степени) сложности различают следующие типы систем:
– простые (они содержат порядка тысячи элементов), примеры: технические устройства, механизмы и машины средней сложности;
– сложные (содержат порядка миллиона элементов), примеры: астрономические системы, сложные инженерные сооружения и системы;
– сложные саморегулирующиеся (количество элементов неограниченно), к их числу относят роботов, компьютерные системы;
– сложные самоорганизующиеся и исторически развивающиеся – это природные, социальные системы и, конечно же, культура.
По характеру отношений с окружающей средой системы бывают:
• открытые;
• закрытые.
Открытые системы характерны тем, что способны обмениваться с окружающей средой (информацией, прежде всего). Очевидно, что культура относится именно к открытому типу систем.
По степени устойчивости различают два типа систем:
– равновесные (консервативные, инерционные, устойчивые, не подверженные существенным изменениям);
– неравновесные, т. е. изменчивые, подверженные воздействиям. Характер системной сложности культуры таков, что она демонстрирует как признаки равновесия (устойчивости), так и признаки изменчивости.
По характеру динамического поведения системы бывают:
• линейные;
• нелинейные.
При этом система линейна, если ее реакция на внешние воздействия прямо пропорциональна величине (масштабам, интенсивности) этого воздействия. Если же подобная зависимость отсутствует, система нелинейная, и ее поведение носит парадоксальный, трудно предсказуемый характер.
Культура по всем признакам относится к числу нелинейных систем. По характеру внутренних связей и отношений элементов системы бывают:
– иерархические (многоуровневые);
– горизонтальные (сетевые, референциальные).
При этом в системах горизонтального типа все элементы системы равнозначны: здесь нет «главных», «ведущих», «ведомых», «подчиненных», «второстепенных». Напротив, иерархические системы содержат некие главные, ведущие и «управляющие» элементы. Понятно, что культура являет собой иерархическую систему, «восходящую» к универсалиям (к наивысшим смыслам бытия человека), «направляемую» и «управляемую» ими.
Здесь впору еще раз вернуться к субстанциональной природе систем, откуда и проистекают все их прочие особенности.
Самыми сложными во всех отношениях (по структуре, набору протекающих процессов, информационной насыщенности, подверженности субъективному фактору) являются «антропо-социокультурные системы», поскольку они отличаются нелинейностью, способностью к спонтанным изменениям.
Остается лишь заметить, что для адекватного описания системы (ее строения, поведения и закономерностей) приведенный научно-лексический арсенал необходимо дополнить еще, по меньшей мере, категориями «процесс», «состояние», «самоорганизация», «эмерджентность».
Состояние – это целостная совокупность всех параметров и показателей системы в данный (фиксированный) момент времени.
Процесс – это совокупность обратимых или необратимых, последовательных во времени изменений состояния системы.
Многообразие процессов в системах практически неисчерпаемо и включает следующие типы:
– равновесные и неравновесные;
– линейные и нелинейные;
– спонтанные и управляемые;
– динамические и вероятностные;
– количественные и качественные;
– генетические и исторические;
– структурные и функциональные.
Все эти процессы в той или иной мере присущи культуре и ее феноменам, а значит, являются и должны быть предметом культурологического анализа в такой же мере, как и анализ форм, жанров, направлений развития культуры.
Самоорганизация – это переход системы под влиянием внутренних и внешних факторов от более низкого уровня порядка и организованности к более высокому уровню структурности, организованности и порядка (в предельном случае – от хаоса к порядку).
В современной науке исследованию процессов самоорганизации уделяется много внимания, успешно развивается наука – нелинейная термодинамика и междисциплинарное исследовательское направление, получившая название «синергетика» [6–7], специализирующаяся исключительно на изучении этих процессов; предпринимаются и попытки интерпретации культуры и ее процессов с позиции синергетики [8].
В этом контексте уместно отметить, что в ряду свойств и особенностей поведения системы исключительное место занимает эмерджентность – способность системы обретать принципиально новые качества при различных сочетаниях, соотношениях и вариациях составных элементов системы или изменений условий (внешних, внутренних) существования системы. При этом в социальных и социокультурных системах, понятно, особая роль принадлежит субъектному фактору [9], к чему далее мы еще не раз вернемся.
Например, морфогенез культуры, который в культурологии рассматривается, как правило, в историко-нарративном плане, требует, на наш взгляд, также и учета процессов эмерджентности, тогда перед нами может предстать иная картина значимости морфогенеза в процессах развития культуры.
Если учитывать хотя бы эти «конспективно изложенные» идеи и принципы системного подхода, очевидно, что одновариантное адекватное описание сложных систем невозможно. В этом смысле развитие различных концепций, моделей и теорий культуры вполне правомерно. Однако, речь, конечно же, не идет о санкционировании фривольной «философии авторских концепций» (чем порой увлекаются). Напротив, говорится о том, что современная методология науки требует, чтобы конкурирующие концепции познания аргументировали и доказывали свою состоятельность, опираясь, прежде всего, на признанный методологический арсенал системного подхода, синергетической теории, теории информации, а также принципа дополнительности.
В этом контексте впору обратиться к принципу дополнительности, который пока нами не затрагивался.
Смысл этого принципа состоит в том, что в реальной действительности встречаются такие сущности (феномены), репрезентация и анализ которых требуют одновременного использования взаимоисключающих понятий, не сводимых к какому-то новому, «третьему» понятию. Наиболее известный и часто приводимый пример проявления принципа дополнительности – это поведение элементарных частиц, которые одновременно ведут себя как дискретные тела с некоей массой (т. е. как корпускулы) и как волны, что в науке и научной методологии получило название «корпускулярно-волновой дуализм» [10]. Однако принцип дополнительности заявляет о себе не только в физике, но и в ряде других сфер: в биологии, психологии, когнитивистике, и, судя по всему, он применим в культурологии. Так, биологические процессы (ассимиляция, диссимиляция, пищеварение, дыхание) отчасти описываются, с одной стороны, на языке физики и химии, их строгих количественных законов, с другой – скажем, инстинкты, на языке психологии, лишенной количественных измерений и законов. Подобная ситуация имеет место и в когнитивистике, где мозговые процессы анализируются, с одной стороны, на языке и в моделях информационных и информационно-импульсных процессов (физики, физиологии, информатики, теории сетей), а с другой – в семиотических, лингвистических и психологических категориях ментальной репрезентации действительности. Все это, так или иначе (прямо или косвенно), свидетельствует о том, что и в культурологическую методологию «напрашивается» принцип дополнительности.
Как будет показано далее, основой реализации принципа дополнительности в культурологии может стать методологический конструкт «культурная форма», к чему мы еще вернемся. А пока же обратимся к реальной практике и реальным примерам воплощения системного подхода в конкретных дискурсах отечественной культурологической науки (обратимся к культуре воплощения системного подхода) вслед за автором обзорной работы по данному вопросу [11].
Ситуация здесь, мягко говоря, противоречивая. С одной стороны, трудно найти культурологический текст, где на словах культура не номинирована в качестве «системы», «сложной системы», «системной целостности». Однако, как показывает анализ, системность культуры чаще всего трактуется формально или весьма «усеченно»: все практически сводится к декларации одного из многочисленных принципов системного подхода – принципа холизма: культура есть целостное единство элементов. Но при этом, к сожалению, не затрагиваются и не анализируются главные онтологические свойства систем, в частности: тип системы и характер ее сложности, спектр противоречий (внешних и внутренних), характер соотнесенности культуры с социальным бытием и т. д. При таком «облегченном отношении» из исследовательской практики попросту выпадают базовые принципы системного подхода – принципы структурности и типа сложности, множественности описания, развития, всесторонности и относительности, коммуникативности и эмерджентности.
В итоге системный подход, как правило, сводится к комбинированию таких «элементов культуры», которые, на взгляд данного автора, являются таковыми. И как показано в уже упомянутой работе [11, с. 139–142], в культурологии бытует девять вариантов подобного «системного представления» культуры, которые отличаются друг от друга лишь комбинациями составных элементов по усмотрению автора. При этом чаще всего в роли составных (структурных) элементов выступают едва ли не произвольно задаваемые «сферы культуры», в качестве каковых выдвигаются не только «духовная» и «материальная» сферы, но также «хозяйственно-экономическая сфера», «техника», «физическая культура», «игра», институты культуры и функции культуры [11, с. 143]. А что касается вопросов о реальном типе системности культуры и механизмах ее функционирования и развития (гомогенность – гетерогенность, линейность – нелинейность, специфика иерархичности структуры, эмерджентность, рекурсивность, референциальность), характера и механизмов отношений культуры и социального бытия, они просто выпадают.
Исключением из этой ситуации, похоже, и по сей день остаются пионерские работы М.С. Кагана [12] и Э.С. Маркаряна [13], в которых в свое время были предприняты оригинальные попытки всестороннего представления системности культуры.
В частности, М.С. Каган в своих исследованиях пришел к заключению о неразрывности в культуре духовного (т. е. информационно-смыслового, психофизического) и материального, что вполне соответствует ключевой идее информационно-семиотической теории культуры о том, что все феномены культуры проявляются как единство смыслонесущей информации и ее носителей.
На фоне изложенного приходится с сожалением констатировать, что методологическая ситуация в отношении системного подхода, что ныне бытует, к исследованию культуры, увы, вызывает много вопросов.
Между тем, информационно-семиотическая концепция культуры принципиально ориентирована именно на системный подход и системную интерпретацию культуры, всех ее феноменов – в полном объеме этой методологии, поскольку она ориентирована на вскрытие взаимно детерминирующих форм активности человека: познания (когниции), общения (коммуникации) и деятельности в их целостном и взаимно дополняющем единстве, на основе которого, как мы полагаем, рождается и бытует культура. И еще – системный подход к познанию сложных и развивающихся объектов (культуры, в частности) в современной постнеклассической науке, как правило, сопровождается опорой на идеи и принципы синергетики, чему и будет посвящен следующий раздел дискурса.
Примечания1. Юдин Э.Г. Методология: системность, деятельность. – М.: Эдиториал УРСС, 1997. – 444 с.
2. Агошкова Е.Б., Ахлибинский П.В. Эволюция понятия «система» // Вопросы философии. – 1998. – № 7. – С. 170–178.
3. Садовский В.Н. Система // Новая философская энциклопедия. Т. 3. – М.: Мысль, 2001. – С. 552–554.
4. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Системный подход // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. – М.: Канон+, 2009. – С. 869–871.
5. Агошкова Е.Б. Категория «система» в современном мышлении // Вопросы философии. – 2009. – № 4. – С. 57–72.
6. Хакен Г. Синергетика. – М.: Наука, 1985. – С. 424.
7. Князева Е.Н. Синергетика // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. – М.: Канон+, 2009. – С. 861–863.
8. Каган М.С. Синергетика и культурология // Мир культуры и культурология. Вып. 1. – СПб.: РХГА, 2011. – С. 91–102.
9. Кучинов А.М. Теория морфогенеза М. Арчер // Политический вектор. – 2014. – № 2. – С. 70–91.
10. Бажанов В.А. Дополнительности принцип // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. – М.: Канон+, 2009. – С. 210–212.
11. Тарасова М.В. Культура как система: основные тенденции исследования // Вестник ОМГУ. – 2011. – № 7 (126). – С. 135–142.
12. Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание (избранные статьи). – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991. – 384 с.
13. Маркарян Э.С. Культура как способ социальной самоорганизации // Мир культуры и культурология. Вып. 1. – СПб.: РХГА, 2011. – С. 79–91.
1.4. Синергетический подход в культурологии: возможные горизонты познания культуры
Синергетика, как известно, будучи учением о процессах самоорганизации в системах особого типа – сложных, нелинейных, открытых, неравновесных и диссипативных (способных обмениваться со средой веществом, энергией и информацией), являет собой один из базовых элементов концептуально-методологического арсенала современной постнеклассической науки. Напомним: самоорганизацией принято называть процессы, переводящие систему в новое устойчивое состояние, характеризующееся более высокой степенью сложности и упорядоченности. Начало изучению процессов данного типа (модуса) положили немецкий физик Герман Хакен и бельгийский химик русского происхождения Илья Пригожин, выступив таким образом в роли основателей синергетики [1, 2].
Ныне синергетическая модель (парадигма) методологии научного познания фактически стала универсальной и используется активно не только в естественных науках, но и в социально-гуманитарных исследованиях. Естественно, что предпринимаются попытки интерпретации культуры и ее процессов с позиции синергетики [3], к чему мы еще не раз вернемся. А пока позволим себе еще одно замечание (несколько упрощая ситуацию). Дело в том, что с позиции синергетики любая открытая неравновесная система в своем развитии проходит два этапа, принципиально различающихся по динамическим характеристикам и структурным последствиям. Первый этап – постепенное развитие системы с принципиально предсказуемыми последствиями и результатами, второй – скачок, переводящий систему в качественно новое состояние. При этом скачок происходит в тот момент, когда система в нарастании своей неустойчивости достигает некоего предела – точки бифуркации (ветвления), за которой возможен целый веер (набор, спектр) вариантов развития данной системы. И что принципиально важно, заранее предсказать, какой из этих вариантов будет реализован, невозможно – выбор происходит случайно, непосредственно в момент скачка, определяясь тем уникальным стечением внутренних и внешних обстоятельств, которые сложились в данный момент времени в рассматриваемой системе.
И еще – после перехода через точку бифуркации система не может вернуться в прежнее (исходное) состояние и, таким образом, ее дальнейшее развитие осуществляется уже состоявшимся в момент бифуркации «выбором», а значит – предысторией системы.
Как уже подчеркивалось, в числе объектов, находящихся в фокусе синергетики, со временем (по мере развития синергетики) и вполне ожидаемым образом оказались также общество и культура, что выразилось в возникновении целого направления – «социальной синергетики», хотя все еще (и по сей день) высказываются сомнения в правомерности ее существования как области или направления социальной науки, поскольку синергетика по сути является «физической наукой», а именно – нелинейной термодинамикой, которая якобы применима только к бессубъектным феноменам: к природным – неорганическим, органическим, биологическим, экологическим, а также к сложным техническим системам.
Между тем синергетика, как междисциплинарное ядро пост-неклассической науки, продолжает дополнять новыми смыслами и особой культурой моделирования методологический инструментарий социогуманитарного знания, поскольку именно ее (синергетики) методология, опирающаяся на идеи и принципы сложности и нелинейности бытия, а также на аттрактивные, бифуркационные и диссипативные модели и механизмы изменений и развития сущего, оказалась в наибольшей мере релевантна реальной сложности таких объектов познания, как общество и культура (тем более – в их современных, крайне сложных ипостасях). В этом контексте отметим, что один из участников нашей авторской группы в своих исследованиях возможностей принципа междисциплинарности в науках о культуре уже ряд лет активно обращается к синергетическому подходу в культурологии [4–7].
Впрочем, вполне продуктивные попытки синергетического подхода к познанию культуры предпринимались и предпринимаются еще с 90-х годов, которые в ту пору возглавлялись М.С. Каганом. Однако исследования последних лет принципиально отличаются от «пионерских работ» 90-х тем, что задают новый рубеж в развитии синергетического подхода в культурологии, поскольку в них осуществлен переход от апелляции к синергетике на уровне метафор и аналогий к системной опоре на ее базовые идеи и категории, в частности – на идею «параметров порядка» в культуре.
Заметим, что предикация «параметры порядка» – одна из базовых категорий синергетики, при этом параметры порядка рассматриваются (понимаются) как ключевые (атрибутивные) характеристики исследуемой системы, выражающие (определяющие, задающие) особенности структуры и степень упорядоченности системы (культуры, социума, природных объектов) в процессах самоорганизации. Таким образом, именно параметры порядка и их поведение дают возможность исследователю составить целостное представление о системе и ее изменениях в процессах самоорганизации.
Заметим: когда речь идет о природных системах, параметры порядка (структурные, фазовые, энергетические) являют собой некие односущностные феномены, как правило, поддающиеся наблюдению и формализации, т. е. математическому описанию; это структурные, фазовые, энергетические параметры исследуемой системы.
Иное дело культура: здесь мы имеем дело не только с крайне сложным и противоречивым объектом познания, но и с известными ограничениями в плане возможностей применения языка естественно-научного познания к изучению социальных и культурных феноменов. Да, в отдельных случаях эти ограничения в определенной мере преодолеваются при включении в культурологические исследования методов статистики, компьютерного моделирования, базирующихся на экспертных данных и контент-анализах и т. д. Однако очевидно, что в синергетической методологии, адресуемой сегодня культурологической науке, не обойтись без методологических прорывов. И здесь далеко не последняя роль принадлежит, подчеркнем еще раз, введению в научный оборот категории «параметр порядка в культуре», поскольку это предполагает выявление, изучение и систематизацию этих самых параметров, определяющих особенности процессов самоорганизации в культуре.
Дело в том, что именно параметры порядка «подчиняют» и встраивают («стягивают») в целостность отдельные части и элементы самоорганизующейся системы, определяя таким образом ее поведение как в процессах самоорганизации, так и на этапах стабильного существования. К тому же связь (система связей) между параметрами порядка и отдельными частями самоорганизующейся системы, что именуется «принцип подчинения», является если не ключевой, то одной из важнейших характеристик системы (как показатели сложности, неравновесности, нелинейности и др.).
Здесь, вероятно, не лишне заметить также, что составные части (элементы) системы сами генерируют (порождают) параметры порядка своим «коллективным поведением» в ходе процессов самоорганизации, вновь и вновь указывая на особую роль параметров порядка в синергетических процессах и на необходимость первоочередного внимания к этим параметрам – при любых попытках применить синергетическую методологию в ходе исследований той или иной системы.
И еще одно принципиально важное уточнение: характер изменений (реакции) составных элементов системы и параметра (параметров) порядка этой же системы в ответ на воздействие извне, как правило, не совпадают. При этом реакция элементов системы на «возмущение» извне носит оперативный характер, в то время как реакция параметров порядка на эти же возмущения носит «запаздывающий» характер. В итоге получается так, что параметры порядка системы более живучи, чем ее (системы) составные элементы. Все это следует учитывать при любых попытках выстроить синергетическую методологию культуры, ведь именно параметры порядка поддерживают систему в состоянии динамического равновесия, обеспечивая ее существование и самовоспроизводство в долговременном режиме.
В контексте изложенного очевидно, что особую значимость параметры порядка в культуре обретают в переходные периоды (эпохи), характеризующиеся стратификационными изменениями в обществе, «конфликтом целеполаганий», сменой ценностных ориентиров социума и его культурных потребностей, чреватых, увы, «обвалом» традиций и кризисом социокультурных институтов. В реальной действительности это проявляется в возникновении и доминировании определенных негативных тенденций в социальном и культурном бытии, способствующих снижению адаптационного иммунитета субъектов общества и культуры, нарастанию уровня агрессии в социуме и т. д. Именно в подобной ситуации и заявляют о себе разные формы социальной деструкции: фрагментация культуры, утрата или размыв маркеров культурной идентичности и даже утрата способности социума к самовоспроизводству и воспроизводству собственной культуры.
При этом необходимо учитывать, что речь идет о нелинейности систем, «подверженных» процессам самоорганизации. А это означает, в свою очередь, возможность сверхбыстрого развития отмеченных негативных процессов, делая проблематичным «управляющее воздействие» на них (в целях их смягчения, блокировки и т. д.).
Вероятно, здесь уместны и обобщения более широкого плана, а именно: развитие, по сути, являет собой «форму неустойчивости», поскольку только неустойчивая система способна к самоорганизации. В этом смысле устойчивость культуры относительна: она возможна лишь на отдельных этапах развития, завязанных на устойчивые параметры порядка.
Итак, отправной момент синергетической методологии, адресуемой культурологической науке, это, прежде всего, выявление и систематизация параметров порядка культуры и, конечно же, аттракторов, т. е. возможных новых модусов культуры, в которые она переходит в результате синергетических процессов (скажем, пройдя через точку бифуркации). Но много ли подобных культурологических исследований?
Увы, немного, но здесь не все так просто. Дело в том, что модус и облик параметра порядка в любой системе зависят от природы самоорганизующейся системы, и они весьма многообразны, поскольку в таковых ролях могут выступать и простые физические параметры, и весьма сложные комплексные факторы. Например, в пучке лазера (лазерного луча) в роли параметра порядка выступает доминирующая в этом пучке длина волны. Или другой пример: если мы имеем дело с неорганическими растворами и расплавами, а точнее – с процессами самоорганизации в них, то в роли параметра порядка могут выступать несложные типы и формы фазовых и агрегатных состояний, типы кристаллических решеток, а также иные формы упорядоченности элементов данной системы (раствора, расплава).
Иное дело, когда на арену синергетики выходят органические, биологические, а тем более социальные и социокультурные объекты. Здесь все куда сложнее: порой параметры порядка сами являют весьма сложную систему. Так, по мнению Г. Хакена, в социальной синергетике в роли параметра порядка могут рассматриваться общество, государство, культура, язык, традиции, научные парадигмы, этика, мода [8]. Понятно, что к этому набору параметров порядка в социально-синергетических процессах могут быть добавлены также экономика, тип политической системы и т. д.
Но главное в данном случае заключается в том, что в биологических и социальных системах сами параметры порядка, как уже подчеркивалось, могут иметь многосущностную, сложную и иерархическую конструкцию. Резонно в этом контексте задаться вопросом о параметрах порядка в культуре. Что же выступает в сложнейшей и изменчивой системе по имени «культура» в роли параметра (параметров) порядка? Это и есть ключевой вопрос применения синергетической методологии в процессах познания культуры.