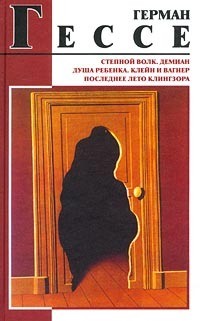Полная версия
Кнульп. Демиан. Последнее лето Клингзора. Душа ребенка. Клейн и Вагнер. Сиддхартха
– Вот это мне по нраву! – похвалила хозяйка, глядя на него. – Ишь, как надраили, ровно аккурат к зазнобе собрались.
– О, я бы с радостью.
– Охотно верю. Она у вас, поди, красотка. – Хозяйка опять назойливо рассмеялась. – Небось даже не одна?
– Ой, нехорошо этак-то говорить, – весело попенял Кнульп. – Могу показать вам портрет.
Сгорая от любопытства, хозяйка подошла ближе, а он достал из нагрудного кармана клеенчатый футлярчик и извлек оттуда портрет Дузе. Она с интересом рассмотрела его и осторожно похвалила:
– Впрямь хороша, почитай что настоящая дама. Только вот больно худая. Здорова ли?
– Насколько я знаю, вполне. Ну а теперь пойдемте-ка к хозяину. Старина, слышно, в горнице.
Он вошел, поздоровался с кожевником. Горница была выметена, и светлые панели, часы, зеркало и фотографии на стене сообщали ей вид приветливый и уютный. «Этакая чистая комната, – подумал Кнульп, – зимой отнюдь не дурна, но жениться ради этого все ж таки не стоит». Благорасположение, какое выказывала ему хозяйка, ничуть его не радовало.
Когда выпили кофе с молоком, он вместе с мастером Ротфусом спустился во двор, к сараям, и тот показал ему всю кожевенную мастерскую. Кнульп, знакомый почти со всеми ремеслами, задавал вопросы с такой осведомленностью, что друг его был весьма удивлен.
– Откуда ж тебе все это известно? – оживленно спросил он. – Можно подумать, ты вправду подмастерье кожевника или был им.
– В путешествиях много чего узнаёшь, – степенно отвечал Кнульп. – Кстати, что до кожевенного дела, так ты сам был мне наставником, неужто забыл? Лет шесть-семь назад, когда мы вместе странствовали, ты все это и рассказал.
– И ты до сих пор помнишь?
– Кое-что помню, Ротфус. Но теперь не стану больше тебе мешать. Жаль, я бы с радостью пособил тебе чуток, только вот там внизу ужасная сырость и духота, а я еще кашляю. В общем, счастливо оставаться, старина, пойду прогуляюсь по городу, пока дождя нет.
Когда он вышел из дома и, слегка сдвинув на затылок коричневую фетровую шляпу, неторопливо зашагал по Кожевенному переулку в город, Ротфус стоял на крыльце, смотрел, как он, в аккуратно вычищенном костюме, легкой походкой, с наслаждением шел по дороге, старательно огибая лужи, оставшиеся после дождя.
«Вообще-то ему хорошо», – с легкой завистью думал мастер. И, направляясь к своим дубильным ямам, размышлял о своем чудаке-друге, желавшем лишь созерцать жизнь, и не знал, считать ли это взыскательностью или скромностью. Тому, кто работал и стремился к счастливой доле, во многом, понятно, жилось лучше, но он никак не мог иметь такие красивые мягкие руки и такую легкую, горделивую поступь. Нет, Кнульп прав, действуя сообразно своей натуре, ведь далеко не многие могли последовать его примеру, когда он, как ребенок, заговаривал с любым встречным и располагал его к себе, всем девушкам и женщинам делал комплименты и каждый день был для него воскресным. Надо принимать его таким, каков он есть, а коли ему плохо и требуется крыша над головой, сочти за честь и удовольствие предоставить ему приют, да, пожалуй, еще и спасибо скажи, ведь от его присутствия в доме становится радостно и светло.
Меж тем его гость весело и с любопытством шел по городку, насвистывая сквозь зубы военный марш, и без спешки наведывался в те места и к тем людям, каких знал по прежним временам. Сперва он отправился в расположенную на крутом склоне слободу, к знакомому бедняку-портному, который занимался починкой одежды, жаль мужика, вечно он штопал да латал старые брюки и редко когда шил новый костюм, а ведь кое-что умел, и надежды в былые дни подавал, и в хороших мастерских работал. Однако ж рано женился и ребятишками обзавелся, но жена была не ахти какой хозяйкой. Этого портного, по фамилии Шлоттербек, Кнульп, поискавши, нашел на четвертом этаже одного из дворовых флигелей. Маленькая мастерская, словно птичье гнездо, висела в воздухе над бездной, потому что дом стоял на косогоре и, если глянуть из окон прямо вниз, под тобой были не только три этажа, но вся головокружительная круча с убогими садиками и клочками лужаек, заканчивающаяся серым лабиринтом флигельков, курятников, козьих и кроличьих загородок, а следующие крыши, видневшиеся еще ниже, находились уже вне этого хаоса, совсем крохотные глубоко на дне долины. Зато в портняжной мастерской было светло и дышалось легко, а на широком столе у окна сидел высоко над светлым миром прилежный Шлоттербек, ровно страж на маяке.
– Здравствуй, Шлоттербек, – входя, сказал Кнульп, и портной, ослепленный светом, сощурив глаза, посмотрел на дверь.
– Ба, Кнульп! – просиял он, протягивая руку. – Сызнова в наших краях? И что стряслось, коли ты забрался ко мне на верхотуру?
Кнульп придвинул к себе трехногую табуретку, сел.
– Дай-ка иголку да нитку, только коричневую и самую тонкую, хочу произвесть осмотр.
С этими словами он снял сюртук и жилет, выбрал нитку, вдел в иглу и зорким оком осмотрел весь свой костюм, с виду еще очень хороший, почти как новый, и вскоре прилежными пальцами зачинил каждую потертость, закрепил каждую чуть надорванную тесьму, пришил каждую разболтанную пуговицу.
– А как вообще-то жизнь? – спросил Шлоттербек. – Нынешнее время года похвал не заслуживает. Но в конце концов, коли ты здоров и не имеешь семьи…
Кнульп полемически хмыкнул и небрежно обронил:
– Да-да, Господь посылает дождь на праведных и неправедных[3], только портные сидят себе в сухом месте. Тебе все еще есть на что жаловаться, Шлоттербек?
– Ах, Кнульп, что тут говорить. Сам слышишь, как гомонят ребятишки за стеной. Их теперь пятеро. Вот и сидишь до глубокой ночи, пуп надрываешь, а концы с концами никак не сведешь. А ты вот по-прежнему гуляешь!
– Ошибаешься, старина. Четыре-пять недель я пролежал в Нойштадте в больнице, а они без особой нужды никого не держат, да никто без особой нужды там и не замешкается. Пути Господни неисповедимы, друг Шлоттербек.
– Ах, оставь ты эти присловья!
– Где ж твое благочестие, а? Я вот как раз тоже хочу стать благочестивым, потому и пришел к тебе. Как насчет этого, старый домосед?
– Оставь ты меня в покое с благочестием! В больнице, говоришь, лежал? Что ж, сочувствую.
– Не надо, все уж миновало. А теперь расскажи-ка: как оно обстоит с Книгой Сираха[4] и с Откровением? Знаешь, в больнице у меня и время было, и Библия, я почти все прочел и теперь беседовать мне куда сподручнее. Прелюбопытная книга, Библия-то.
– Тут ты прав. Прелюбопытная и наполовину не иначе как лживая, потому что одно с другим не сходится. Ты, поди, лучше разбираешься, ведь когда-то учился в латинской школе.
– Оттуда я мало что помню.
– Понимаешь, Кнульп… – Портной сплюнул в открытое окно и во все глаза, с ожесточенным выражением на лице проследил за плевком. – Понимаешь, Кнульп, толку от благочестия никакого. Ни на грош, и мне на него начхать, вот что я тебе скажу. Начхать!
Странник задумчиво посмотрел на него.
– Так-так. Тут ты хватил через край, старина. По-моему, в Библии записаны вполне разумные вещи.
– Да, а пролистай чуть дальше, непременно обнаружишь прямо противоположное. Нет, я с этим покончил, и точка.
Кнульп встал, взял в руки утюг.
– Подбрось парочку угольков, – попросил он портного.
– Зачем?
– Жилетку хочу подгладить, знаешь ли, да и шляпе не повредит, после стольких дождей.
– Вечный франт! – несколько раздраженно воскликнул Шлоттербек. – И зачем тебе ходить этаким графом, коли ты всего-навсего нищеброд?
Кнульп спокойно усмехнулся:
– Так лучше выглядишь, и мне доставляет радость, и коли не желаешь ты сделать доброе дело из благочестия, то просто услужи старому приятелю, ладно?
Портной вышел за дверь и вскоре вернулся с горячим утюгом.
– Вот и хорошо, – похвалил Кнульп, – большое спасибо!
Он начал осторожно разглаживать поля своей фетровой шляпы, а поскольку был в этом не так ловок, как в шитье, приятель забрал у него утюг и взялся за дело сам.
– Вот это мне по душе, – благодарно сказал Кнульп. – Шляпа опять хоть куда. Однако ж от Библии ты, портной, требуешь слишком многого. Что именно истинно и как, собственно, устроена жизнь, всяк должен сам для себя раскумекать, этого ни в какой книге не вычитать, я так думаю. Библия – книга древняя, и раньше еще не знали много чего, что известно теперь; но поэтому в ней записано много доброго и прекрасного, да и весьма много истинного. Порой она казалась мне чудесной книгой с картинками, знаешь ли. Вот как девушка Руфь идет по полю, подбирает колосья позади жнецов[5] – это же замечательно, прямо чувствуешь жаркое прекрасное лето, или как Спаситель, глядя на малых детей, думает: вы Мне куда милее всех старцев с их надменностью! По-моему, тут Он прав, тут впору у Него поучиться.
– Пожалуй, – согласился Шлоттербек, все-таки не желая признать его правоту. – Только ведь проще обходиться этак с чужими детьми, чем когда у тебя своих пятеро и ты не знаешь, как их прокормить.
Он опять совсем приуныл и огорчился, и Кнульп не мог на это смотреть. Надо бы перед уходом сказать портному что-нибудь хорошее. Он призадумался. Потом наклонился поближе к Шлоттербеку, светлыми глазами серьезно посмотрел ему в лицо и тихо сказал:
– Но разве ты не любишь своих детишек?
Портной с испугом воззрился на него.
– Что ты такое говоришь! Конечно, люблю, особенно старшего.
Кнульп с величайшей серьезностью кивнул:
– Пойду я, Шлоттербек, и большое тебе спасибо. Жилет выглядит теперь вдвое дороже… Кстати, с детьми будь поласковей да повеселей – уже вполовину накормишь-напоишь. А сейчас я скажу тебе кое-что, о чем никто не знает, и ты никому не должен об этом рассказывать.
Внимательно и покорно портной смотрел в его светлые глаза, очень серьезные. Кнульп говорил так тихо, что портной с трудом его понимал:
– Взгляни на меня! Ты мне завидуешь и думаешь: ему легко, ни семьи, ни забот! Ах, если б так. Представь себе, у меня есть сынок, мальчуган двух лет от роду, и живет он у чужих людей, потому что отец его никому неизвестен, а мать умерла родами. Тебе незачем знать, в каком он городе; но я-то знаю и, когда бываю там, украдкой хожу возле дома, стою у забора и жду, а коли посчастливится мне увидеть малыша, я не могу ни за ручку его взять, ни поцеловать, разве только насвистеть мимоходом какую-нибудь песенку… Такие вот дела, а теперь адью, и радуйся, что у тебя есть дети!
Кнульп продолжил прогулку по городу, через окно мастерской перекинулся словечком-другим с токарем, наблюдая за быстрой пляской курчавой древесной стружки, поздоровался по пути и с полицейским, который отнесся к нему благосклонно и угостил понюшкой табаку из березовой табакерки. Повсюду он узнавал о больших и малых событиях в семьях и в делах ремесленников, услыхал о безвременной смерти жены городского казначея и о непутевом сыне бургомистра, сам же рассказывал новости из других мест и радовался слабым, капризным узам, что как знакомого, друга и посвященного тут и там соединяли его с жизнью почтенных местных обитателей. День был субботний, и у подворотни какой-то пивоварни он спросил у подмастерьев, где нынче вечером можно потанцевать.
Возможностей было несколько, но самая лучшая – в гертельфингенском «Льве», всего в получасе ходьбы. Туда-то он и решил пригласить Бербеле, юную соседскую прислугу.
Близилось время обеда, и, когда Кнульп поднимался по лестнице ротфусовского дома, из кухни ему навстречу пахнýло приятно-сытным ароматом. Он остановился и с мальчишеским удовольствием и любопытством втянул чуткими ноздрями отрадный бальзам. Но как ни тихо он вошел, его уже услыхали. Хозяйка отворила дверь кухни и приветливо стояла в светлом проеме, окруженная парáми съестного.
– Здравствуйте, господин Кнульп, – ласково сказала она, – как хорошо, что вы пришли пораньше. У нас нынче ливерные клецки, знаете ли, и я подумала, не поджарить ли специально для вас кусочек печенки, вдруг вам этак больше по вкусу. Что скажете?
Кнульп потер подбородок и сделал галантный жест.
– В честь чего бы готовить мне на особицу, я уже рад, коли есть суп.
– Ну что вы, после болезни-то человека надобно кормить хорошенько, иначе откуда ему взять силы? Но, может, вы вообще печенку не любите? Не все ведь ее любят.
Он скромно рассмеялся:
– О, я не из их числа, полная тарелка ливерных клецок – это же сущий праздник, пусть бы мне всю жизнь каждое воскресенье их подавали, я бы не прочь.
– У нас вам ни в чем недостатка не будет. Для чего стряпать-то учились! Вы только скажите, я ведь специально для вас приберегла кусочек печенки. Вам пойдет на пользу.
Она подошла ближе, ободряюще улыбнулась. Кнульп прекрасно понял, чтó она имела в виду, да и бабенка была весьма пригожая, однако он сделал вид, будто ничего не замечает. Вертел в руках свою нарядную фетровую шляпу, отутюженную беднягой портным, и смотрел в сторону.
– Спасибо, сударыня, большое спасибо за ваше участие. Но клецки мне в самом деле больше по вкусу. Вы и без того меня балуете.
Она улыбнулась и погрозила ему пальцем.
– Незачем разыгрывать этакую скромность, я все равно не поверю. Ладно, пусть клецки! И лучку побольше, идет?
– Не откажусь.
Она озабоченно вернулась к плите, а он устроился в горнице, где уже был накрыт стол. И читал вчерашнюю еженедельную газету, пока не пришел хозяин и не подали суп. После обеда они втроем минут пятнадцать играли в карты, причем Кнульп поразил хозяйку несколькими новыми, лихими и ловкими карточными фокусами. Он и карты умел перетасовать с легкой небрежностью и мгновенно разложить их по порядку, а делая ход, элегантным жестом бросал карту на стол и временами пробегал большим пальцем по краям своего расклада. Хозяин наблюдал за ним с восхищением и мягкой снисходительностью солидного труженика, который готов благосклонно стерпеть праздные развлечения. Хозяйка же смотрела на эти свидетельства светского лоска и умения жить с участливой симпатией и глаз не сводила с узких, холеных рук Кнульпа, не обезображенных тяжелой работой.
Сквозь оконные стекла в горницу вливался слабый, неуверенный солнечный свет, падал на стол и на карты, капризно и бессильно играл на полу со смутными тенями, трепетал легкими кругами на голубом потолке комнаты. Горящие глаза Кнульпа примечали все вокруг – игру февральского солнца, безмятежную умиротворенность дома, серьезное лицо работящего ремесленника и друга, затуманенные взгляды пригожей женщины. Вот это ему не нравилось, не было для него целью и счастьем. «Будь я здоров, – думал он, – и будь сейчас лето, я бы и часу здесь не остался».
– Пойду пройдусь по солнышку, – сказал он, когда Ротфус собрал карты и глянул на часы.
Вместе с хозяином он спустился по лестнице, оставил его в сушильне со шкурами и задумчиво зашагал по траве узкого запущенного садика, который, перемежаясь с дубильными ямами, тянулся до самой речки. Там кожевник соорудил небольшие дощатые мостки, где промывал сырые кожи. Кнульп уселся на мостках, свесил ноги к тихой бегущей воде, забавляясь, поглядел на быстрых темных рыб, проплывавших под ним, а затем принялся с любопытством изучать округу, потому что искал возможности поговорить с молоденькой соседской служанкой.
Садики примыкали друг к другу, разделенные хлипким штакетником, и внизу, у воды, где планки ограды давно сгнили и исчезли, можно было без помех перейти с одного участка на другой. Соседский участок с виду казался более ухоженным, чем одичавший кожевников. Там виднелись четыре ряда грядок, заросшие травой и провалившиеся, как обычно после зимы. На двух грядках кое-где росли латук и перезимовавший шпинат, штамбовые розы с прикопанными кронами сгибались к земле. Дальше, заслоняя дом, стояли несколько красивых пихт.
Хорошенько осмотрев чужой участок, Кнульп бесшумно подобрался к этим деревьям и теперь увидел за ними дом; кухня выходила на задний двор, и немного погодя он углядел и служанку: закатав рукава, она хозяйничала на кухне. Хозяйка тоже была там и поминутно командовала да поучала, как все женщины, которые по причине нехватки средств не могут нанять обученную прислугу, ежегодно ее меняют, но задним числом без устали нахваливают. Впрочем, в ее указаниях и претензиях не было злости, и девушка, казалось, уже к ним привыкла, поскольку работу свою делала уверенно и спокойно.
Пришелец прислонился к стволу, стоял, вытянув голову вперед, любопытный и настороженный, словно охотник, и прислушивался с веселым терпением человека, у которого времени пруд пруди и который наторел участвовать в жизни зрителем и слушателем. Он с радостью наблюдал за девушкой, когда та появлялась в окне, а по выговору хозяйки сделал вывод, что родом она не из Лехштеттена, а из мест выше по долине, в нескольких часах ходу. Часа этак полтора он, спокойно слушая, грыз душистую пихтовую веточку, пока хозяйка не ушла и на кухне не настала тишина.
Он еще немного подождал, потом тихонько подошел к кухонному окну и сухим прутиком постучал в стекло. Служанка не обратила внимания, пришлось постучать еще дважды. Тогда она подошла к приоткрытому окну, распахнула его настежь и выглянула наружу.
– Ох, что это вы тут делаете? – вполголоса воскликнула она. – Едва не напугали меня.
– Зачем же меня пугаться! – с улыбкой отозвался Кнульп. – Я только хотел поздороваться да глянуть, как у вас дела. А поскольку нынче суббота, хотел спросить, свободны ли вы завтра во второй половине дня, чтобы совершить небольшую прогулку.
Она посмотрела на него и покачала головой, но он состроил такую безутешно огорченную мину, что ей стало его очень жаль.
– Нет, – дружелюбно отвечала она, – завтра я не свободна, разве только утром, чтобы пойти в церковь.
– Так-так, – проворчал Кнульп. – Ну, тогда вы наверное можете составить мне компанию нынче вечером.
– Нынче вечером? Н-да, свободна-то я свободна, но собираюсь написать письмо родным, домой.
– О, напишете часом позже, все равно нынче вечером оно отсюда не уйдет. Знаете, я ведь так радовался, рассчитывая снова немного поговорить с вами, а сегодня вечером, коли ничего не стрясется, мы могли бы прекраснейшим образом прогуляться. Ну пожалуйста, соглашайтесь, вы ведь не боитесь меня!
– Никого я не боюсь, тем более вас. Только ведь нельзя так. Вдруг кто увидит, что я гуляю с мужчиной…
– Но, Бербеле, вас ни одна душа здесь не знает. И в самом деле это никакой не грех и никого не касается. Вы ведь уже не школьница, а? Словом, не забудьте, в восемь я буду ждать возле гимнастического зала, у прохода на скотный рынок. Или мне прийти раньше? Я смогу.
– Нет-нет, раньше не надо. И вообще… вам незачем приходить, ничего не получится, и я не могу…
Лицо у него опять по-мальчишечьи вытянулось от огорчения.
– Ладно, раз уж вам не хочется! – печально проговорил он. – Я думал, вы здесь чужая, одинокая и порой тоскуете по дому, как и я, и мы бы могли кое-что рассказать друг другу, я бы охотно побольше узнал про Ахтхаузен, поскольку бывал там. Ну да ладно, заставлять вас я не могу и, поверьте, вовсе не хотел вас обидеть.
– Да что вы, какие обиды! Просто я не могу.
– Вы ведь свободны нынче вечером, Бербеле. Просто вам не хочется. Но, может быть, все-таки передумаете. Сейчас мне пора уходить, а вечером я буду ждать возле гимнастического зала и, если никого не дождусь, пойду на прогулку один, стану думать о вас и о том, что вы пишете письмо в Ахтхаузен. Ну, адью и простите великодушно!
Он коротко кивнул и ушел прежде, чем девушка успела сказать хоть слово. Она смотрела, как он исчезает за деревьями, и лицо у нее было растерянное. Потом она вернулась к работе и вдруг – хозяйка-то отлучилась – звонко запела.
Кнульп все прекрасно слышал. Он опять сидел на кожевниковых мостках, катал шарики из кусочка хлеба, прихваченного за обедом. Хлебные шарики он тихонько бросал в воду, один за другим, задумчиво наблюдая, как они тонут, отнесенные течением чуть в сторону, и как внизу, в темной глубине, тихие призрачные рыбы хватают их и поедают.
– Ну вот, – сказал за ужином кожевник, – субботний вечер, а ты ведь знать не знаешь, как это замечательно, после целой недели усердных трудов.
– Отчего же, вполне могу себе представить, – улыбнулся Кнульп, и хозяйка тоже улыбнулась и плутовски посмотрела ему в лицо.
– Сегодня вечером, – торжественным тоном продолжал Ротфус, – сегодня вечером мы с тобой разопьем добрый кувшинчик пива, старушка моя сей же час принесет, ладно? А завтра, коли денек будет погожий, махнем втроем на прогулку. Что ты на это скажешь, старый дружище?
Кнульп крепко хлопнул его по плечу.
– Хорошо у тебя, что говорить, и прогулке я уже теперь радуюсь. Однако нынче вечером у меня есть одно дельце, надо повидать приятеля, он работал тут в верхней кузнице и завтра уезжает… Так что извини, но завтра мы весь день проведем вместе, кабы я знал, нипочем бы не стал с ним уговариваться.
– Ты никак вправду из дому собрался? Ведь нездоров еще!
– Ну что ты, чересчур баловать себя тоже нельзя. Я вернусь не поздно. Скажи только, где ты прячешь ключ, чтобы я мог войти.
– Упрямец ты, Кнульп. Ладно, ступай, а ключ найдешь за ставней погреба. Знаешь ведь, где это?
– Конечно. Тогда я пойду, прямо сейчас. А вы ложитесь пораньше! Доброй ночи. Доброй ночи, хозяюшка.
Он вышел, а когда был уже внизу, у двери, его поспешно догнала хозяйка. Принесла зонт и, не слушая возражений, всучила Кнульпу.
– Вы и о себе должны думать, Кнульп, – сказала она. – А сейчас я покажу вам, где найти ключ.
В темноте она взяла его за руку, повела за угол дома и остановилась у оконца, закрытого деревянными ставнями.
– Вот за эту ставню мы кладем ключ, – взволнованным шепотом сообщила она и погладила Кнульпа по руке. – Суньте руку в прорезь и нащупаете его на подоконнике.
– Большое спасибо, – смущенно отвечал Кнульп, высвобождая руку.
– Оставить вам кружечку пива, к возвращению? – продолжала она, легонько прижимаясь к нему.
– Нет, спасибо, я редко пью пиво. Доброй ночи, госпожа Ротфус, и еще раз большое спасибо.
– Дело такое спешное? – нежно прошептала она, ущипнув его за плечо. Лицо ее было совсем рядом, и в смущенной тишине, не желая силой оттолкнуть ее, Кнульп погладил ее по волосам.
– Ну, мне пора, – неожиданно громким голосом воскликнул он, сделав шаг назад.
Полуоткрытыми губами она улыбнулась, в темноте он видел, как блеснули зубки. И она тихонько добавила:
– Я дождусь, когда ты вернешься, дорогой.
Он быстро зашагал прочь по темному переулку, с зонтом под мышкой, и на ближайшем углу, чтобы совладать с глупой неловкостью, засвистел песенку. Вот такую:
Я не думал никогдаНа тебе жениться,Ведь пришлось бы мне тогдаВ обществе стыдиться[6].Задувал довольно теплый ветерок, и на черном небе порой проступали звезды. Предвкушая воскресный день, в трактире шумела молодежь, а в «Павлине» за окнами нового кегельбана он заметил компанию солидных господ, они стояли кучкой, без пиджаков, с шарами в руках и сигарами во рту.
Возле гимнастического зала Кнульп остановился, глянул по сторонам. В голых каштанах еле слышно напевал влажный ветер, река беззвучно струилась в глубокой черноте, отражая несколько освещенных окон. Всеми фибрами своего существа он ощущал живительность мягкой ночи и дышал глубоко, жадно, предчувствуя весну, тепло, сухие дороги и странствие. Неисчерпаемая память его обозревала город, речную долину и всю округу, все здесь было ему знакомо, он знал дороги и водные пути, деревни, хутора, усадьбы, доброхотные постоялые дворы. Основательно подумав, он составил план следующего странствия, ведь оставаться здесь, в Лехштеттене, никак нельзя. Коли хозяйка не станет слишком его донимать, то ради друга он задержится на воскресенье, но не дольше.
«Может, – размышлял Кнульп, – стоило намекнуть кожевнику, насчет его хозяйки». Но он не любил совать нос в чужие заботы и не испытывал потребности помогать людям стать лучше или умнее. Сожалел, что дело обернулось таким образом, и думал о бывшей подавальщице из «Быка» отнюдь не дружелюбно, хотя с легкой насмешкой вспоминал и горделивые рассуждения кожевника о домашнем очаге и семейном счастье. Все это было ему хорошо знакомо, ведь если кто хвастался и кичился своим счастьем или добродетелью, то большей частью их и в помине не было, вот и с благочестием портного некогда обстояло точно так же. За людской дуростью можно наблюдать, можно смеяться над ближними или сочувствовать им, но идти они должны своим путем.
С задумчивым вздохом он отмел эти заботы. Прислонился к ложбине в стволе старого каштана, что рос напротив моста, и продолжил размышления о своем странствии. Он бы с удовольствием пересек Шварцвальд, но наверху сейчас холодно и, вероятно, покамест много снегу, загубишь башмаки, да и от ночлега до ночлега далеко. Нет, так не годится, надо идти долинами, держаться городков. Оленья мельница, в четырех часах пути ниже по реке, – первый надежный приют, в плохую погоду можно задержаться там на день-другой.