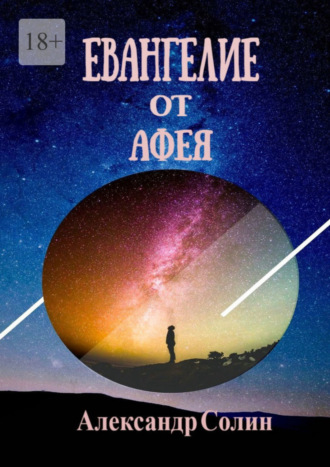
Полная версия
Евангелие от Афея
– Хотелось бы…
– И что вы хотите знать?
– Почему вы выбрали именно этот эпизод?
– Вы сами его выбрали.
– Я?!
– Да, вы. Просто ваш выбор оказался случайным по причине вашей неопытности. Воздержусь обременять вас техническими подробностями – в конце концов, тому, кто управляет, простите за сравнение, магнитофоном, вовсе не обязательно знать, как он работает. Вкратце же это выглядит так: все, что когда-либо попадало вам на глаза, залетало в уши, падало на язык, прикасалось к вашему телу, ваши мысли, сны, галлюцинации, а также связанные с этим эмоции – словом, все, что достигало вашего мозга изнутри и снаружи и превращалось им в поток импульсов – принято, зарегистрировано, разложено по полкам и готово вам служить. Это ваши ресурсы. Для того, чтобы ими воспользоваться, необходимо локализовать вашу память на желаемом событии или дате, и вы вновь переживете эпизоды вашей жизни, – сообщил Проводник.
С неумолимостью удава он заглатывал Матвея в свой мир все глубже и глубже. И все же та матвеева часть, что еще оставалась снаружи, продолжала дрыгать ногами. Его вдруг осенило:
– Я не могу вспомнить, я в самом деле не знаю, что со мной произошло, но то, о чем вы говорите, легко сделать с помощью препаратов! Я читал, что существуют специальные препараты, усиливающие и восстанавливающие память. Предположим, я каким-то образом попал под их влияние. Что со мной произойдет? То самое, что сейчас и происходит – бред и галлюцинации!
– То, что с вами сейчас происходит, не бред и не галлюцинации, – с достоинством произнес Проводник. – Но в одном вы правы: если у вас там завязать глаза, заткнуть уши и повлиять на мозг каким-нибудь малоэстетичным способом, то о настоящей реальности вам будет напоминать только урчание в желудке. Лично вы ощущаете урчание в желудке?
– Нет, – признался Матвей.
– Может, вам для полноты ощущений не хватает гастрита, язвы, диареи, колик, запоров и прочих сигналов измученного тела? Так просмотрите соответствующие эпизоды из вашей жизни, если это поможет вам вернуть душевное равновесие! А может, вы скучаете по грязным, разбитым улицам, жалким хижинам и отравленному воздуху ваших городов? Может, вам доставляет удовольствие ежедневно пересекать дорогу тысяч бегущих к своей жалкой цели людей? Может, вас радует ваше бессилие против обнаглевших и жадных чиновников, может, вам не хватает случайных встреч с лихими людьми, в изобилии наводнившими ваши улицы? – гремел Проводник. – А близкая старость, которая не радость? Вы что, ждете ее, затаив дыхание? Нет, мой дорогой друг, всего этого вы уже лишены, слава богу, навсегда! Так что смиритесь с тем, что ваше настоящее – это мой голос, а не урчание желудка!
Вот так быстро и просто Проводник унял земной бунт. Матвей подавленно молчал. Не было ни малейшего желания говорить. Никто, однако, его не торопил.
– Не переживайте, а лучше скажите спасибо судьбе за то, что вам не довелось познать унизительную ветхость тела, чей оскорбительный распад есть вызов мудреющему сознанию, – наконец прервал молчание Проводник. – Придет время, и вы найдете себя в этом мире. Может, даже станете Проводником, как я. Должен признаться, это нелегко, ведь мы тоже не деревянные. Труднее всего с преждевременными. Они очень неуравновешенны и осложняют процедуру, особенно молодые. Мой совет тем, кто еще жив: умирать надо в собственной постели и в окружении родственников. Но, в конце концов, не все ли равно, как мы сюда попадаем. Ведь настоящая жизнь начинается именно здесь, – журчал в темноте его голос.
– Вы так нахваливаете местные условия, что можно подумать, будто вы не жили среди людей! – не выдержал Матвей.
– Жил, и как все пережил унижение смертью. Правда, это было давно. Хотя, должен сказать, с тех пор на Земле ничего не изменилось. Там вообще ничего не меняется: там по-прежнему тяготит земное тяготение, там сегодня допрашиваешь ты, а завтра тебя, там мелкая вещь, упав на пол, тут же проваливается сквозь землю. А если вы станете спорить и сошлетесь на технический прогресс, то я вам отвечу, что всякие достижения в этой области, будучи внедренные в быт людей, являются лишь орудием их порабощения теми, кто на вершине пирамиды. Просто формы зависимости становятся изощренней.
– А вы сами как и когда сюда попали? – запальчиво воскликнул Матвей.
– Обычным путем, шестьдесят лет назад.
– В окружении родственников и в своей постели? – съязвил Матвей.
– Нет, в окружении немногочисленных свидетелей в форме и путем выстрела в затылок.
– Простите… – смутился Матвей.
– Да что там, дело прошлое, я уж и забыл.
– Вы, верно, были ленинцем? – попытался загладить Матвей свою неловкость.
– Вы верно заметили, я был верным ленинцем, – с иронией ответил собеседник. – Но тот, кто не успел избавиться от иллюзий там, обязательно избавится здесь. Вот вам, например, повезло: вы прибыли к нам законченным мизантропом, изувером и занудой. Прекрасная комбинация!
– Вы шутите! – обиделся Матвей. – С чего вы взяли?
– Ну, во-первых, здесь нет ничего обидного – напротив, это признаки настоящей зрелости. А во-вторых, это мое мнение после просмотра ваших ресурсов.
– Моих ресурсов? Вы хотите сказать, что вы… залезли в мою память?! – неожиданно возмутился Матвей, чувствуя себя так, будто его обокрали.
– Такова процедура. Ведь мы должны знать, кто к нам пришел, – невозмутимо ответил Проводник.
– Ну, знаете ли!.. – зашелся в возмущении Матвей.
Он вдруг живо представил себе несколько постыдных сцен из своей жизни, и ему показалось, что он краснеет.
– Мне нравится ваше негодование. Это говорит о том, что вы начинаете воспринимать меня всерьез, – как ни в чем не бывало отозвался Проводник.
Матвей опомнился: в словах Проводника была удручающая правда. В самом деле – с одной стороны, происходящее вполне укладывалось в версию с препаратами: доводы Проводника были изощренны, но неубедительны. С другой стороны, все протекало слишком гладко и определенно двигалось к какому-то логическому концу. И тут он решил, что ничего не потеряет, если подыграет этому узурпатору своего забытья. Судя по всему, тот не отстанет, пока не расскажет все, что знает. Одно из двух: либо кончится действие препаратов (только какие к черту препараты, если он ничего не употребляет?!), либо иссякнет вдохновение самозваного лектора.
– А не продолжить ли нам? – бодро приступил он к исполнению своего плана.
– С удовольствием! – откликнулся Проводник: – Итак, гетакронный мир есть продолжение мира людей, который при всей своей способности к самоорганизации, страдает от сильной физиологической составляющей. Попытки доминирования со стороны отдельных социальных групп и целых народов чреваты гибелью всего человечества. И если до сих пор человечество избежало катастрофы, то это прямая заслуга мира гетакронов, мира, так сказать, Чистого Разума. Получается, что несовершенство одного мира уравновешивается совершенством другого. Ведь гетакрон – это информация, освобожденная от оков кривляющейся биохимии, сияющий кристалл, поднятый со дна сточной канавы по имени подсознание, квантовая квинтэссенция человеческой жизни и абонемент в бессмертие!
У Проводника определенно имелась склонность к пафосу. Вероятно, в свое время он с тем же жаром рекламировал мировую революцию. Матвей слушал, не перебивая.
– Как после морской раковины остается лунная жемчужина, так после человека – его гетакрон, – продолжал ораторствовать Проводник. – Так же как терпеливо трудятся недра, чтобы выпестовать бриллиант чистейшей воды, должен трудиться человек, обогащая себя музейной тишиной, а не возбужденной атмосферой кабака. Каждый гетакрон ценен своими ресурсами, и каждый получает право на выбор будущего статуса. Независимо от качества ресурсов, каждый гетакрон найдет здесь свое место.
– Даже шофера и продавщицы? – не утерпел Матвей.
– А также сантехники и официанты, – невозмутимо добавил Проводник. – Должен вам заметить, что именно эти типы отличаются повышенной изобретательностью и находчивостью – качества, совершенно незаменимые в здешних условиях.
Последние слова Проводник произнес, будто к чему-то прислушиваясь. Выждав, он сообщил:
– Ситуация требует моего участия в небольшом совещании. Я оставлю вас на некоторое время, а вы не скучайте и посмотрите что-нибудь из вашего детства. Это всегда успокаивает.
И исчез.
Несколько минут Матвей озадаченно прислушивался к наступившей тишине. У него вдруг появилась надежда, что случилось то, чего он так ожидал: его мучитель оставил его, наконец, в покое, и он вот-вот очнется, вернет на место закатившиеся глаза, восстановит судорожное дыхание, вытрет слюну с уголка рта и будет с облегчением приходить в себя, пытаясь понять, что это было. Он ждал, но все оставалось по-прежнему. Внезапно ему захотелось увидеть отца, каким тот был во времена его детства. И тут же в тишину ворвался гудок паровоза.
5
Я уже знаю, что мне пять лет и три месяца, что мы живем на большой железнодорожной станции в Сибири, и что мой отец работает в депо. На станцию приходят два пути – один из Москвы, другой – на Москву. Я люблю смотреть на поезда, которые идут на Москву, и совсем не люблю на те, что идут на восток. Сегодня отец обещал показать мне пассажирский паровоз и даже взять с собой внутрь.
Мы идем вдоль путей по направлению к депо. Жарко. Я во все глаза гляжу вперед себя: передо мной постепенно вырастает железная гора паровоза. Моя рука старается крепче ухватить руку отца: никогда до этого я не видел паровоз так близко. Он стоит перед воротами депо и сверкает свежей краской. На темно-зеленом фоне ярко выделяются части, выкрашенные в красный и белый цвета. Внутри него что-то клокочет, воздух над трубой струится и дрожит, по бокам время от времени вырываются белые струйки пара, как будто паровоз отдувается. На его выпяченной груди ярко сияет красная звезда, ниже, от платформы почти до самых рельсов – красная решетка.
Мы проходим мимо огромных разноцветных колес. От паровоза веет горячим машинным маслом, свежей краской и паром. Он такой гордый и могучий, что к нему страшно прикоснуться. Я жмусь к отцу. «Не бойся!» – кричит он сквозь шум. Обычно отец ходит в форме, но сегодня воскресенье и он одет в шелковую рубашку с короткими рукавами и широкие светлые брюки.
Мы подходим к будке машиниста, куда ведут широкие ступеньки с отполированными до блеска перилами. Машинист стоит рядом и «концами» вытирает руки. Он отдает честь и здоровается с отцом за руку. Я с восторгом смотрю на отца: машинист такого красивого паровоза отдает честь моему отцу, значит мой отец – начальник! Вытягивая по очереди шею к чужому уху и превозмогая шум, взрослые принимаются о чем-то говорить. Я – в коротеньких штанишках, в матроске, бескозырке и сандалиях с опаской поглядываю из-за отца на неприступную громаду паровоза.
Наконец машинист поворачивается к трапу и ловко взбирается в будку. Отец берет меня на руки и ставит на ступеньку на высоте своей груди. Я лезу вверх, высоко задирая коленки, так, что вижу их почти на уровне плеч. Отец сзади телом закрывает меня, и мы поднимаемся с ним на высоту будки, где машинист подхватывает меня под мышки и заносит внутрь.
От ручек, рукояток, рычагов, круглых циферблатов и дрожащих стрелок у меня разбегаются глаза. Мне дают потрогать некоторые из них – они вибрируют и моя рука вместе с ними. Отец поднимает меня к невзрачному треугольнику, который болтается на конце толстой проволоки.
«Тяни» – говорит он.
Я с опаской тяну.
«Сильнее!» – кричит отец.
Я дергаю изо всей силы – раздается оглушительный гудок. От неожиданности я пугаюсь и бросаю треугольник. Отец с машинистом смеются. Машинист нажимает на рычаг, створки разъезжаются, и передо мной открывается пышущая жаром топка. Я хоть и стою далеко, но невольно заслоняю глаза рукой – так силен жар.
Наконец экскурсия заканчивается, и мы тем же путем спускаемся вниз. У меня на коленках и руках небольшие темные следы масла. Машинист дает мне «концы», и я пытаюсь их стереть.
«Ну, – говорит машинист, – когда вырастешь – будешь машинистом?»
Я киваю головой и стеснительно отворачиваюсь.
Взрослые смеются, довольные.
Изображение погасло, тишина и темнота вновь обступили Матвея. С нарастающим беспокойством вслушивался он в безразмерное пространство. Ситуация невероятная: находясь неизвестно где, он жаждал услышать голос неизвестно кого в надежде обрести хоть какой-то смысл происходящего! С той же страстью, с какой вначале мечтал избавиться от невидимого голоса, он хотел его теперь услышать. И долгожданный голос раздался:
– Ну, как вы тут без меня? – спросили Матвея с интонацией матери, забежавшей посмотреть, живы ли еще ее дети.
– Жив еще, – ответил Матвей, чувствуя, как с его плеч покатилась гора.
– Жив, конечно, жив, а как же иначе! – торопливо подбодрил его Проводник. – Знаете, у меня тут проблемы по службе, не могли бы вы потерпеть еще немного? Я скоро вернусь, и мы продолжим.
– Конечно, но что мне делать, если с вами что-нибудь случится? – не выдержал Матвей.
– Со мной? – удивился Проводник. – Со мной ничего не случится. И с вами – тоже. Мои помощники контролируют процесс.
Гора с плеч сваливается окончательно. Матвей с облегчением занимает место в зрительном зале на киносеансе длиною в жизнь. Ему только что показали, кто в этом доме хозяин.
6
Вот уж, воистину: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам!»
Его самосознание просыпается с первым капризом, первым смехом, первым страхом, первым словом. Всё, что вокруг него, имеет свое имя и связано с ним и между собой цветом, звуком, запахом, вкусом, тяжестью и доступностью, а то, что где-то прячется – например, избушка на курьих ножках, баба-яга, витязь, царевна-лягушка – будоражит воображение. Взрослые для него – идолы, и первый среди них – отец. Матвей растет нормальным, здоровым ребенком с наивным и пытливым взглядом. Может показаться, что он сверх меры впечатлителен, но то мера ленивая, обывательская. Его кожа отдает парным молоком, и всё прочее такое же свежее, незамутненное, непорочное – будь то сонная испарина или прозрачная слюна, мятные губы или жемчужная эмаль молочных зубов, звездная искра серых глаз или соломенный отлив блестящих волос. Неужели он был таким?
Четырехлетний мальчик стоит посреди двора.
К матери пришла подруга, и чтобы я не мешался под ногами, меня вытолкнули гулять. На мне валенки, двое штанов, перехваченная поясом шуба и похожая на шлем шапка. Воротник шубы поднят и обвязан шарфом. От обилия одежды мои движения скованы.
Вокруг меня зимний вечер. Ноздри ломит от морозного воздуха, на концах воротника замерзает дыхание. Воздух пахнет первобытной свежестью. Мне не хочется гулять, и я, поворачиваясь на месте, разглядываю окрестности.
Вот передо мной сарай, где живут несколько кур с петухом и большая свинья Чуша. Почерневшие доски сливаются с черной синевой неба на востоке. За сараем темнеет заснеженный пустырь, за пустырем маленькие деревянные дома теряются в черноте. Мне становится страшно смотреть в ту сторону, и я быстро поворачиваюсь туда, где угасает день.
На темно-синее небо уже взошла белая, полная луна. Рядом с ней переливается перламутровая звезда. Опускаясь к горизонту, небо светлеет и заканчивается багровой полосой. Луна заливает снег серебристо-голубым светом. На ближнем ко мне сугробе вспыхивают искорки снежинок. До меня долетает только скрип снега под ногами, редкий лай собак, да далекие гудки паровозов.
Я долго смотрю на луну, на высыпавшие звезды, потом обвожу взглядом темносиний купол неба, снежные просторы с молчаливыми строениями, желтый свет в окне нашего дома, багровые остатки дня. Ощущение беззащитности перед чем-то огромным, таинственным и непонятным зарождается внутри меня. Внезапно мне становится страшно, и я бросаюсь в дом.
Синяя темнота преследует меня по пятам.
«Хоронят, хоронят!» – кричит кто-то из нас, и мы бежим к окнам. Наш детский сад расположен по пути на кладбище, и дорога со станции упирается прямо в наши окна. Мы расплющиваем носы и, затаив дыхание, глядим туда, откуда на нас надвигается похоронная процессия. Вот стали слышны звуки оркестра, вот уже можно различить фигуры людей. Процессия небольшая и без грузовой машины. Мы пытаемся угадать, кого сегодня хоронят. Проходит минут десять и, наконец, видны люди, несущие на белых полотенцах красный гроб. «Бабушку или дедушку хоронят!» – уверенно говорит кто-то из ребят.
Процессия уже под самыми нашими окнами, и вдруг оркестр после паузы грянул похоронный марш. Рыдающие звуки труб, размеренные удары барабана отбрасывают от окон самых пугливых. Мне становится жутко, но я не подаю вида. Девчонки начинают плакать, и воспитательница, что вместе с нами наблюдает за процессией, спохватывается и отгоняет нас от окна. Переполненные непонятным страхом, мы возвращаемся на стульчики. Процессия огибает ограду детского сада и уходит вдаль, унося с собой затихающие звуки оркестра.
Воскресенье. Жаркий, очень жаркий день.
Полуторка пробирается по избитой, волнистой дороге. В кузове полно людей, среди которых и я, шести с лишним лет. Отец держит меня на руках, рядом – мать. Компания едет на речку, протекающую в тридцати километрах от города. Люди сидят вдоль бортов и на дне кузова. Дорога настолько плоха, что машина порой наклоняется до угрожающего положения. Тогда люди судорожно цепляются друг за друга, за борта, за кабину и за все, что попадает под руку. Женщины повизгивают, мужчины посмеиваются. Кругом веселые, возбужденные лица. Я кручу головой по сторонам и с восторгом рассматриваю мужественные и сильные фигуры мужчин. Все они молоды, как и мой отец, некоторые с ребятишками на руках. Вот один из них ловко соскочил на землю. Отбежав на несколько метров, он что-то срывает и снова забирается в кузов. Вокруг опаленная сибирским солнцем худосочная потрескавшаяся земля. «Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей…» – мерещится мне.
Тем временем полуторка выползает на ровную дорогу и набирает скорость. Возникает теплый ветерок, и люди с наслаждением подставляют ему вспотевшие лица, плечи, грудь. Немного погодя машина останавливается на берегу реки.
Взрослые, скрывая нетерпение, спешат покинуть кузов. Раньше других на землю спрыгивает тот самый молодой и ловкий дяденька, что сорвал на ходу цветок. Он быстро раздевается и, разбежавшись, смуглой ласточкой вонзается в воду. Его долго нет, и я заворожено гляжу на невозмутимое, сонное течение. Дяденька выныривает на середине реки, раздаются одобрительные крики.
Отец уже на земле, он помогает спуститься матери, потом, пресекая мои назойливые попытки слезть самому – а я уже перекинул ногу в сандалии через борт – подхватывает меня под мышки и ставит на землю.
Я не могу оторвать взгляд от реки. Впервые в жизни я вижу так много воды. На самом деле – это небольшая сибирская река (у нее даже имя есть – Омка), но мне она кажется самой большой на свете. Я уже знаю, что есть великая русская река Волга и, в нетерпении теребя руку отца, спрашиваю его:
«Пап, а наша река больше Волги?»
«Нет, Мотя, нет, Волга больше»
Мы спускаемся к воде. Вдоль берега растут гибкие деревья. Их тонкие ветви с узкими длинными листьями спускаются до самой воды. От них исходит чудовищно вкусный, горячий, дурманящий, незнакомый аромат.
«Это какие деревья?» – спрашиваю я отца, и он отвечает:
«Ива. Ракитник»
«А! Это как в песне „Дремлют плакучие ивы“, да?»
«Да, как в песне»
Я смотрю на зеленую прозрачную воду и вижу белые бока двух рыбок, медленно проплывающих мимо нас.
«Рыба, рыба!» – кричу я.
Отец заходит в воду, подхватывает и выносит на берег одну из них.
Я хватаю руку отца и тяну ее вниз. Отец раскрывает ладонь, и я вижу серебристую рыбку с ярко-красным оперением и неподвижным, тускло-жемчужным глазом.
«Красноперка. Дохлая» – говорит отец. Я осторожно трогаю рыбку пальцем, и мне становится ее жалко.
Тем временем купание в самом разгаре. Мужчины солидно плавают на середине реки, кто-то уже отдыхает на том берегу. Женщины, по грудь в воде, следят за ребятишками. Мы с отцом подходим к месту купания. Отец неторопливо раздевается, я за ним. Отец говорит: «Иди к матери», а сам степенно заходит в воду и, не ныряя, вразмашку удаляется от берега. Я смотрю ему вслед и горжусь тем, как хорошо отец умеет плавать.
Ребята встречают меня брызгами, я уворачиваюсь и постепенно захожу по грудь. И начинается бесконечное купание! Уже мужчины на берегу давно пьют пиво, неторопливо беседуя и наслаждаясь жизнью, уже женщины, расстелив покрывала и разложив на них горы еды, покрикивают на них: «Ну, сколько можно ждать!», а нас не вытащить из воды. Наконец у женщин лопается терпение, и вот мужчины рассаживаются вокруг покрывал, а мы, дружно стуча зубами, оказываемся на берегу.
Застолье, водка, еда – лучшие на свете люди сидят рядом со мной! Водку наливают в стаканы, тосты следуют один за другим. Вот старший за выезд встает, отставляет от груди полный стакан и торжественно произносит:
«За здоровье товарища Сталина!»
«Ура-а-а!» – дружно кричат взрослые и мы вместе с ними. Кто такой товарищ Сталин мы уже хорошо знаем.
Все разговоры постепенно сводятся в один общий разговор о войне. Нас пытаются прогнать на берег, но мы отчаянно отбиваемся: мы страшно любим рассказы про войну. Недавно война закончилась, мы победили, мы были самые сильные в мире. Главная мечта любого из нас – умереть геройской смертью за Родину, как показывают в кино. Я с горящими глазами вслушиваюсь в речи сослуживцев отца, которые все, как один, удивляются, что остались живы.
«Ну, мужчины, вас и развезло! – стали вдруг дружно покрикивать женщины. – Идите-ка купаться, только не утоните!»
Мужчины отбиваются, поднимаются, покачиваются и спускаются к воде. Кто-то лезет в воду, кто-то остается на берегу. Нас с отцом зовут прокатиться на лодке. Не веря своему счастью, я забираюсь в лодку и усаживаюсь на мокрую скамью на носу. В лодке еще трое взрослых и один незнакомый мальчишка.
«Готовы?» – шутливо-строго спрашивает тот, что на веслах.
«Гото-о-вы!» – вразброд отвечают пьяные дяденьки.
«Ну, тогда, полный вперед!» – командует тот, что на веслах.
«Полный вперед!» – с замиранием повторяю я, представляя себя матросом боевого корабля.
Лодка выгребает на середину, делает полукруг и возвращается к берегу. Вся поездка занимает не более пятнадцати минут, но за это время я прихожу в такое возбуждение, что не могу усидеть на месте. Лодка приближается к берегу, командир командует:
«Приготовиться к высадке!»
«Приготовиться к высадке!» – с восторгом повторяю я и… прыгаю за борт.
Вода смыкается над моей головой, я судорожно вытягиваю ноги, словно пытаясь встать на цыпочки, и не встречаю дна. Чья-то рука, соскользнув с моей головы, хватает меня за руку возле плеча и вытаскивает на поверхность. Вода у меня во рту, в носу, в ушах, в глазах. Я как рыба разеваю рот и пытаюсь дышать. От этих попыток вода проникает в меня все дальше, и я задыхаюсь. Меня быстро вытаскивают и укладывают на берег. Я ничего не понимаю, никого не вижу, внутри меня дикий ужас. Наконец, я делаю полный вдох и захожусь в кашле. Выплевываю воду, ослабевшими руками тру глаза, и вот начинается истерика. Меня пытается прижать к себе мать, но я отталкиваю ее, отталкиваю чьи-то руки и рыдаю, зажмурив глаза.
Постепенно я начинаю различать, о чем говорят окружившие меня взрослые.
«Мы все отвернулись, а он возьми, да сигани за борт, а там глубина метра два. Хорошо, я вовремя обернулся…» – слышу чей-то голос.
Все наперебой меня успокаивают. Мужчины пытаются шутить.
«Ты же солдат, а солдаты не плачут!» – слышу я.
«Ну, все, теперь будешь матросом!»
«Ну, какой же ты мужик, если плачешь?»
Я открываю глаза и вижу перед собой белое лицо отца.
Кстати, о здоровье товарища Сталина. Ну-ка, ну-ка…
Мать с заплаканными глазами сдает меня утром в детсад.
Мы заходим в гардероб, и я с порога вижу, что место перед моим шкафчиком занял какой-то пацан из средней группы. Я по-хозяйски подхожу и отодвигаю его одежду в сторону. Пацан верещит. На него тут же испуганно шикает его мать, моя – на меня, на всех нас – прибежавшая откуда-то воспитательница. На руке у нее красная повязка с черной каймой по краям. Женщины переглядываются и, не сговариваясь, начинают хлюпать носами. Я знаю, что умер Сталин и притихаю, поглядывая на плачущих женщин.
Раздевшись, иду в свою группу. Кругом непривычно тихо. На стене – портрет Сталина с черными лентами по бокам. Дети сидит на стульчиках, говорят только шепотом. Мне дают повязку. Повязка явно велика для моей руки и мои дружки Колька и Витька долго копошатся, прежде чем приспособить ее на место. Воспитательница с заплаканными глазами следит за тем, чтобы мы не шумели.









