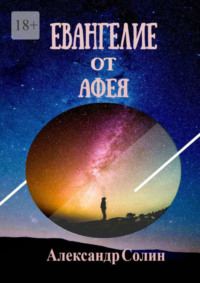Полная версия
Вся эта жизнь. Рассказы
Стучат, однако. Итак, святотатство начинается. Только без нервов – волноваться ему вредно. Пусть это будет чисто познавательная акция. Можно просто пообщаться. Без рук. В конце концов, он клиент и он платит.
И Вова открыл дверь.
– Бонсуар! – пропело в шаге от него худенькое, беленькое, чистенькое создание. – Са ва?
– Са ва! Антре! – гостеприимно отступил Вова.
Создание вошло и остановилось посреди номера, с легкой улыбкой уставившись на Вову. Никакого смущения. Вова же, напротив, разволновался пуще прежнего.
«Но почему я должен волноваться! Ведь это же самая обычная проститутка!» – попробовал он себя утешить.
Не тут-то было. Проститутка-то она, конечно, проститутка, только выглядит – дай бог каждому! На улице встретишь – не подумаешь. Швейцар словно в душу к нему залез – она была именно та, какую он хотел. Ну, как тут не волноваться. И Вова суетливо указал ей на кресло:
– Я вас прошу, садитесь.
Ну, кто же здесь проституток величает на «вы». Дева мягко присела.
– Как вас зовут? – спросил Вова, устраиваясь напротив.
– Адель. А тебя?
– Зовите меня ВладИ.
– Влади… – чирикнула беленькая птичка.
«Господи, да сколько же ей лет? – соображал Вова. – Восемнадцать-то хоть есть?»
– Надеюсь, вы совершеннолетняя, – как бы пошутил с улыбкой Вова, пристально следя за ее лицом.
– Да, да, не беспокойся! – буднично сообщила дева, будто комнату пришла убирать.
Она была спокойна и почти благообразна. В ней не было ни капли вульгарности, по крайней мере, в той степени, в какой Вова ожидал. Но и та степень, которую он мог подметить, была ничтожна. Во всяком случае, пока.
– Ты хочешь заняться любовью сейчас или позже? – пропела Адель, не меняя позы, где ее сжатые обнаженные коленки склонились немного вбок, служа поддержкой для тонких, уложенных одна на другую ладоней.
– Позже, если вы… ты не против.
– Как хочешь. Ты куришь?
– Я? Да, но сейчас нет.
– Я тоже не курю. Это вредно для здоровья.
– Очень хорошо! Кстати, ты торопишься?
– Но это зависит от тебя! – удивленно вздернула интонацию жрица любви.
– Тогда давай сначала поужинаем! Что скажешь?
– Конечно, раз ты хочешь. Мы пойдем в ресторан?
– Нет, я закажу в номер. Что бы ты хотела?
– Какую-нибудь рыбу и салат.
– Очень хорошо!
Вова снял трубку и перечислил все, что положено, включив туда шампанское, клубнику и десерт. Адель с симпатией взглянула на Вову.
– Очень мило с твоей стороны, – мурлыкнула она. – Если хочешь, я могу раздеться и ужинать нагишом!
– Нет, нет, не надо! – покачал Вова рукой. – Спасибо, не надо! Потом.
– Как хочешь. Тогда, если у нас есть время, я могу пройти в ванную?
– Ну, конечно! Тебе нет нужды об этом спрашивать!
– Спасибо.
И подхватив сумочку, она исчезла.
3Пока Адель отсутствовала, гарсон принес ужин и сервировал стол. Открыв шампанское, он пожелал бон аппети и удалился. Вова защелкнул за ним дверь и вернулся к столу. Приятное возбуждение владело им, оттеснив боль далеко на задний план. Прислушиваясь к тусклым звукам, доносившимся из-за двери, он представил некоторые ее действия и позы, которые она могла принимать, готовя себя к продаже, ее общение с биде и зеркалом, тонкие пальчики, массирующие грудь, живот и прочие места, куда любят забираться мужские руки. Представил и застеснялся.
Дверь открылась, вышла Адель. Она что-то с собой сделала – перед ним стояло свежее, невинное французское существо, собирающееся с папочкой на прогулку.
«Это черт знает что! Это что-то дикое и противоестественное, то, чем она занимается!» – не выдержал Вова, а вслух сказал:
– Ты очаровательна, Адель!
И предложил ей стул.
– Мерси! – только и сказала она, присаживаясь.
Шармант, шармант, шармант!.. Впрочем, в его нынешнем положении все девушки шармант. И Вова, совсем забыв, что ему скоро помирать, принялся потчевать гостью, заходясь в галантности и захлебываясь в учтивости. Между ними завязался живой отвлеченный разговор, совершенно в стороне от меркантильного повода их знакомства, дар взаимного внимания, каждой минутой доставляющий Вове крепнущую радость бытия. Вова был блестящий рассказчик, и казалось, только для того и пригласил эту молодую француженку, чтобы блеснуть перед ней искусством жить. Он в таких заковыристых красках, линиях и плоскостях поведал ей свою жизнь, что перед ней ожил портрет веселого, неунывающего канальи, выучившего французский язык на русской каторге и там же получившего высшее гуманитарное образование, а ныне путешествующего по миру. Он порхал с ней по долинам французской культуры, нисколько не заботясь, что она и вершин-то не знает. Он цитировал и заходился в экспромтах, парил среди имен, эпох и поколений. Он разогрел ее любопытство, заставил забыть о времени, месте и постели. Она не сводила с него светлых глаз, охотно улыбалась, пару раз похвалила, всплеснув руками и сказав «Браво!». Что ж, ее дело верное, а его энтузиазм – лишь горючее для ее счетчика…
Вдруг он почувствовал, что устал, откинулся на спинку стула и сказал:
– Et voila…
Она поглядела на его побледневшее лицо с испариной на лбу и спросила:
– ВладИ, с тобой все в порядке?
– Са ва, са ва, – отмахнулся он, сдуваясь, как остывший шар.
– Ну что, кофе? – спросил он, придя в себя.
– Как хочешь, – ответила она, скрываясь за дежурной улыбкой.
Он заказал кофе, им его принесли. Как ни тянул он время, но момент выяснения истинных отношений неумолимо подступал, пока не материализовался окончательно. Он возник из их неловкого молчания – Вова молчал, не решаясь рушить то высокое и деликатное, что витало еще в воздухе, она – потому что молчал он, чем она, впрочем, воспользовалась, тихим жестом достав из сумочки пару презервативов и пристроив их на краешек стола.
– Ну, что же… – вздохнув, приступил Вова, – может, ляжем?
– Если ты хочешь, – с готовностью отозвалась Адель. – Желаешь, чтобы я тебя раздела? Хочешь раздеть меня?
– Нет, нет, я сам! Раздевайся и ты.
Вова оставил гореть ночник, они разделись, причем Адель это сделала ловко и быстро, хотя, как еще это можно сделать, если кроме легкого платья снимать ей было нечего – оказывается, она весь ужин провела в нем, одетом на голое тело, какой и предстала, подрумяненная сбоку густым темно-розовым теплом. Вова, оставшись в трусах, разглядывал аппетитную фигурку с хрупкими плечами, крепкой вздернутой грудью, впалым животиком и ниже, ниже, да, да, там, там, ах, ах!.. Ему хотелось дотронуться до ее подернутой бархатной тенью кожи и пройти ладонью сверху вниз, ловя подобие телесного отзвука, который если бы и последовал, то был бы частью ее профессии, а, стало быть, напускным. И тут перед ним возник вопрос: в какой степени его ласки здесь уместны и уместны ли вообще, учитывая коммерческий сорт их отношений? Другими словами, Вова затруднялся определить степень допустимого чувства при пользовании платными услугами, выход за рамки которого поставил бы его в глупое, сентиментальное, недостойное положение.
Пока он ломал голову, Адель, приложив руку к его трусам и не обнаружив там следов энтузиазма, деловито предложила:
– Хочешь, я поиграю с твоим пи-пи?
– Нет, нет! – очнулся Вова.
Тогда она взяла его ладонь и приложила к своей левой груди, уперев в нее сосок, словно твердый, независимый нарыв встречного желания.
– Са ва? – заглянула она в его глаза.
– Са ва! – откликнулся Вова, решив пустить дело на самотек.
Он повернул ее к себе спиной и прижал, почуяв, как ожил его русский пи-пи. Руки сами побежали по клавиатуре ее тела, обнаруживая там нужные буквы, складывая их в жаркие послания и не забывая нажимать на гладкий услужливый enter, чтобы отправить их в свой адрес.
– Ты можешь оказать мне небольшую услугу? – вдруг спросила она, свернув голову и ткнувшись щекой в его нос, как в ограничитель.
– Конечно! – отозвался он хриплым голосом в ее щеку.
– Когда мы начнем, ты мог бы почитать мне какие-нибудь стихи? Ведь ты их знаешь так много!
– Хорошо, я попробую! – согласился слегка ошарашенный Вова.
Она склонилась, расставив руки на краю кровати, и Вова, запустив ей ладони в подбрюшье, приступил к декламации, выбрав для этого наиболее, как он посчитал, подходящий стих. Сначала он распаляющим шлепаньем бедер нащупал ритм, а затем загундосил с натугой, так что гласные в моменты соударений едва не срывались с его голосовых связок, как неловкие гимнасты с канатов:
Я на площадь пойду к Нотр-Дам,
И тебя, малышка, продам.
С твоих глаз бесстыжих начну
Звонких сто экю на кону.
Твои хитрые пальцы продам
Этих птиц непослушных гам,
Твои губы, что вечно лгут
Шестьдесят дублонов дадут.
Плети рук твоих я продам
Предложу розы пяток там,
За коленки твои и бюст
Франки даст итальянский хлюст…
– Ах, как хорошо! Как хорошо!.. – пыталась обратить к нему лицо Адель, но лишь кончик носа ее сверкал сквозь русую россыпь волос.
Ободренный Вова, размашистыми толчками подталкивая гранату вожделение к хриплому взрыву сладкого безумия, продолжал:
Твой тугой шиньон, что на вид
Словно злато под солнцем горит,
Поцелуи твои заявлю
На торгах, что я объявлю.
– Не торопи-и-и-сь! – кричала ему Адель. Но Вова уже зачастил:
Тем, кто цену даст выше всех
Я продам твою душу и смех,
Твое сердце ж, коль будут желать
Я готов в придачу отда-а-а-ать!.. (*)
Тут Вова, не сумев совместить два финала, потерял дар французской речи, задергался, забуксовал и выдал:
– Расцвела сирень, черемуха в саду!..
Однако партнерша промашки не заметила, поскольку сама в этот момент рычала необычно низким для хрупкого тела голосом. Длинные волосы ее, закинутые через затылок, мотались из стороны в сторону, следуя несдержанным повелениям головы. Вова отпустил ее, и она упала на кровать лицом вниз. Вова рухнул рядом с ней.
– Мммммм-м! Как хорошо-о-о (que c’est bon)! … – носом промычала Адель. – Браво, Влади, браво! Мерси!
– Понравилось? – покровительственно отозвался Вова.
Ей понравилось. Vraiment, c’etait beau.
Они лежали и болтали, как добрые любовники, утопившие в лучезарных водах удовлетворения каменистое дно стеснительности. Он спрашивал о ее жизни, она охотно отвечала. Сама она с севера и в Париже уже два года. Довольна и что-либо менять пока не собирается. Слово за слово, он много узнал о ней, но не решился спросить главного – почему она этим занимается? Постепенно ее лицо сделалось по-детски доверчивым, так, что ему захотелось поцеловать ее пухлые губы, но он не пошел так далеко. Да и нужно ли это?
– Ты что, хочешь повторить? – вдруг спросила она, приподняв край укрывающей их простыни и заглядывая под нее.
– Обязательно!
– Тогда уж доставь мне удовольствие еще раз. Ты ведь можешь?
– Конечно, могу! Что ты желаешь?
– Давай повторим это с моим стихом.
– Без проблем! Какой стих?
– Ты его, наверное, не знаешь, его у нас в школе заставляют учить. Но я могу сама его читать, а ты слушай и не торопись. Конечно, было бы замечательно, если бы ты его знал, это был бы супер!
– Хорошо, хорошо! Какой же это все-таки стих?
– Puisque mai tout en fleurs… – тоненько завыла Адель.
– Dans les pres nous reclame… – подхватил Вова. (**)
– Супер, супер! – взвизгнула Адель, – Ты знаешь, ты, оказывается, знаешь, обманщик! Понимаешь, в чем тут дело! У нас в классе преподавал французскую литературу красавчик Шарли Дюбуа, и когда он на уроке перед нами читал этот стих, все девчонки его хотели! А я закрывала глаза, качалась в такт и представляла, как он читает этот стих и берет меня сзади! Наверное, я была идиотка, n’est-ce pas?
– Сколько же тебе было?
– Не помню, двенадцать или тринадцать, кажется…
Она по-кошачьи прильнула к нему, закрепила его боевое состояние, заняла позицию, и он, словно помесь маятника с метрономом приступил к нарезанию строф на короткие равные строчки, заталкивая их в нее одну за другой. И вот уже май, и цветы, и простор обступили их, и лунный свет закачался на сонных волнах, и тени прелестных крон заскользили по их вдохновенной ламбаде, и леса и поля раздвинулись до широты горизонта, откуда небесный свод взвивался к звездам, и стыдливые звезды падали на землю головой вниз, и солнце, тень, облака, зелень, небо с волной, и сиянье, и блеск всей природы распустились махровым цветком красоты и любви! Он кончил один стих, не теряя ритма, перешел к другому, затем к третьему. Перед его глазами трепетала узкая долина ее спины. Она то выгибалась холмом, разделенная надвое мелеющим ручейком позвоночника, то прогибалась от полноводья, и тогда лопатки буграми рвались из нее, словно там пытались прорасти два ангельских крыла; то закручивалась в сторону сломанной в локте руки, то вздымалась к нему, пытаясь выпрямиться, чтобы неистово запрокинутой рукой, как плетью обвить его за шею. Вдохновенный солист – тромбон его желания – трудился сосредоточенно, строго следуя размеру (ибо синкопы при таком подходе неуместны), чувствуя, как каждое погружение выдавливает из поэтической плоти малую каплю любовного яда, падающего сладкой отравой в рифмованную форму, чтобы, переполнив ее, разбежаться по жилам, вызвав конвульсии упоения и краткую потерю памяти. Обнаженный туземец, проникший в зачарованный сад, он достиг, наконец, самых отдаленных его уголков и испытал вместе с ней небывалое доселе состояние поэтического, так сказать, оргазма.
«Если все обойдется – ей-богу, женюсь на француженке!» – думал он, отдуваясь и потея рядом с ней. Притаившаяся в голове боль в тот момент была того же мнения.
– Оставайся на ночь, – предложил он, когда она повернула к нему влажное лицо. – Хочешь?
– Хочу, – ответила она и подставила губы. – Ты очень милый.
Утром он протянул ей 500 евро, она взяла.
– Достаточно? – спросил он.
– Вполне, – ответила она напряженным, как ему показалось, голосом.
– Ты не дашь мне свой телефон? – спросил он.
– Конечно. Звони, – и написала номер на салфетке.
На прощанье он хотел поцеловать ее в губы, но она подставила щеку.
– Salut!
– Salut.
Она ушла, и он ощутил сокрушительное одиночество. Как же так, ведь она только что была здесь две, нет, уже пять минут назад, она даже не успела далеко уйти, хотя, конечно, могла взять такси. Он обвел номер глазами. Вот постель, чьи алебастровые складки, как посмертная маска, хранят остывшие черты их ночной страсти. Вот чашка, из которой она пила свой утренний кофе – в нем остались шоколадные потеки и следы ее губ на краю. Смятая салфетка, которой она смахнула с губ крошки круассана, салфетка с номером ее телефона, крупные цифры с наклоном влево, как учат писать во французской школе. В ванной еще не высохли капли от ее утреннего туалета – до того, как она туда пошла, он все же разглядел легкую черноту под ее глазами. Сейчас придет femme de ménage и сотрет все ее следы, уничтожит, выбросит, унесет с собой. Следы его милой проститутки…
Он собирался позвонить ей после обеда и договориться о встрече, но к тому времени совсем раскис – таблетки не помогали, в парижских же аптеках ему сочувствовали, но без рецепта сильнодействующее не отпускали. Промучившись до утра, он улетел домой первым же рейсом, на который смог достать билет.
В Питере вслед черемухе цвела сирень, и пахло корюшкой. Через неделю ему сделали операцию, и три дня он чувствовал себя сносно, но потом внезапно впал в кому и через сутки скончался. На его старинном бюро французской работы, под стеклом, на самом видном месте друзья обнаружили салфетку, белую и легкую, словно засохшая ладонь черемухи, где в центре аккуратными, кокетливо откинувшимися назад черными цифрами был записан, судя по всему, номер телефона. Ниже чья-то рука синими, бессильно падающими в завтрашний день буквами, добавила: «Адель».
(*) – «Торги», Жермен Нуво, перевод автора
(**) – «Май», Виктор Гюго, перевод автора
О вреде ночного пьянства
В купе скорого «СПб-Москва», не замечая друг друга, коротали последние минуты перед грядущим отправлением двое. Один – безнадежно лысый, с недовольным лицом, другой – неопрятно-кучерявый, с неуверенным взглядом. Когда минут за десять перед этим кучерявый усилием руки, похожей в тот момент на кривошипно-шатунный механизм, откатил снаружи дверь купе, лысый сидел там, уставившись в окно, за которым фонари вокзала боролись с темнотой зимней ночи. Кучерявый приветливо поздоровался, лысый в ответ медленно повернул к нему тускло блеснувшую голову, неслышно шевельнул губами и снова отвернулся к окну. Кучерявый закинул наверх небольшую сумку, пристроился на краешке соседней полки и затих. Через минуту встал, снял шуршащую куртку, повесил ее на вешалку, затолкал в проем между стенкой и полкой, затем снова сел и принялся глядеть через открытую дверь на суету в проходе. Муравейник-поезд подбирал последних пассажиров, перед тем как закрыть входы и отправиться в ночь. Время здесь, такое же приглушенное как шаги и голоса, текло медленнее обычного.
Постепенно ходьба в проходе сникла, и часть пассажиров сосредоточилась возле окон, руками и лицом отгоняя от провожающих, а заодно и от себя тревогу последних перед дальней дорогой минут. Поезд подождал-подождал, дернулся и, слегка спотыкаясь на стыках, покатился в Москву. С тем и поехали. Минут пять попутчики сидели молча, затем кучерявый вышел из купе и встал к освободившемуся окну. По вагону из одного конца в другой плечом вперед проходили люди, и когда они терлись животами о его спину, ему приходилось прижиматься к поручню. Свернув голову, он провожал их рассеянным взглядом, а затем вновь устремлял его сквозь свое отражение в ночи.
Из служебного купе выступила аккуратная проводница и принялась собирать билеты. Дойдя до них, учтивая женщина вошла и тихим голосом сказала:
– Здесь билеты, пожалуйста.
– Пожалуйста, – войдя вслед за ней, предъявил ей свой билет кучерявый и добродушно добавил: – Что-то нас маловато!
– Ночью сядут, – тихо отозвалась проводница, рассовывая билеты по карманам складки.
– А-а, вот как! – откликнулся тот.
Лысый молчал, обернув к ней недовольное лицо.
– Когда белье будет? – неожиданно спросил он казенным голосом.
– Можете уже получать, – сообщила женщина и покинула купе.
Кучерявый вышел вслед за ней и встал у окна, уступая лысому соседу право устроиться первым. Сосед намек понял, поднял грузное тело и потащил его за бельем. Пока он ходил туда-сюда, а потом копошился за прикрытой дверью, кучерявый выглядывал в окне скудный пейзаж зимней ночи. Черный массив защитной лесополосы то тянулся стеной, то вдруг пропадал, открывая белеющую в темноте равнину с живущими на ее краю редкими огоньками. Снег в канавах вдоль пути был надежно утрамбован воздушными вихрями стальных ураганов, и желтый перфорированный свет, которым их поезд оглаживал откос, лишь добавлял ему мимолетный глянец. Поезд на полном ходу вонзился в станцию и разрезал ее пополам. Замелькали черные деревянные домишки, наполовину утонувшие в пасмурном неприветливом снегу. Кучерявый зябко повел плечами и подумал: «И как только люди здесь живут…» Поезд гулко пересчитал стыки и вырвался на простор. Дверь купе выразительно откатилась, приглашая кучерявого воссоединиться с лысым попутчиком. Помедлив с полминуты, кучерявый пошел воссоединяться. Его сосед, переодетый в тренировочный костюм, сидел, поставив локти на столик и утопив подбородок в сарделечном сплетении пальцев. Кучерявый скованными движениями привел свою полку в боевое состояние, снял сверху сумку и достал походные принадлежности. Вернув сумку на место, он взял в руки кое-какую одежду, чтобы идти в туалет, но в этот момент лысый сказал:
– Переодевайтесь, я выйду.
И вышел. Кучерявый прикрыл дверь, быстро поменял глаженую личину на умеренно мятую, наилучшим образом подходящую шаткому ночлегу, откатил дверь и, отступив, уселся на свою полку. Лысый вернулся и боком протиснулся на место.
Посидели. Помолчали. Кучерявый, стараясь не глядеть в сторону лысого, соображал, чем заняться: почитать или постоять у окна. Спать не хотелось.
– Не хотите составить компанию? – неожиданно дружелюбно предложил лысый.
Кучерявый повернул к нему голову и в замешательстве спросил:
– Какую компанию?
Лысый опустил руку под столик и извлек оттуда бутылку.
– По рюмке на ночь глядя, – предложил он, кивнув на зависший в руке сосуд.
– Даже не знаю… – с сомнением откликнулся кучерявый на неожиданное предложение.
– Коньяк на ночь никогда не повредит. Причем, хороший коньяк. Видите, как нам повезло: едем, как короли. Грех не воспользоваться, – благодушествовал лысый, уловив в голосе попутчика благоприятную неуверенность. Довольный вид прочно поселился на его лице. – Давайте, давайте! – добавил он отеческим тоном, каким сержант загоняет молодого солдата в холодную воду. После долгого молчания его компанейские слова выглядели как целая речь, и кучерявый вдруг почувствовал, что был все это время напряжен, и как напряжение его теперь покидает.
– А почему бы и нет! – решился он, стараясь выглядеть независимо. – У меня, кстати, и бутерброды есть!
– Вот видите! – приятной улыбкой отметил его предусмотрительность лысый, и в его руке появилась шоколадка. Он, не разворачивая, смял ее в широкой ладони и только после этого развернул.
Кучерявый встал и полез за бутербродами. Когда он вернулся на место, на столе уже стояли пластмассовые стаканчики. Кучерявый развернул бумагу с бутербродами, и в купе запахло ветчиной и свежими огурцами.
– Отлично. Как в ресторане, – одобрил лысый и разлил коньяк. – Ну, будем знакомы: Кропоткин. Граф.
– Рома. Роман, – представился кучерявый, и дело пошло.
Коньяк действительно оказался хорошим и быстро дал о себе знать. Кучерявый ухватил бутерброд и жадно, будто весь день не ел, стал откусывать от него большие куски. Лысый в свою очередь взял кусочек шоколада и положил себе в рот, с любопытством посматривая на соседа. Расправившись с бутербродом, кучерявый Роман вопросительно посмотрел на лысого графа, отдавая ему инициативу.
– Ну что, еще по одной? – правильно понял Кропоткин.
– Не возражаю, – охотно откликнулся Роман.
Придерживая толстыми пальцами легкие стаканчики, граф налил в них еще по одной.
– Будем здоровы! – пожелал он.
– Будем! – подхватил Роман.
За этим последовала пауза – исключительно по причине занятых разжевыванием ртов. Но вот фигуры обмякли, стены купе раздвинулись, и вслед благотворному причащению явилась потребность обратиться к добру. Кропоткин поинтересовался:
– В Москву по делам или так?
– Можно сказать, по делам, – сообщил Рома, испытывая подъем духа.
– И чем, если не секрет, занимаетесь? – полюбопытствовал Кропоткин.
– Да как вам сказать… – начал Рома, как всегда затрудняясь с ответом, когда его об этом спрашивали. – Как вам сказать… – тянул он, предвкушая эффект.
Кропоткин терпеливо ждал, сложив на груди короткие толстые руки.
– Пишу, знаете ли! – наконец скромно сообщил Рома, готовясь к привычной реакции. Обычно все его собеседники после такого заявления оживлялись и начинали допытываться, кто он и что написал, теша его самолюбие приятным щекотанием. Лысый граф, однако, даже бровью не повел, а только сказал:
– Вот как!
И бесцеремонно уставился на Рому. Тот в ответ глядел на него рассеянно, готовый отвечать на однообразные вопросы. Не было еще случая, чтобы их не было.
– И что же пишете? – спросил Кропоткин, вздергивая брови на середину лба.
– Да так, по-разному. Пьесы, повести, сценарии. До крупных форм еще не дорос, – скромно ступил на проторенный путь Рома.
– А позвольте спросить, над чем работаете сейчас? – перескочив через целый блок вопросов, спросил Кропоткин.
– Хочу написать детектив, – помедлив, признался Рома, которому такая прыть не понравилась.
– О! Детектив! Люблю детективы! – оживился граф. – Обожаю детективы! И о чем же будет ваш детектив?
– Ну, как можно об этом говорить! Ведь тогда пропадет вся тайна, весь резон! Да и, по правде говоря, я и сам еще не знаю, что это будет. Не придумал еще. Вот хочу написать, а о чем – еще не знаю, – неожиданно для себя разболтался Рома.
– А знаете что, а давайте-ка мы еще по одной, и я вам, пожалуй, предложу один сюжетец! – неожиданно блеснул глазами, как лысиной, граф. – Уверен – вам понравится!
– Ну-ка, ну-ка! – потер ладони Рома, увлеченный блеском чужих глаз и, спохватившись, спросил: – А вы сами, кстати, чем занимаетесь?
– Да так… Можно сказать, по казенной части, – отмахнулся Кропоткин и взялся за бутылку.