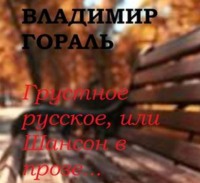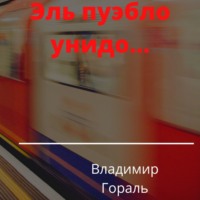Полная версия
Дознание капитана Сташевича
– Зачем?
– У меня в лазарете только что побывал Рогозин, – она частила нервной скороговоркой. – Без разрешения вошёл в комнату, ту, что с телами Поплавских. Я не успела его остановить. А там – как ты велел! Всё оставлено на месте. Пуговица! Он наверняка её увидел. Рогозин выскочил из комнаты с пистолетом в руке! Сам белее смерти. Весь трясся. Он в управление наверняка побежал. Ты запер дверь? Запри! Срочно зап…
Дальше Сташевич слушать не стал, бросил трубку. Вскочил и, вырывая на ходу из кобуры пистолет, бросился по лестнице на второй этаж. К кабинету начальника лагеря.
Сверху приглушенно грохнул выстрел табельного ТТ.
– Эх, Даша! Не тому ты позвонила! Не мне, а Бабру надо было срочно запирать кабинет, – бились в голове Андрея под аккомпанемент учащённого пульса тревожные мысли.
Дверь в кабинет начлагеря оказалась настежь распахнутой. В нос саданул до боли знакомый запах сгоревшего пороха. Рогозин стоял спиной к входу, посреди комнаты, загораживая письменный стол майора. В правой, заметно подрагивающей руке младший лейтенант держал пистолет.
Не раздумывая, капитан Сташевич тяжёлой рукояткой своего ТТ нанёс ему оглушающий профессиональный удар между лопаток. Рогозин, словно переломившись в коленях, рухнул на пол лицом вперёд. Бледный, с перекошенным от боли лицом Бабр сидел за столом. Левой рукой ниже правого плеча он зажимал обильно кровоточащую рану.
Андрей сорвал трубку со стоящего на столе телефона.
– КП! Коммутатор! Срочно Громову в кабинет главного! Здесь раненый!
– Я здесь, товарищ капитан, – раздался за спиной Андрея голос жены.
* * *Оба пострадавших, как начлагеря, так и покушавшийся на него подчинённый, оперативно получили первую помощь. Бабру повезло, пуля прошила его плечо навылет. Оглушённый Рогозин тоже сильно не пострадал. После доброй порции нашатыря, со связанными за спиной собственным ремнём руками, он сидел посреди кабинета на стуле. Голого по пояс, перевязанного белоснежными бинтами Бабра разместили на старом дерматиновом диванчике.
Обычно этот предмет казённой меблировки был вальяжно, по-купечески укрыт чёрно-коричневой, с шёлковым отливом куньей накидкой. Любовь Бабра к неуставной роскоши пришлась нынче кстати. Сей царственный меховой палантин пригодился для его раненого хозяина – теперь в качестве одеяла.
Больной, уколотый от болевого шока дозой морфина, явно расслабился.
– Какой же ты дурак, Алексей Иваныч! – почти добродушно ворчал он в адрес Рогозина. – Ну ладно Сташевич. Он человек новый, меня толком не знает. Но ты-то! Мы же с тобой с мая тридцать девятого, с самого Халхин-Гола знакомы. Ты рядовым, а я старшиной – вместе у комкора24 Жукова служили. Кто как не ты меня подраненного три километра на себе до лазарета нёс? И ты же, мой товарищ старый, теперь меня в ушкуйники25, детоубийцы записал! Да как же ты мог такое помыслить?! Чтобы я Лену и Машеньку своими руками?
– Пу-пуговица! – глядя куда-то в пол, просипел Рогозин.
– Да подарил я эту пуговицу Машеньке! А-а! Дрыть его! – вскинулся на диване Бабр. И тут же, скривившись от боли, улёгся обратно. – Не одну, несколько подарил.
– Несколько? – растерянно пробормотал Андрей.
– Поищите, в доме ещё где-то должны быть, – устало продолжил майор. – Уж больно малышке это цыганское золото нравилось. Блестит же! У соседей в лагере умельцы бронзой откуда-то разжились и всякие побрякушки из неё лить наладились. А с фурнитурой офицерской в лавках военторга сами знаете как. Вот ихний начлагеря коллегам-соседям и способствует.
– Любил я их, – прошептал пересохшими губами Рогозин. – Леночку и Машеньку. Как родных…
– Кто ж их не любил! – горько усмехнулся Бабр. – Я, может, ещё поболе твоего. К красоте да молодости все тянутся… От и начпрод наш Гришаня, дрыть его! Даром что семья у него на большой земле. А всё туда же, болтун-говорун усатый! Частенько возле дома Поплавской увивался. С подарочками… Мне докладывали… Доброжелатели, мля!
Майор повернул голову к Андрею и тихо продолжил:
– А ты молодец, капитан! Смекнул насчёт Лены с дочкой. Ты когда их нашёл, я сперва сильно на тебя осерчал. Сам не знаю почему. Наверное, потому, что ты надежду у меня отнял. Крохотную надежду, но всё же…
Глава третья. Фон Бравен
(Сын за отца)
Бурные события последних дней необычайно взбудоражили маленький мирок охраны. Обслуга Бирюслага тоже в стороне не осталась. Однако на размеренном режимном существовании полутора тысяч военнопленных немцев это не отразилось.
Насильственно собранная иноземная людская масса, ввергнутая роковыми обстоятельствами во враждебную и чужеродную, дикую таёжную дремучесть, она продолжала влачить своё привычное существование. Во всех смыслах замкнутое и обособленное бытие.
Чувство лютой ненависти к этим людям сопровождало капитана Сташевича всю войну. Чем дальше Андрей с войсками продвигался на Запад, чем больше узнавал о немыслимых зверствах, массовых убийствах военнопленных красноармейцев и беззащитных гражданских, тем больше ненавидел немцев. Это жгучее тёмное чувство усиливалось и крепло с каждым вскрытым рвом, полным женщин, стариков и детей. С каждым освобождённым концлагерем, пропитанным кричащим скорбным духом невинно убиенных людей…
Сташевич был убеждён, что эта ненависть не покинет его никогда. Но так уж случилось, что он пережил её. Недаром говорят: все проходит. Прошло и это. Причём как-то неожиданно быстро, в течение года. Тысячи немецких солдат, оказавшись в русском плену, мгновенно превратились в покорных бесправных рабов. Стали жалкими, прячущими глаза жертвами рока и обстоятельств.
После Сталинграда, когда в плен сдалась целая армия, смертность среди немцев была огромной. А все выжившие как будто понесли на себе некую «каинову печать». Это виделось в их сутулых спинах, в их вечно напряжённых затылках…
Беседуя со многими военнопленными по отдельности, не переставая этому удивляться, Андрей видел перед собой самых обычных людей. Иногда казалось, таких же, как и он сам.
– Послушайте, как же вы могли? Как позволили себе сотворить такое в захваченных вами землях и странах? – не удержавшись, спросил он как-то одного бывшего фельдфебеля, интеллигентного, приятного и общительного. Парень был призван на фронт с последнего курса Берлинского университета.
– О! Найн! Найн! – в ужасе замахал руками немец. – Это не мы! Мы, вермахт, в таком не участвовали! Это всё СС! Это они!
«Существует ли в головах этих немецких мужчин ясное осознание причинной связи между их недавним прошлым и настоящим?» – часто задавался одним и тем же вопросом Андрей.
Он мысленно ставил себя на место военнопленного немца и тут же отвечал за него:
«Да! Я и мы – все побеждены! Да! Моя и наша армия, моя и наша страна разгромлены! Расплата за это врывается в мои лёгкие с каждым вдохом, наполненным хвойной лесной смолистой горечью. В мои уши каждое утро с рёвом лагерной сирены. В мой желудок с каждым глотком лагерного супа».
«Испытывают ли они чувство вины или хотя бы какую-то часть своей личной ответственности за прошлое? Принимают ли нынешнее своё состояние как справедливое воздаяние за него?» – продолжал философствовать капитан.
«Что? Справедливость? – возмущался внутри Андрея воображаемый немец. – Да какая тут, шайзе, справедливость? Конечно, нет! Мы были всего лишь солдатами! Нам приказывали, мы исполняли! На фронте для солдата есть один закон: воюй и не рассуждай!»
«А чего я от них хочу? – безнадежно вздыхал про себя Сташевич. – Чтобы тысячи этих Гансов, Генрихов, Куртов и Клаусов, словно некий невнятный полубезумный русский убийца-самоед Раскольников, мучились чувством тяжкой вины в их таёжном узилище? Себя они жалеют! Себя и только себя! Может быть, хоть что-то поймут их дети! Или внуки! Когда-нибудь… Может быть. Впрочем, всегда имеются исключения…»
* * *В кабинете начальника лагерной контрразведки Вальтер сильно покривил душой. На допросе он тогда почти что с апломбом заявил капитану Сташевичу, что не собирался убивать Шнитке. Себе же со злобой и горечью Бравен говорил иное:
– Какое там не собирался? Да я просто жаждал его убить! Разорвать, превратить этого мерзавца, эту фанатичную мразь в кровавые ошмётки!
Подвела правая рука. Последствия осколочного ранения в плечо. В самый ответственный момент она просто отказалась повиноваться своему хозяину. На резкое движение правое плечо отозвалось такой яростной огневой болью, что Вальтер чуть было не потерял сознание. Тем не менее он продолжал наносить удары. Вернее, пытался это делать. Увы, только пытался!
На вой Шнитке влетели в коморку его подручные, дюжие сытые парни с алыми повязками активистов на рукавах. Они принялись методично и со знанием дела избивать Вальтера. Хорошо, что вмешались приятели, самые близкие из сотни его товарищей по прежнему лагерю. Почти все они были из бывших танкистов и не раз выручали друг друга в подобных переделках.
Внутри коллектива военнопленных ещё со времён начала войны царил порядок, отдалённо напоминающий самоуправление. Лагерная администрация это самоуправление, разумеется, жёстко контролировала. Во всяком случае, ей таковое мнилось. Старшины бараков, взводов, рот и отрядов назначались русским начальством.
Однако происходили эти назначения не без деятельного влияния «авторитетов» из военнопленных. Лагерных старшин, которые на деле доказали свою лояльность администрации, расположили к себе непростым умением поддерживать жёсткую дисциплину в своих подразделениях. В конечном итоге реальная власть в лагере для военнопленных, впрочем, как и в обычном гулаговском, оказывалась в руках кучки самых активных негодяев. Людей властных и жестоких, лишённых каких-либо принципов.
Для поддержания своей популярности эти субъекты порой вынужденно играли в справедливость. На деле ради выгоды они готовы были предать и продать всё и вся. Вальтер почти за три года плена прошёл через несколько лагерей в Центральной России и Сибири.
По странной закономерности почти в каждом из них реальной властью становились бывшие эсэсовцы – многие отъявленные военные преступники. В хаосе первых месяцев плена эти люди сумели поменять личины. Происходило это довольно просто. Смертность среди военнопленных, особенно после Сталинграда, была огромной. Чего проще было поменяться документами с кем-нибудь из своих менее удачливых соотечественников.
Правда, в этом случае приходилось отправляться из более комфортного офицерского лагеря в лагерь для рядовых. Зато теперь тебе не грозило разоблачение и чреватое виселицей обвинение в военных преступлениях. Чинам ниже лейтенанта, пусть даже служивших в составе войск СС, было и того проще. До этих мелких бесов у русских следователей и начальников оперативных отделов лагерей просто не доходили руки. Если, конечно, последних по-тихому не сдавали свои же…
В первые месяцы плена Бравен часто спрашивал себя, известно ли русским, кто на самом деле верховодит в лагерях вверенных им военнопленных? Через некоторое время этот вопрос сам собой отпал. Бравен вполне убедился, что русская администрация прекрасно знает о большей части её ставленников. По многим лагерным «активистам-антифашистам», старшинам рот и отрядов, плакала верёвка и скучала расстрельная команда. Конечно же, русским было многое известно об этих деятелях, часто настоящих военных преступниках. Однако их всё устраивало – был бы порядок в лагере.
Как и многие офицеры-фронтовики, сам Вальтер, служивший в обычных частях вермахта, терпеть не мог эсэсовцев. И если с заносчивыми, мнящими себя элитой бойцами из фронтовых подразделений СС можно было как-то сосуществовать, то к тыловым «воякам», убийцам старух и младенцев, он, Вальтер фон Бравен, как и его товарищи по оружию, питал стойкое, чисто физиологическое отвращение. Эти парни, отмеченные почётными знаками с мечом, пронзающим змею, могли сколько угодно рассказывать о своём ратном труде, борьбе с подлыми головорезами, бандитами-партизанами. Бывалый окопник всегда мог отличить настоящего солдата от грязного падальщика из зондеркоманды.
– Не удивлюсь, если Шнитке окажется как раз из таких, – злобно размышлял Бравен. – От этого мерзавца за километр разит мертвечиной!
Новый начальник оперчасти Вальтера больше не беспокоил. По крайней мере, за прошедшие две недели – ни разу. То же касалось выписанного из санчасти Шнитке. Главный лагерный старшина демонстративно не замечал своего несостоявшегося убийцу. По крайней мере, искусно делал вид. У Вальтера постепенно создалось впечатление, что у Шнитке, как и у русского капитана, появились куда более важные, чем его скромная персона, дела. Зато появилась другая напасть. Сны! Нет, не кошмары. Нечто похуже. Серые, мрачные грёзы. Полные неизбывной тоски видения. Всякий раз, как и в первую ночь, которую Бравен, арестованный за нападение на Шнитке, провёл в ШИЗО, он видел одно и то же…
Вальтер едва сомкнул глаза и тут же оказался в неведомой сумрачной и холмистой местности. Страдая от холода и сырости, он брёл по этой безжизненной пустыне. Наконец, к радости путника, вдали мелькнул бледно-красный отблеск.
Огонь! Возможно, костёр! По мере приближения рядом с костром начала различаться какая-то странная остроголовая фигура. Силы Бравена были уже на исходе. Он добрёл до костра и, не спросив позволения у сидящего возле него незнакомца, примостился рядом. Однако толку от этого костра оказалось немного. Вальтер протянул озябшие руки к бледным синевато-розовым, едва колышущимся языкам пламени.
Какое нещедрое, ускользающее призрачное тепло… Чтобы как-то согреться, Бравену пришлось засунуть ладони в самую сердцевину огня. Вальтер покосился на соседа. Незнакомец, облачённый в серые, напоминающие монашескую рясу одежды, молчал и не двигался. Островерхий, глубоко надвинутый на глаза капюшон полностью скрывал его лицо. Вальтер уловил какое-то движение над головой этого странного, похожего на католического монаха человека. Медленно преодолевая внезапно сковавший всё его тело необъяснимый животный ужас, Вальтер поднял глаза. Он смотрел и видел происходящее, словно через толщу мутной воды.
Над остроконечным капюшоном незнакомца парило нечто… Что-то напоминающее полупрозрачную человеческую фигуру в просторном балахоне. Края его колыхались, подобно плавникам огромной неведомой рыбы. Как и у сидящего рядом, тёмный островерхий капюшон венчал голову этого призрачного существа. Его одеяние также в точности копировало серую хламиду соседа Бравена. Вокруг видения медленно вращались какие-то туманные завихрения: то ли смерчи, то ли водяные или воздушные потоки. В отличие от соседа-монаха, у этого парящего призрака можно было различить под капюшоном часть лица. Оно было изжелта-бледным и неподвижным, словно высеченным из камня. Ещё был виден тяжёлый подбородок да изогнутая, горько опущенная уголками вниз тонкогубая щель рта.
Неожиданно парящий призрак плавно опустился за спиной монаха и тут же слился с ним, словно вошёл в его тело.
– О, Ва-альте-ер!
Этот жуткий стон прозвучал не в ушах Вальтера. Нет! Он словно возник где-то внутри головы! В самой глубинной глубине мозга.
Бравен вдруг с необъяснимым ужасом понял, что стон этот исходит от его соседа по костру.
– Кто ты? – терзаемый страшной догадкой, вопросительно прохрипел Вальтер.
– Кульпа-а26! – прошелестело со всех сторон.
* * *Всё-таки Шнитке не оставил без должного внимания своего нового врага. В этом Вальтера Бравена в течение всей третьей недели после известного происшествия неоднократно пытались убедить самые разные люди. То невзначай лопнули вдруг сразу несколько стальных стяжек на железнодорожной платформе. С лязгом и грохотом в двух шагах от Вальтера рухнули на землю и раскатились две трёхтонные рельсовые связки. То в паре сантиметров от его виска пронесся крупный кусок гравия из насыпи, вырвавшийся, словно из пращи, после чьего-то неловкого удара кувалдой мимо забиваемого в шпалу костыля. То вдруг, конечно же, совершенно случайно выпала из рук на насыпь и выстрелила в его сторону заряженная, с загнанным в ствол патроном винтовка русского недотёпы-охранника.
Вальтеру везло. Но, как по слухам, досиживая свои последние деньки в бункере, говаривал покойный фюрер:
– Всякому везению, друзья мои, когда-нибудь приходит капут!
Бравен усмехнулся мелькнувшей в его голове популярной среди военнопленных горькой шутке и тут же пожалел об этом. Лёгкая гримаса вызвала такую боль в затылке, словно в него с размаху всадили железнодорожный костыль. Дорогие соотечественники всё-таки достали разжалованного гауптмана, бывшего рядового штрафного подразделения Вальтера Бравена.
Он помнил, как, получив разрешение охранника, отошёл по нужде от железнодорожной насыпи и, едва углубившись в тайгу, остановился возле огромной и пышной ели. Затем вспышка ярчайшего фейерверка в глазах и стремительный полёт в тёмно-зелёном таёжном космосе. Сквозь нещадно, яростно царапающие лицо, длинные, остро пахнущие хвоей, беспощадно острые иглы изумрудных звёзд.
Хотя, если быть честным, везение Бравена продолжалось. В конце концов, он жив и лежит не хладным кадавром в песчаном таёжном грунте, а тёпленьким живым дураком в лагерном лазарете. У этого дурака, как у египетской мумии, туго и напрочь забинтована голова. Наружу торчит лишь крупный породисто-фамильный нос. Да ещё оставлена в бинтах прорезь для глаз. Ни дать ни взять – танковая смотровая щель.
– Слушай, Даш! – раздался рядом с Вальтером тихий знакомый мужской голос. – Он как, этот Бравен? Совсем тяжёлый или выкарабкается? Видок-то у него не очень!
– Ну я же не врач, Андрюш! – ответила неизвестная молодая женщина. – Да и не больница здесь у меня, так, лазарет при медпункте. Ты, да я, да товарищ майор Бабр – вот и весь консилиум. Я простой фельдшер, а тут ЧМТ27! Подождать надо, увидим. Всё, что я могу, – это капельница да обезболивающие. Его друзья перебинтовали умело, как мумию, так я и не трогала больше, не беспокоила, не осматривала, лица не видела. Ему полный покой нужен, может, и выкарабкается. Кстати, немцы, которые его доставили, с побитыми физиономиями были! Подрались они там, в тайге, между собой, что ли?
* * *Вальтер пробыл в лазарете всего лишь пару суток. На третий день хозяйка этого лагерного госпиталя, молодая женщина-фельдшер, пришла осмотреть Бравена. Она осторожно сняла бинты с его головы и ощупала гематому. Потом взглянула в глаза, чтобы проверить зрительные реакции и… в ужасе отшатнулась.
Вальтер даже не сразу понял, что происходит. А когда понял, растерялся. Да нет – не то! Он до тошноты, до дрожи в коленях, до рези в животе испугался! Да что там говорить! «Бесстрашный барон», не боявшийся на фронте ни чёрта, ни дьявола, попросту говоря, по-заячьи струсил!
В смотровом кабинете они находились вдвоём. Женщина отвернулась к лотку с какими-то мединструментами и стояла теперь молча, что-то там механически перебирая. Вальтер же бессмысленно пялился на её напряжённую, обтянутую белым халатом спину и молчал. Да и что скажешь, когда у тебя попросту отсох язык.
– Я знаю, что вы хорошо говорите и понимаете по-русски! – нарушила, наконец, молчание фельдшерица. – Это так?
– Я-а! Да! – внезапно осипнув, заставил себя ответить Бравен.
– Так вот! Слушайте и запоминайте… – деревянным голосом, всё ещё стоя спиной к Вальтеру, продолжила женщина. – Мой муж заместитель начальника этого лагеря. Вряд ли нужно объяснять, что именно он сделает с вами, расскажи я ему эту историю…. Грязную историю про грязную деревенскую баню, а также про то, как вы там со мной поступили…
– Но… я… мне… простите… – промямлил было Вальтер, но женщина не оборачиваясь перебила его.
– Скажите спасибо, что мне не нужна такая слава! – продолжила она звенящим от гнева голосом. – От вас требуется немногое. Просто молчание… Я выписываю вас. На неделю освобождаю от работ. Надеюсь, мы поняли друг друга? Идите.
«Вот дерьмо! Только этого мне ещё не хватало, – выскочив в полном смятении на крыльцо лазарета, злился на весь свет Бравен. – Да и как это может быть? В этой необъятной стране, среди сотен миллионов людей – она, та самая худенькая девочка из сожжённой деревни на окраине Смоленска, встретилась именно здесь, именно со мной? После всего пережитого, после наполненных кровью, грязью и мерзостью лет, судьба вдруг сталкивает меня с этой русской. Ну да! Чести в этом было немного! Но что уж такого ужасного мной было сотворено?! Я не трус и всегда прямо смотрел в лицо миллионоглазой военной смерти! Да! Я, голодный молодой мужчина, поступил тогда с ней не лучшим образом! Но не убил же, в конце концов! Как там её звали?»
Впрочем, не надо врать самому себе – он никогда и не забывал этого имени.
Её звали Дарья Громова. Даша…
Глава четвёртая. «Дознание капитана Сташевича». Станислава Каземировна
После пережитого в клятом доме семья Сташевичей-Громовых там не осталась, срочно вернулась в прежнее жилище Даши. Как можно жить в этом страшном месте, они представить себе не могли. Меж тем загадочное убийство так и оставалось нераскрытым.
Приезжал военный следователь, старший лейтенант из самого Иркутска. Фамилия у него была красноречивая – Халтурин. Ходил этот Халтурин вальяжно, водил хмурым носом да лениво опрашивал свидетелей. Через пару-тройку дней старлей засобирался обратно, объявив Бабру о раскрытии дела.
Убийство Поплавских этот следак списал на четверых беглых уголовников, которые прошлым летом бежали из соседнего лагеря, что всего лишь в четырёхстах километрах вверх по реке. Их последнюю стоянку случайно обнаружили охотники в сотне километров от Бирюслага. Далее следы беглецов вели к гиблым местам, в область непроходимых таёжных трясин…
По версии иркутянина, стройной и безукоризненной, беглые зэки забрались ночью в дом фельдшерицы по банальной причине – за продовольствием. Хозяйку с дочкой задушили, чтобы не шумели, после закопали в погребе. Правда, вопрос, зачем беглецы потратили время и силы на столь сложный и бессмысленный процесс, старлей внятно прояснить не смог. Зато в качестве убойного доказательства своей правоты предъявил вещдок – потёртый зэковский кисет из крысиных шкурок. Якобы его он нашёл в погребе дома Поплавских, на месте их захоронения. На кисете были вытравлены инициалы одного из беглых.
То, что этот «ценный» предмет иркутский следак привёз с собой, у Сташевича сомнений не было. Андрей ещё до его приезда лично перелопатил весь грунт в погребе, проверил основательно, чуть ли не просеял. Правда, ему пришлось работать в старом противогазе, раздобытом с большим трудом. Носоглотка без защиты в этом чёртовом подполе почему-то просто горела, вызывая приступы неудержимого чиха.
Впрочем, и кое-какая польза от этого Халтурина тоже случилась. Андрей узнал от него последний адрес проживания Поплавских. Оттуда, оставив семью, ушёл на фронт в самом конце войны юный глава семейства, лейтенант Василий (Войцех) Поплавский. Где и погиб.
С превеликим трудом сломив упорное сопротивление Бабра, Андрей вытребовал у него командировочное предписание, чтобы отправиться вместе со следаком в областной центр, город Иркутск. Прямо с вокзала, не отвлекаясь на другие дела, Сташевич устремился к нужному адресу. Ему повезло. Дверь бывшей квартиры Поплавских открыла сгорбленная седая старушка.
– Здравствуйте! Капитан Сташевич, – предъявил Андрей своё развёрнутое удостоверение начальника оперчасти. – Имя Елены Поплавской вам знакомо?
– Ах, молодой человек! Как не знакомо? Конечно же, знакомо! – обрадовалась-забеспокоилась бабушка довольно интеллигентного вида. – Леночка жена моего внучатого племянника, погибшего на фронте. С ней всё в порядке? А как Машенька? Здорова ли?
– С ними всё в порядке. Передавали вам привет. Беспокоятся о вашем здоровье, – не моргнув глазом отвечал капитан.
Андрей счёл за благо солгать. Во-первых, чтобы без лишних помех расспросить женщину по делу. Ну, а во-вторых, ему просто не хотелось расстраивать бабушку. Сташевич искренне пожалел старушку. Сколько ей там осталось? Пусть поживёт в счастливом неведении. Капитан выудил из вещмешка чуть початую стеклянную банку с красной лососевой икрой. Этот распространённый в здешних краях деликатес приготовила мужу в дорогу Даша.
– Это вам от Лены, – прокомментировал он своё подношение.
– Какая же она заботливая! – прослезилась старая учительница Станислава Каземировна.
Сведения о профессии бабушки, а также её имя-отчество-фамилию Сташевич просто почерпнул из большой групповой школьной фотографии на стене. На карточке были изображены портреты старшеклассников в овальных рамках. Лицо хозяйки квартиры находилось в центре.
«Класс. Рук. 10-А. Ст. Каз. Поплавская», – вывел под ней белым шрифтом неизвестный умник-фотограф. И ещё одна важная деталь обратила на себя внимание Андрея. На одной из висящих на стене фотографий Елена была запечатлена в домашней обстановке с крохотной новорождённой дочкой на руках.