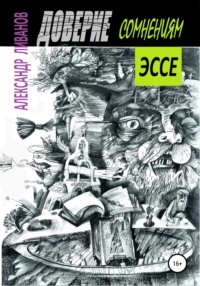Полная версия
Солнце на полдень
– Вижу, – говорю я, – вот и вот чернила. – Я почти кощунственно касаюсь чистых пальцев учительницы своим загвазданным в чернилах и клевещущим указательным перстом.
Что, Дойч? Не принял я твои правила игры? Может, примешь мои? Игра в простодушие – иной раз сильней лукавства.
Так и не разгадав мою уловку, Марья Степановна, точно от жала змеи, отдергивает ладошки и внимательно рассматривает сбоку свои указательный и средний палец, самые кончики. «Это вмятины от ручки», – говорит она неуверенно и убирает правую руку. Сам я, впрочем, еще меньше ее уверен, что видел чернила на руке учительницы. Так, одно упоминание.
И все же на уроке, диктуя нам «дер фогель», «дем фогель», прохаживаясь между рядами парт и косясь в тетради наши, она особенно внимательно смотрит в мою тетрадь. Я даже думаю, что остальные тетради – для отвода глаз. Она хочет разгадать секрет: как я ухитряюсь, записывая возвышенную немецкую словесность, так низменно мараться чернилами? По правде говоря, я и сам не знаю – в чем тут дело. Я стараюсь, но чем больше стараюсь, тем грязнее пальцы и тем больше клякс в тетради. Скажем, у Усти Шапарь, у Жени Воробьева – у тех ни одной кляксы, хотя вроде вовсе не стараются! Быстренько оба напишут все, что требуется про этого «фогеля» или про эту «фогель», отложат ручки, довольные откинутся на спинку парты: смотрят, ожидаючи, на учительницу. На лице – одно верноподданное послушание, прискромленная прилежность. Прикажите, мол, Марья Степановна – и мы про этих фогелей готовы писать хоть до самого вечера. С превеликим удовольствием. Пожалуйста! Вот тебе и «дер фогель» и «дем фогель»… Почему-то я считаю, что писать так, как я, вполне естественно. И никакой тут загадки нет. А вот Устя и Женька – непостижимы они для меня. «О чем ты думаешь!» Да так. О разном. Правда – не о немецкой грамматике.
У Усти и у Жени тетрадочки – хоть на выставку. Что им дается без труда, то мне не дается даже с трудом. И это факт, который никак не хочет признавать наша Дойч! На следующем уроке – все начинается сначала. Почему-то учителя всегда считают, что они обязательно должны выйти победителями в поединке с учеником! Даже чемпионы французской борьбы Иван Круц и Владимир Белоус, которые гастролируют ныне в Херсоне вместе с цирком Шапито, – и те признают иной раз свое поражение, а вот учителя не допускают и мысли о поражении. Даже ничья с учеником их не устраивает. Он нисколько не может быть правым – клади его на обе лопатки! Учителя друг за дружку – горой. Не то что мы, ученики, мы все против всех, наша мелкособственническая стихия – не земля, а отметки. Мы не сознательные пролетарии, мы рабы. Удел наш – разобщенность. А вот педагоги – клан, масонская ложа по имени Мадам Педагогика! Мы разобщены отметками и потаенной завистью. Нами управлять, властвовать над нами – проще простого. «Подлинное революционное мышление – классовое мышление». За эту фразу (где-то вычитал я ее) огреб я пятерку по обществознанию!.. «Классовое мышление» и «мышление в классе». На уроках нашей Дойч. Как их увязать? Есть у нас класс – сами мы не класс. Одна подчиненность!.. О чем я думаю?.. Да так – о разном. Только не о немецкой грамматике. По-моему, мысль свободна. Ей нельзя задать тему, форму, содержание – на сорок пять минут. Мысль – незаданность!.. Вот разве что – мысль о еде. О, она постоянная, увы, и заданная, и неотвязная тема. Голова даже немного кружится.
Не люблю я немецкую грамматику. Так язык не узнаешь, наоборот, невзлюбишь его, ни в чем не повинного. Что ж я не могу запомнить окончания на все лопатки склоняемого бедного фогеля?.. «Не люблю» для меня сильнее «не могу». А – люблю – я могу! «Пророка» Пушкина запомнил с одного прочтения. И «Ткачей», «Ди Веббер» Гейне – да, да – знал после третьего прочтения! Почему же двойка по «дойч»? Невыносимо для меня, когда живое слово – жи-во-е! – умное, неповторимое убивают, лишая смысла, лица, тела и души. Не живой это теленочек на лугу, а телятина на чурбаке мясника… Пусть, пусть двойка!..
Звучит последний – желанный и долгожданный – звонок. Последний урок – физика. Наш физик из инженеров, Иван Матвеевич, понимающе улыбаясь, смотрит, как мы срываемся с парт и спешим к дверям. Зато сам он, не спеша и солидно, как подобает учителю из инженеров, застегивает свой портфель с монограммой. Это красивая, блестящая бляшка с кокетливо загнутым уголком. Кудрявое, в завитушках все, письмо по серебру. Бляшка оповещает всех, кто только умеет читать, что этот портфель подарили своему любимому преподавателю и инженеру студенты-дипломники Херсонского педагогического института. На фамилию нашего физика из инженеров потрачено особенно много красивых завитушек. Звание инженера и такой портфель обязывают – и Иван Матвеевич каждым движением рук, оттопыренным мизинцем с длинным ногтем, каждым шагом как бы дает знать всем людям вокруг, всему белому свету – что он: ин-же-нер. Идет по коридору Иван Матвеевич, слегка наклонив голову к плечу, руки – мизинцы изящно и слегка оттопырены – прижаты к туловищу. В этом наклоне головы, оттопыренных мизинцах и степенной походке – снисхождение ко всем-всем, кому не посчастливилось в жизни родиться подобно ему таким статным, видным и солидным, и выучиться на инженера.
Чаще всего Иван Матвеевич идет домой с Мумией, нашим математиком Суреном Георгиевичем. Тот семенит то слева, то справа, Иван Матвеевич снисходительно перекладывает голову с одного плеча на другое, изредка кивает головой, выказывая приятность благовоспитанного человека. Рядом с рослым физиком наш невидный из себя математик напоминает худого и заштатного петуха рядом со спокойно-уверенным в себе гусаком.
Не успевает еще физик выйти за ворота, как у окна, на лестничной площадке, во всю свою вальяжную стать показывается Ирина Сергеевна, химичка. Она кусает губу от досады; явно видно, что в такие минуты она люто ненавидит идущего рядом с физиком математика. Чего он путается под ногами? По какому праву занял он место, которое куда больше подобало бы Ирине Сергеевне?
Нам кажется, что Иван Матвеевич нарочно берет с собою в провожатые Мумию. Ненадежный щит, но все же им он прикрывается от массивного натиска нашей химички. Однако наши мысли занимают не страсть Ирины Сергеевны, не холодность Ивана Матвеевича и даже не неблаговидная роль Мумии, о которой он вряд ли догадывается. Мумия догадлив лишь в своих «задачках с перцем», а во всем остальном, в жизни – мы что знаем – он порядочный лопух. Женщины, например, сами вон вешаются на шею нашего физика, а от Мумии ушла к другому его единственная законная супруга. Мумия дальше своего носа ничего не видит, и мы на его уроках и шпаргалим вовсю, и списываем в открытую у его отличников…
Но нет нам дела до всего этого, до наших педагогов, их шашней, скрываемых страстей, притворных равнодуший, отчаянной смиренности и любовной неудачливости. Если бы только знали наши педагоги, что мы все знаем!.. Вечная слепота и недооценка воспитателями воспитуемых… Да чего там – мы не только все знаем, а почти как мудрецы снисходительны ко всему этому.
А сейчас тем более – мысли наши заняты единственно обедом. Жаль, не спросили мы нашего Почтарика Ваню Клименко – что сегодня на обед? Настоящая, наша, расейская, картошечка будет в супе или обманно-сладкий и несытный американский батат? Красноватый сверху, желтоватый внутри, сладковатый – и несытный. Где он, Почтарик? Ищи-свищи!
Далеко впереди уже маячит он – в компании оглоедов во главе с новоявленным математиком Колькой Мухой! Первые тарелки супа они никому не уступят… Привычка стала уже их гордыней. Их стыдят – а они цинично ухмыляются. Их стыдят – а они, бессовестные, из этого сделали гордыню! Как падшие женщины из своего ремесла…
Нам с Женькой труднее, мы никак не можем возвыситься ни над чувством голода, подобно нашим девочкам, ни над стыдом, подобно Кольке Мухе и его команде. И снова мы пытаемся угадать – что будет на обед? Лишь бы не магаровая каша на второе. И от нее, подобно батату – ни вкуса, ни сытости…
И все же мы, детдомовцы, сознаем свою исключительность. Всюду взрослые недоедают, нам, детдомовцам, сохранили извечный порядок бытия. Нас кормят. У нас – завтрак, обед и ужин! И в этом тоже похожи мы на красноармейцев из сорок пятого стрелкового полка. Многие нам завидуют, но все признают это естественным и правильным. И не к лицу, значит, нам, сиротам, жаловаться на судьбу! Пусть наша Мумия тужится всех нас сделать математиками, Марья Степановна спит и во сне видит нас всех чистюлями, знающими наизусть всю немецкую грамматику Радцика и даже длинные стихи Гейне «Ди Веббер», пусть Леман и товарищ Полянская куют из нас железных бойцов мировой революции – права, наверно, тетя Клава; наморщив носик, она с какой-то поспешной отчаянностью каждый раз повторяет нам: «Можете стать кем хотите. Но прежде всего нужно быть людьми!» Оказывается, быть человеком – не так-то просто!
И не малое место тут занимает, например, способность к состраданию. Сколько раз, например, тетя Клава, украдкой от Лемана (нам каждый раз казалось, впрочем, что Леман делает вид, что не видит это) приводит в пристройку карлика и сумасшедшего – Фильку. Он не только карлик и сумасшедший, Филька еще горбун. Руки-ноги у него дергаются, лысая и похожая на орех голова качается, зимой весь синий от холода, весь он в гниющих язвах, а вот слюнявый и толстогубый рот – всегда улыбается. Можно подумать, что городской дурачок, убогий и несчастный Филька, который и просить-то не догадается, на самом-то деле самый счастливый человек на свете…
И вот у этого обрубочка и недоумочка, оказывается, есть самое настоящее человеческое достоинство! Стоило Ваньке Клименко понасмешничать над Филькой, тот молчал все, ел и молчал – да вдруг как расплачется!.. Даже ложку отложил, уже вознамерясь оставить, видно, мисочку с недоеденным супом…
Вот тут и настигла нас тетя Клава. Попало Ване, попало нам, позволившим будто эти «неслыханные издевательства». Кончилось тем, что сама тетя Клава разревелась от отчаяния за нашу «жестокость» и «бессердечность». Она так убивалась, будто обидели ее, а не дурачка Фильку. Мы едва-едва ее успокоили. Помогли девочки во главе с Устей. К чести их – ни одна не участвовала в «дразнилке убогого», ни одна из них не «позволяла издевательства» тем, что слушала и хихикала. Девочки, эти загадочные для нас люди, живущие рядом, но непонятные для нас, как инопланетянки, нас теперь так стыдили, так взяли в оборот – уже и за Фильку, и за тетю Клаву – что все-все мы стали поголовно «оглоедами», «бессовестными» и «дураками». Стыдили, срамили, ругали – а у самих на глазах слезы…
Именно тогда, уже успокоившись, вытирая красные глаза и ни на кого в отдельности не глядя – будто говорила уже не с нами, а через наши головы с самим будущим, – тетя Клава и изрекла про то, что – нужно быть людьми, что человек без сострадания – не человек, и всякое такое.
Не плачь, тетя Клава! Из дали прожитых лет мне хочется утешить тебя и сказать тебе свое запоздалое детдомовское спасибо.
Да, мало, видно, родиться, чтобы быть человеком.
Что-то мы с Женькой начинаем чувствовать из этой неожиданной «задачки с перцем»! Жизнь, оказывается, задачник похитрее Шапошникова и Вальцева. Иначе ради чего бы бились над нами наши воспитатели? Тут и бессонница Лемана, и слезы тети Клавы, и холодные ночи в кирпичной будке Панько… Все было просто, и вдруг стало непросто. Мы ничего об этом не думали раньше. Нужен был Филька-дурачок, чтоб мы поняли цену великодушия. А ведь сколько взрослых недоедало, чтоб у нас, у сирот, были завтрак, обед и ужин!.. Что-то в душе сдвинулось, как росток сквозь почву, пробилось чувство совести.
Что-то такое бормочу невнятное Жене Воробьеву, он согласно кивает головой. Кивает ритмично, будто свой «Турецкий марш» играет на мандолине. Женька – музыкальная, тонкая душа, Женька наш талант. И он говорит: «Знаешь что? Давай сегодня не бежать на обед как обычно. Давай сядем за стол вместе с девочками? И не хлебать, не хватать, есть, а не – жрать…»
Иными словами – Женька мне предлагает: не быть оглоедами! Он, конечно, прав. С чего-то ведь нужно начать это: стать человеком…
Искушения
Можно было подумать, что тетя Клава нарочно выискивает нам работу, мне и Шуре, лишь бы платить нам деньги! И опять я бесхарактерный, опять на поводу у другого. Правда, Шуру не сравнить с Колькой Мухой. Не ширмач он, не хитрец, не оглоед. Сколько Шура книг прочитал! Далеко мне до него. Шура старше меня, он кончил семь групп и все-все знает! Шура не заносится, не важничает, не требует, чтоб я служил ему – он как бы сам не чувствует своего двойного старшинства надо мной. И мне это приятно. Хорошо, если тебя не подчиняют, а сам подчиняешься, и это тебя не унижает, а радует. И я, знать, не лопух, если вижу в Шуре ум.
Я не устаю обо всем расспрашивать у Шуры – и сколько людей в Херсоне, и какой дом самый высокий, и почему его отца заслали в Соловки. Много у меня накопилось вопросов таких, про которые в книге не вычитаешь и не задашь учителю на уроке. А Шура – тот все знает! Отец все спрашивал у попа, а я – у поповского сына…
Дело мое простое: я лезу на стремянку, достаю книгу, вслух читаю автора и название, а Шурка записывает в тетрадь. То, что мы делаем, называется «ката-лог». Чудна́я тетя Клава, и дела, которые она выдумывает, тоже такие же чудные. Кому теперь до книг? Все есть хотят. А скоро зима, отец Петр, родитель тети Клавы, пророчит что-то несуразное, сам с собой разговаривает, озлел совсем старикан. «Не слушайте его! – машет рукой тетя Клава. – Старэ шо малэ! Да и у партейцев хлебные карточки!»
Книги – толстые, профессорские, большинство старых, в слепых и мрачных шпалеровых переплетах с кожаной спинкой. Не книги, а какие-то темные гробики! Черные с желтыми прожилками – мраморные переплеты. Приходится открывать каждый переплет, чтоб прочитать автора и название. Руки устают от таких толстых книг. От них пахнет мышами и пылью, сыростью и тленом. Шура нетерпелив, он все меня подгоняет, раздражается, что читаю и работаю медленно. Он вообще не любит все, что делается медленно. Я не обижаюсь на Шуру – по сути ему несладко живется на свете.
– Людвиг Фей-ер-бах… сущ-ность…
– Ну что ты как пьяный пономарь тянешь! Фейербах, «Сущность христианства», что ли? Так и говори, грамотей! Или скажешь – в школе не проходили? А работа над собой?.. А повышение уровня?..
Я не успеваю ответить, Шура сверяется с каким-то мятым листком бумаги, который достает из кармана, прячет листок опять в карман и велит мне «муру эту» отложить в сторону – во-он туда.
Я полагаю, что Шура знает, что делает. Туда он откладывает и другую «муру». Все на стеллажах перемешалось: книги отца Петра, бывшего попа, книги тети Клавиного мужа, профессора Пинчука, книги самой тети Клавы и даже заляпанные чернилами многострадальные учебники за первый и второй год обучения, принадлежащие Алке. Заметил я, «ка-та-ло-гом» Шура любит заниматься, когда тетя Клава уходит в «свой приют», когда отец Петр спит, а Алка играет на дворе с козой или с девочками в классы.
– Мы тут наведем большевистский порядок! Всякую гнилую интеллигенцию и буржуазных романистов, поповщину и ре-ак-ци-онеров – к ногтю! – торжественно вскинув руку, возглашает Шура. Кому это подражает Шура? Не товарищу Полянской ли? Он все чаще сверяется с мятым листком в кармане, все больше растет стопа «муры». Я ничуть не сомневаюсь, что это именно скушные, старорежимные, пустяшные книги. Старье, радость для мышей. Я убежден, что для новой жизни нужны только новые книги! Старые книги в чем-то схожи с отцом Петром.
Одни фамилии чего стоят. Ме-реж-ков-ский… Шо-пен-гауэр… Роз-анов… Бер-дяев… Со-ловьев… Леон-тьев. И что меня совсем удивило – есть тут даже женщины-писательницы! До сих пор я полагал, что писательство – чисто мужское занятие. А вот надо же: то Чар-ская, а то еще – Вер-биц-кая! Ни одной фамилии такой нет даже в хрестоматии. Шура к книгам, написанным женщинами, относится усмешливо; листает страницы, снисходительно улыбается, точно как в разговоре с тетей Клавой. Образование тети Клавы Шура и в грош не ставит. «Видишь ли, – говорит он мне, – есть дуры простые и дуры образованные». При этом Шура даже мне показал в книге: «Образование развивает все способности человека. В том числе глупость». Самое удивительное, что это была книга Чехова! А в школе нам из Чехова задавали заучивать наизусть совсем-совсем другое: про красоту одежды, лица и мыслей в человеке и тому подобное. Я уже не знал, какой он, Чехов, на самом деле. И при всем при том Шура любит тетю Клаву «за доброе сердце».
– Шура, ты сказал, чтобы быстрей работать!.. А сам читаешь.
– Молчи знай… Вон послушай, что пишет эта мадам. Это один ее герой говорит так: «Мы переживаем эпоху освобождения плоти… Я люблю тело женщины и ощущения, которые оно мне дает…» Кто-то подчеркнул! Это, наверно, отец Петр. Шалун, видать, был! Насчет прекрасного пола не промах… А теперь кавалер наш с расстегнутой прорехой разгуливает. Похотливая дамочка. Э-по-ха!
Шура прямо заливается от смеха. По-моему, и в этих строках нет ничего смешного. Почему-то я краснею и отворачиваюсь, чтоб Шура не видел моего лица.
– Клади и эту мадам к старорежимникам! Мы наведем большевистский порядок! Тетя Клава нам спасибо скажет! Читай дальше, что там еще? Толстого не трогай!.. Пересчитай по корешкам сколько томов – и мы его чохом заприходуем. И пусть себе граф стоит. Сохой-Андревной вдовам мужицким клин пахал. Человек! Мужика – у земли, у природы, у хлеба – почитал! Симпатичный старикан… Говорил о смирении, а глянь какое непокорство в лице, в глазах, в бороде!
Со всеми писателями у Шуры – свойские отношения. Ко всем он насмешливо-снисходителен. Эти – «дамочки», эти – «немчура», граф Толстой – «за мужика», и вообще чуть ли не рабоче-крестьянского происхождения, а вовсе не граф даже!
Толстого держал я на примете давно, еще с тех пор как прочитал в «Родной речи» про собаку Бульку. Была и у меня в детстве собака – Жучка. У Жучки были такие глаза, что и поныне их помню, очень тоскливые глаза. Словно говорила мне: «Я тебя понимаю, но ты, человек, меня не можешь понять…» Никогда не думал, чтоб граф столько написал! Целая полка – и все «сочинения графа Толстого»!
Мне по душе терпимость Шуры к Толстому. Ведь его обожает тетя Клава, то и дело поминает его, что сказал, что написал. Видно, и вправду «симпатичный старикан» и не такой уж «старорежимный». Я смотрю на портрет Толстого. Борода – стрелецкая, волосы – вихрем, лицо – гордое, задумчивое – непреклонное, а взгляд такой, будто тебя под рентгеном видит насквозь!
Какую-то книгу из стопки «старорежимных» и «контриков» Шура возвращает на полку. Усомнился, решил проверить.
– Слушай и думай! Беды мучат – уму учат… Книгу люби, как душу, но тряси, как грушу. Откроем наугад: «Отыди, злочестивый! Не крест животворящий в руке твоей. Почто благословенный град наш продаешь иноземцам? Не пастырь ты, а изменник царской багрянице. Кто бы со мной поскорбел? Тело изнемогло, болезнует дух. Воздали мне злом за добро, ненавистью за любовь». Хорошо, правда? Да, правда – всегда хороша! К ней полезешь уздой, она сзади ударит!.. А писал это – знаешь кто? – царь Иван Грозный. Писал владыке Пимену. Что ж, ведь страдал грозный царь? И одинок был, и себя не щадил, не токмо – людей… Русскую землю и русских людей воедино хотел собрать. Разве это – старорежимное? Ставь на полку!.. Не все полезно, что в рот полезло!
Много, очень много книг в доме тети Клавы. Теперь я точно знаю, что означает: профессор. Это книги и еще раз книги!.. И все, видно, профессор читал. Во многих, вижу, подчеркнутые строки, пометки на полях. Я узнаю его неразборчивый мелко-бисерный почерк. Шура мне рассказывает по большому секрету, что профессор Пинчук, отец Алки, «вовсе не бросил тетю Клаву». Он с нею развелся для виду. Чтоб ему место дали преподавателя в институте. Он преподает теперь в Екатеринославе, готовит учителей. А на праздники украдкой приезжает в гости к Алке. И это все из-за того, что тетя Клава – дочь попа. Все из-за отца Петра! Неужели он для кого-то может быть опасным, этот чудаковатый старикашка? Ведь он даже в жару ходит в валенках и башлыке и все боится простудиться…
– Ну хватит, от работы кони дохнут! Пойдем в город, погуляем. Заодно отнесем эту… старорежимщину…
Шура тщательно увязывает старорежимщину. Четыре стопки! Те стопки, что потяжелей, Шура честно придвигает себе. Колька Муха сделал бы наоборот. Мы запираем дом, кладем ключ под условленный камень невдалеке от дверей и со связками книг в руках идем в город. Коза смотрит нам вслед, словно ей невдомек, – зачем это люди так много возятся с бумагами, то в виде книг и тетрадей, то в виде газет? Ей доподлинно известно, что бумага этого внимания не стоит. Сколько раз пробовала – куда как не вкусно…
Мысли козы о гастрономической неполноценности бумаги Шуру не интересуют. Он почему-то оглядывается налево-направо, прежде чем юркнуть в калитку и меня потянуть за собой. Мы идем теми рядами Привоза, где разбитные и горластые бабы торгуют кучками угля, бутылками керосина, маленькими и аккуратными вязанками дров. Полешко к полешку, а вокруг вязанки, похожей на бочоночек, проволочный обруч. Торговки спрашивают нас – не продадим ли мы им книги на растопку. «Двугривенный получите, пацаны!» Две порции мороженого! Я, загоревшись, взглядываю на Шуру. Шура качает головой. Неужели эти книги стоят больше? Как-то не похоже на расчетливого Шуру – чтоб он и вдруг упустил свою выгоду. «Молчи знай!» Молчу… Как утиль книги потянут не больше двух пятаков. А тут целый двугривенный упускаем! Шура, хмыкнув, смотрит на меня эдаким бесом. «Надо знать конъюн-ктуру рынка!.. Не читал ты, видно, политэкономистов!»
Пусть – не читал, пусть не знаю такие мудреные слова, но с Шурой мне хорошо. Даже когда он скоморошничает или прижуливает малость. Хорошо мне с ним и весело. В детдом бы его!..
К удивлению своему, мы прошли и мимо ларька, где принимают утиль. «Молчи знай!» Молчу. Лоток ларька откинут – между подвешенным позеленевшим самоваром и таким же позеленевшим медным тазом торчит лохматая, тоже кажется медная, голова старика.
Самовар и таз без околичностей оповещают всех о том, что хозяин ларька утильсырья питает слабость именно к медной утвари. А пока он пересчитывает медную кассу в плоской жестяной, потемневшей от времени баночке. Пятаки и семишники – от прислеповатости – подносит так близко к лицу, что кажется, он их нюхает. Видать, скудость медной кассы старик надеется поправить медной вальяжностью самоваров. Но обыватели уже давно все самовары снесли в утиль. Не до них, не до чаев. Умолкла и забыта разудалая нэповская песенка, некая песенная ода молодому и ликующему мещанскому благополучию – «У самовара я и моя Маша». Не до песен Во всяком случае – не до таких.
Старик отрывается от своей кассы и раздумчиво смотрит вслед уплывающим от него связкам книг. Видно, не соблазн мы и наши книги. Медная голова опять поникает к пятакам и семишникам.
Мы идем кривыми улочками, все круче ниспадающими к Забалке. У какого-то домика с высокой черепичной крышей и с перекошенными, но кокетливыми – по сердечку вырезано в середине – ставнями, Шура останавливается. Ставни наискосок перечеркнуты широкими железными полосами. «Здесь!» – говорит он. Почему же ставни закрыты? «Дома, дома хозяин. Прикидывается дохлым, – говорит Шура. – Где сена клок, где вилы в бок… Боится – как бы кто не дунул».
Кольцом от калитки стучит он три раза кряду и один раз отдельно. И сразу открывается калитка, и сразу нас осыпает, точно на колядках зерном, вежливый и частый говорок. Перед нами пятится, забегает вперед суматошливый краснолицый и пухлощекий человечек в толстовке и котелке. Он ниже на голову Шуры! Он так размахивает маленькими ручками, что кажется, вот-вот улетит. Человечек – или гном из сказки? – все время, улыбается, щечки у него еще больше краснеют, а волосы под котелком – совершенно седые. Человечек пронзительно тараторит, называет нас «молодые люди» и «уважаемые гости», предлагает чай с вареньем из дыни, тут же забывает про чай – и опять тараторит безостановочно, точно скворушка на пригреве. Сравнение приходит на ум не случайно – в полумраке комнат на стенах, по всем углам торчат птицы. Именно торчат, потому что это чучела. Слышал я, что есть любители птиц. Ради этой любви лишают птиц сперва свободы, затем и жизни. Нет, это не любители птиц, а любители чучел! А то бы еще скелетиками птичьими украшали бы свои комнаты!.. Неужели погубил столько красивых птиц, чтоб утыкать чучелами стены? Или, может, он даже торгаш чучелами? Продавец птиц, продавец чучел…
Кто он, этот гномик в котелке? Человечек так быстро развязал узелки, над которыми мы с Шурой основательно потрудились, что кажется – перед нами и впрямь сказочный гномик, наделенный сверхъестественной колдовской силой. Чем, однако, кончится вся эта сказка?
Странно, что слух мой улавливает вполне земные звуки про рубли, копейки, про тот же утиль. В полумраке комната похожа на затхлую и тесную нору. Сколько тут мебели, шкафов, этажерок, столов и столиков! На стенах выцветшие гобелены и потрескавшиеся картины, в горшках какие-то пальмы или кактусы. Хочется скорей выбраться наружу, на свет, на воздух. Господи, неужели все-все это нужно одному маленькому, как гном, человечку? И еще какие-то поповские книги ему подавай!.. Жадность – страшный порок. Та же трусость перед жизнью?..