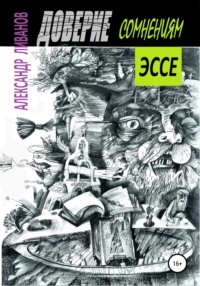Полная версия
Солнце на полдень
Именно обычай добросердия заставляет в пятницу, в наш банный день, приходить к воротам детдома безвестных женщин, с шайками, тазами и веничками. Они помогают тете Клаве и Фросе купать «сироток» – детишек меньшей группы. «Есть женщины в русских селеньях…» Доживают они свою глубокую старость упокоились где-то в безвестных могилах – земной, сыновний поклон вам, сиротским мамкам нашим!
Большая посылка лежала на стуле в чистом кабинете Лемана и всем неопрятным и нищенским видом своим, истлевшей бурой мешковиной с расползшимися по ней заплатами, корявыми буквами чернильным карандашом, означавшими адрес, всем нездешним видом она сразу вселила в душу мою тоскливую тревогу, смутное предчувствие неблагополучия и беды.
Видно, до моего прихода Леман и тетя Клава успели порядочно попрепираться – кому именно из них следует сказать мне о смерти отца. Они, наверно, так до конца и не договорились. По их тревожному переглядыванию, по искренней опечаленности я почему-то сам догадался о случившемся. А главное – посылка!.. Не зря вызвали меня из школы.
Я давно ждал подобного исхода. После смерти матери, моего поступления в «приют», как еще по старинке называли детдом, отцу просто не было для чего и для кого жить. Ему, отставному солдату, бросившему крестьянствование ради водки и книгочейства, всю жизнь упрекаемому в легкомыслии и себялюбии, оказалось невозможным жить для себя! Смерть матери, за многотерпение которой даже сельский мир (с угрюмой безнадежностью оправдывавший любую жесткую власть мужа над женой: «жену не бить, что корову не доить…») пророчил ей место в раю, – эта неожиданная смерть матери доконала и отца. Он словно и не замечал, не верил всю жизнь, что она терпит от него, что этим многотерпением держится вся нескладица нашей семьи. Отец был и впрямь слишком занят собой, запоем, своим страхом перед бессмыслицей жизни, страдальческими думками и эгоизмом страстотерпца. А проходил запой, он с угрюмой жадностью накидывался на книги, которые брал у попа, у отца Герасима, с которым вроде бы клеилось подобие дружбы. Читал все подряд, ища ответы на свою тревогу за человечество, за мир, на свои нескончаемые «почему?». Он не работал, обрекал на голод и себя, и семью, язвил мать после пьяных куражей тем, что скоро умрет, что страшно ему не это, а что умрет дураком… И вдруг такой досадный просчет, после болезни умирает мать, а он остался в живых…
В этом была не просто утрата, а еще одна каверза судьбы, еще одна злокозненность, и у отца уже не хватило сил ни на бунт, ни на смирение.
Много успел я передумать об отце, когда оплакивал его смерть, спрятавшись ото всех на чердаке, возле слухового окна и голубятни нашего Кольки Мухи…
* * *…Отторженное от огромного мира и его опыта – живет наше детство. Солнечны его радости, не омрачаемые заботами старших, – безутешно и искренне его горе, не просветленное смирением опыта. Детство чувствует прежде, чем понимает. И не из эгоизма, а из одиночества душа его занята собой, его «я» и мир – почти однозначны, и лишь в материнской любви находит оно опору для жизни, смысл и суть ее, связь с непостижимо сложным миром взрослых. И пусть материнская любовь не продолжилась еще до общечеловеческой, – не отсюда ли, признанное всеми, что в детстве мы все поэты?..
Как мало мы знаем душу детства! А мир сиротской души – это уже вовсе затерявшийся в просторах океана остров – то среди жутких штормов, то под непостижимой равнодушной синью неба, остров, еще не приобщенный к упорядоченной жизни материка.
Потеряв мать, мы теряем связь с миром, и долго потом обретается чувство родины, обретается в душевных муках и самоотречении.
«Дитя неразумное!» – говорят взрослые, имея в виду детскую ранимую чувствительность. Даже любя детей, как мы, взрослые, мало уважаем их по-человечески! Как тесно и тяжело детям в нашем мире, загроможденном отвлеченными условностями и прямыми запретами, давящем предметностью и язвящим душу недоверием, назойливой требовательностью и мрачной властностью, которым детству еще не противопоставить искушенность ума и расчетливую волю. Как мы спешим упредить в детях собственные ошибки! Все и вся являет права на детскую душу. И долго еще, ощупью бредя по пути жизни, мы торопимся расти, – велика наша зависть к взрослым, которые так уверены в себе! – изгоняя себя из детства, из мира его мечты, из того мира, где человек, может, больше всего человек…
На пыльном чердаке, у слухового окна из косо врезанных истлевших дощечек – слепая лесенка: все слышно, ничего не видно – я оплакивал отца и впервые подумал – что ж это был за человек?.. Отец любил меня странной, застенчивой любовью непоправимой виноватости, каким-то невысказанным горестным чувством. Словно сознавал ошибку, дав мне жизнь, постоянно опасаясь, что сыну суждено быть в жизни таким же растерянным, неприткнувшимся, лишним для самого себя, как и он сам, суждено будет страдать и за себя, и за отца, породившего его в этом мире. Чем еще тогда можно объяснить ту смущенную печаль в глазах отцовских, когда он подолгу и молча смотрел на меня? Так, сожалеючи и задумчиво, со страдальческой смиренностью, уже ни о чем не вопрошая и молча, смотрят на безнадежно больного. Чем объяснить отцовские, редкие, впрочем, виноватые и задумчивые поглаживания по голове, обрываемую на полуслове речь, как бы сознающую всю тщету назиданий перед роковой неизбежностью судьбы?.. Пройдя сквозь ад и безумие первой мировой, лишившись ноги, оставшуюся жизнь отец воспринимал трагично.
Казалось, что снарядный осколок тогда, в шестнадцатом году, не только отнял у него ногу, но навсегда лишил ощущения основательности человеческого бытия. Я оплакивал отца, хотя было в этих слезах больше саможаления, жалобы на детдомовскую судьбу…
* * *Буквы на посылке были прерывистыми, кривыми, не отцовскими. Я хорошо знал отцовский почерк! Крупные каракули, то тонкие, то не в меру жирные, – видно, часто и терпеливо мусолился огрызок чернильного карандаша – они уже этим вопили о беде, которая свалилась на меня. Я знал, что отец, похоронив мать, будет пить еще пуще прежнего, что он плохо кончит. Я ждал беды – и вот она пришла. Она приняла облик этой нищенской посылки в старом чувале с рыжими заплатами и карандашно-чернильным адресом…
Тетя Клава встала со стула, подошла ко мне, жавшемуся к дверному косяку, обняла и расплакалась. «Он умер?» – спросил я. Тетя Клава лишь крепче прижала меня к себе и закивала головой, слегка отвертываясь, чтоб не уронить слезу на мою сатиновую рубашечку. Юбка ее пахла духмяной ржицей, которой перекладывают вещи в сундуках – за неимением нафталина.
Леман почему-то тоже порывисто встал и вышел из кабинета. Видно, решил, что лучше нас оставить одних. Упредив посылку, оказывается, уже неделю ждало меня письмо – от квартирной хозяйки отца. Тетя Клава, вытирая слезы очень красивым, кружевным платочком, искоса поглядывала на меня. Я не плакал – тетя Клава это, видно, приписала моей мужественности. Она нервно сунула в обшлаг рукава блузки свой красивый платочек, расстегнула ридикюль, чем-то напоминавший мне корабль, разве что без парусов (она никогда не расставалась с этим ридикюлем-кораблем), и вынула письмо.
Опять же, это не был отцовский красивый почерк! Каждая буква говорила, что человек, писавший их, от непривычки испытывал муку мученическую, а не отцовское радостное отдохновение сельского письмописателя.
Я узнал карандаш, который водянистыми чернильными размывами – точно показывал, в каком месте его слюнявили во время письма, – и теми же простодушными каракулями, что и на посылке, разве что поменьше размером, начертал адрес на конверте.
Тетя Клава сама взялась мне прочитать письмо. Видно, из предупредительности и такта – дабы мое самолюбие книгочея (одной чертой отцовской неудачливости уже меня отметила жизнь!) не пострадало из-за неразборчивости этих каракуль. Итак, я узнал, что отец, напившись на Татьянин день, замерз на улице, прямо возле своего возка и лошадки. Добрые люди продали возок и лошадку («продали все за бесценок, кому ноне при калек-тевизации, при общем раззоре нужно хозяйство?» – риторически вопрошала моя безвестная корреспондентка); часть денег ушла на уплату ей же, хозяйке, за постой, часть на погашение долга за те же лошадку и возок, которые отец, в связи с тем же «общим раззором» и «калек-тевизацией», сумел обрести в далеком шахтерском городке – для угольного извоза, часть – на похороны…
Безвестная добрая женщина, видно, долго трудилась над письмом – целых четыре тетрадных листа были покрыты чувствительными, ударявшимися в слезу описаниями: и последних дней моего «несчастного отца», и похорон. Я должен был остаться вполне утешенным тем, что все «сделалось, как у добрых людей, с поминками и святым словом отца-дьякона – по христианскому обычаю».
Добрая треть письма отводилась под денежные расчеты, по которым я мог бы убедиться в полной бескорыстности квартирной хозяйки отца, которого она «по вдовству как постояльца обстирывала и обихаживала, быдто родного». А, следовательно, «чужой копейки ей не надо, грех это господний и перед покойным, и перед сироткой». Особо просил, мол, отец «прописать» мне, чтоб берег я до «разумного времени» его тетрадки. «Что-то все писал и писал в них постоялец, писал по ночам, не жалел денег на карасин. Может, не за здря карасин палил, может, в ейных тетрадках важное что, поскольку человек он был шибко образованный, хоча и промышлял свой хлеб угольным извозом. Уж такие нонче времена…»
Судя по всему, а пуще всего по слогу письма, я сильно заподозрил, что хозяйка успела заразиться у отца его эпистолярной страстью. Узнал я из письма и о содержании посылки – ватном бушлате, брезентовом дождевике, нижнем белье и прочем – с которой, один бог ведал, что стану делать. Я бы дорого отдал, чтоб вдруг исчез с глаз моих этот чувал, кое-как обшитый суровягой, в рыжих заплатах и с чернильным, единственно моим, адресом. Видно, обратный адрес оказался уже не под силу для безвестной моей добродетельницы.
И опять выручила меня тетя Клава! Она предложила отнести пока посылку к ней на чердак. «Я Шурку пришлю – вдвоем и отнесете». Вслед за посылкой пришел почтовый перевод на триста пятьдесят рублей. Это была по тем временам солидная сумма, вполне, скажем, достаточная, чтоб купить полмешка муки, если только посчастливилось бы ее найти на Привозе…
Деньги я тоже попросил хранить тетю Клаву. Она и на это согласилась. Сумма, оказывается, со временем росла! К ней тетя Клава, добрая душа, прибавляла еще свои рубли, будто бы за то, что я пас ее козу. Коза, бессловесное животное, не могла опротестовать эту явно приписанную мне зарплату!
По воскресеньям, когда мы были свободны от занятий, тетя Клава брала меня к себе домой. Я ждал этих воскресений, как манны небесной. Шура, родственник тёти Клавы, был старше меня и тароват на всякие выдумки. Он и выдумал для меня шабашку – пасти козу! На деле это означало, что мы отправлялись на пустырь за Ройговардовской улицей, где с мальчишками Военки – улица на улицу – играли в футбол.
Коза, привязанная к колышку, поглядев налево, направо и не находя даже сухой былинки, тоскливыми глазами, с безнадежностью ко всему привыкшего голодного существа, внимательно следила за игрой. Трудно было догадаться – какие мысли навещали безрогую голову этой козы. Вряд ли она находила увлекательным зрелищем наш футбол из тряпичного мяча и вечно пыльной свалки, из расквашенных до крови пальцев босых ног и ворот, обозначенных двумя камнями и без голкипера. Это был своеобразный стиль игры, где все являлись темпераментными центральными нападающими и ни у одного не хватало хладнокровия стоять в защите и тем более в воротах – в ожидании мяча! В этом также сказался дух времени, дух равенства, исключающего различия и избирательность…
Лишь в сумерках козу вознаграждали мы за многотерпение охапкой пыльных колючих веток с акаций, росших за оградкой братских могил – посредине пустыря. Нужно было видеть, как мудро и осторожно, с каким стоическим достоинством коза перебирала матовыми губами эти ветки, изловчась не оставить ни одного нежного и зеленого листочка, но оставив, однако, все до одного темно-коричневые, с золотистым острием шипы!
…Разумеется, сейчас тетя Клава рассказывала дядьке Михайлу не о своей козе, а о моем наследстве, о моем капитале! Видно, нет худа без добра. Я думал о том, что тетя Клава, конечно же, нарисует дядьке такую картину моей райской житухи, что он второй раз не сунется забирать из интерната «сиротку». Впрочем, родственными чувствами тут и не пахло, колесник ему нужен был, вот и припожаловал дядька. Леман правильно догадался. Мужик что надо этот Леман. Не отдал меня дядьке Михайлу!.. Хотя и набедокурил я. Зря, выходит, я подозревал его способным на эту ничтожную месть. Сколько зла на свете от подозрения в ком-то зла!
Совесть моя, о как она нечиста была перед нашим завдетдомом! Что значит одно-единственное воскресенье, на которое я остался в интернате! Возьми меня тогда тетя Клава к себе домой, – ничего бы подобного не случилось…
* * *Воскресенье было хмурым и дождливым. После того как мы сделали уроки, Клавдия Петровна, с трудом раскрыв свой вечно неисправный зонтик, куда-то помчалась по хозяйским делам. Мы, «родные деточки» ее, пообещали вести себя хорошо, предвкушая минуты вольницы. Главное, конечно, был не уход тети Клавы. Мы знали, что Леман отправился в артель «Металлист», к нашим шефам. Крыша протекала, а обещанного ремонта мы все еще не могли дождаться. У артели «Металлист», видите ли, не было железа!..
Все началось с того, что кончилась – уже в который раз! – эта дурацкая книжка «Сам себе пан». Не успел я взять другую у Клавдии Петровны. Глупейшая история про то, как какой-то мужик решил: пановать! Делать то, что паны делают, ни в чем, мол, им не уступать. Начал с путешествия. Сел в вагон первого класса, – туда, к панам! Они нога на ногу, и он нога на ногу. Они достали свои золотые и серебряные портсигары, закурили свои папиросы, и он за пазуху полез – за кисетом с махрой. В общем, засмолил он своим самосадом так, что панам стало не по себе. Позвали они проводника, тот проверил билет – все правильно, билет законный!
Дело все же дошло до полицейского; как мужик ни артачился, как ни ударялся в амбицию, высадили его за милую душу – так пешком и добирался до родной деревни, где у порога родной хаты ждала новоявленного Дон Кихота собственная супруга. Мокрой тряпкой охаживая муженька, она явилась и судом, и наказанием за наивный идеализм, увлекаться которым меньше всего, мол, пристало рассудительному мужику. Тряпка, символ отрезвляющего реализма, была мне неприятна.
На этом месте стояло многоточие, которое красноречиво намекало и на то, что правота на стороне озлившейся супруги, и на то, что подражанием барским замашкам признания человеческого достоинства мужику не добиться. Титульный листок был вырван, так мне и не удалось узнать ни автора, ни год издания этого глубокомысленного сочинения. Впрочем, надо полагать, что была книжица эта сочинена кем-либо из народников, скорей всего, из легальных марксистов. Она очень деликатно, как это умели одни воспитанные либералы, взывала к тем же панам, что пора, мол, задуматься над положением мужика, в котором просыпается и требует признания это его человеческое достоинство. Как бы не озлился! Как бы себе дороже не обошлось. Как бы мужик после наивного подражания вообще не погнал бы в шею всех образованных панов.
Уж какие там – эти или другие – мысли навестили меня тогда, но глупая книжонка мне испортила настроение. Я спускался с чердака, где у слухового окна любил уединиться с книгой. Тут я и наткнулся на Кольку Масюкова. Он, наоборот, только собирался на чердак, наш бывший ширмач Колька Муха. Всеми силами Колька Муха силился убедить нас, особенно Лемана, что он остался ширмачом и не станет фрайером!
– Не прилетали сизари? – с ухмылкой косясь на мою книжицу, спросил он. Колька Масюков был самым тяжким крестом для Лемана.
– Очень ты им нужен! Так и висит твоя кормушка. Дураки они, что ли, голуби? Они летят к тому, кто их любит. А ты их продавать собираешься, чтоб удрать из детдома… Птицы и животные – они умные, они – о-го! – человека и мысли его наперед знают! Я читал в одной книге, как собака утопилась, но служить злому капитану не стала!.. – Тут же дал я волю вымыслу, поскольку на совести писателей, сочинивших, может, и немало чепухи, все же этого греха, про утопившуюся собаку, – не было.
Колька Муха, который в жизни не прочитал еще ни одной, пусть самой тонкой, книжицы, верил мне безоговорочно, когда речь заходила о том, что было ему непонятно из его непосредственного житейского опыта. Я возвысился в глазах Кольки Мухи, пересказав ему содержание «Спартака», сочинение писателя, одна фамилия которого уже дышала внушительной тайной неизведанного: Джио-вани-оли! Потом я еще и еще рассказывал ему про Спартака, – а Коля все изумлялся, качал головой – и оспаривал только самую смерть Спартака. В это он никак не хотел поверить!
Колька Муха, видимо, решил, что сведения мои про голубей тоже имеют книжный исток, и поэтому – неоспоримы. Повздыхав и плюнув с видом человека, осознавшего неудачу, но далекого от намерения сдаться на милость всесильной судьбы, Колька Муха стал внимательно смотреть на струйки ржавой воды, стекающие с крыши. Любил Колька Муха напускать на себя глубокомысленный вид! Впрочем, долго думать или изображать раздумье Колька Муха, уркач с херсонского Привоза, не умел. Он вдруг лихо сплюнул сквозь зубы, оживился, прищуренно и искоса глянул на меня – сто́ю ли я быть поверенным в том, что его вдруг осенило. Такого откровенно приценивающегося взгляда Кольки Мухи я, кажется, впервые был удостоен. Таким взглядом хотят взять человека сразу всего, со всеми потрохами.
– Послушай, фрайер! Мировой план! Глухарь Панько спит в будке. Понимать? Стырим у него медный ключ от ворот! Пущай орет: бяда, грамадьяне, нашей телушке опять бычка ведут! Посмотрим на жлоба!
– Это зачем? – пропустил я мимо ушей «фрайера». Себя Колька Муха считает отчаянным жиганом, поэтому все мы – «фрайера», «шкеты» – вроде воровской мелюзги, а Панько и вовсе «жлоб».
– Даешь фрайер! Ничего не понимать! Пушечка будет… Эх, ур-р-ва-мама! На большой с присыпкой! – вскинул он кверху большой палец и пошевелил над ним пальцами другой руки – точно сыпал магар воображаемым голубям. – Мирово́ получится! Как ж-жах-нем!.. – деланно рассмеялся Колька Муха, будто кто поленницу дров раскатал. – Давай хиляй, синхфония будет! Чудной ты, как с левой резьбой!
Пушечка!.. Воображение вмиг превратило этот ключ от ворот в чудесную маленькую пушечку. Чуть приподнятый ствол, приземистый лафет – и два колесика… Пушка! Суворов, Измаил, Раевский бастион, раскаленные ядра летят в неприятеля! Снаряды, ядра – какая разница? Отец на войне из пушки палил. Грохот и дым сражений! Без пушки нет битвы, нет войны, нет ничего геройского! Ключ Панько, ворота – все-все подернулось туманом, из наплыва, как в кино, предстала эта чудо-пушечка! Ради нее – все казалось ничтожной жертвой. «От зари и до зари пушки драят пушкари!..»
– Как бабахнем! Сила!.. Не дрейфь, сиди на хлопушке – тебя не прихлопнут! Это я тебе говорю: Колька Муха!
И вот я уже плетусь за Колькой. Вечный удел мой – быть исполнителем чужой воли. Но все же – пушечка! Где-то подспудно совесть еще отчаянно взывала к рассудку – мол, речь идет о том, чтоб стащить, украсть ключ у нашего же сторожа, от наших же ворот! Панько, которого мы прозвали Глухарем, видно, сильно утомился, если уснул на своем посту. Недавно еще он полз по крыше, стараясь хоть как-нибудь заткнуть ее уторы. В коридоре дождь промочил целый угол потолка, даже старая лепная штукатурка стала отваливаться. Вообще Панько де́ла хватает. То он рубит дрова, то роет канаву и возится с водопроводом, а то тащит большую кадку с помоями из кухни. Никогда он еще не сказал, что что-то не умеет или не станет делать! Когда забездействовали наши старые часы с выпуклыми, точно титечки, кружочками и римскими цифрами на тусклом циферблате, Леман только самую малость усомнился, сказав: «Позовите Панько».
– Почи́ните? Не поломаете? – усмехнувшись над тем, что ему безответно приходится повысить голос и кричать в ухо старому и глухому сторожу, чуть-чуть порозовел Леман.
Панько его, конечно же, не удостоил ответом. Как ни в чем не бывало полез он на табурет, вытер руки о портки, снял часы со стенки и, не спросясь разрешения, точно младенца у груди, понес в кабинет Лемана. Тот, смущенно оглядываясь на Клавдию Петровну, ступал за ним, мы – следом, растянувшись цепочкой по изломанному поворотами коридору. Было интересно поглядеть – как наш Глухарь будет чинить часы!.. Из нашей затеи, однако, ничего не вышло. Глухарь закрыл дверь еще до того, как к ней приблизился хозяин кабинета! Леман только голову вскинул от изумления – и махнул рукой.
Не прошло и четверти часа, как Глухарь, все так же прижимая к груди большие часы, главное богатство нашего детдома, понес их на место. Ни на кого не глядя, – уж такая была у него манера, словно не замечать людей, – повесил, ключом натянул пружину завода, затем пружину боя, качнул маятник, – часы пошли! Даже не постояв, чтоб проверить ход, уверенно и все так же не глядя на нас, собравшихся, поспешно слез с табурета. Он в эту минуту был похож на героя, покидающего пьедестал, предпочитая будничное дело в настоящем – вечной славе в прошлом. Во всякой случае, в интернате он не любил задерживаться, точно сторож – в охраняемом им храме. Он, мол, место свое знает, на большее, чем будка у ворот, он не претендует!
Спрятав глубоко в карман – широких, похожих на бабью юбку, порток – отвертку, Панько пошел к выходу. Шел не спеша, зная, что мы уступим дорогу, – и мы в самом деле расступались по обе стороны коридора. Этого человека никто никогда не видел ни улыбающимся, ни оживленным чем-нибудь. Казалось, не человек это вовсе, а какая-то размеренная машина, годная на любую работу, от заготовки дров для кухни до починки тех же мудреных часов. Мы уже было решили, что он презирает нас, безотцовщину. Но вскоре нам пришлось убедиться в ошибочности такого мнения. Когда долго болела наша младшенькая Люся, похожая на одуванчик – уже и врачи слабо надеялись на ее выздоровление, – Панько вдруг по собственному почину, заперев свою будку, сделался ночной сиделкой возле кроватки девочки. Все так же бессловесно и ни на кого не глядя, он упреждал все желания больной девочки, давал ей порошки и поил с ложечки. Уходил, когда сменяла его тетя Клава, уже под самое утро. Когда мы вставали по нужде, идя длинным интернатским коридором, мы иной раз заглядывали в полуоткрытую дверь – так, боясь простудить больную, сторож наш проветривал комнату. То поджав губы, точно дал обет молчания, то напевая что-то вполголоса, Панько сидел возле кроватки на табуретке, строгал что-то ножиком. Тут же стоял его медный котелок, в котором наша кухарка, огромная, как башня, Фрося, приносила сторожу его забытый ужин. А пел, нет, скорей мурлыкал он что-то церковное, чудное: «Коль славен наш Хосподь в Сионе, не может изъяснить язык».
Однажды, возвращаясь с занятий, мы заслышали заливистый смех на девичьей половине. Кто бы это мог смеяться? Там ведь Люська хворает!., Мы заглянули в комнату, где в два ряда стояли прибранные девичьи койки – вечный укор нашей мальчишеской неопрятности. Смеялась Люся Одуванчик! Да еще как смеялась, словно была в кино и смотрела Пата и Паташона!.. Или «Праздник святого Иоргена» с Игорем Ильинским. Наш Одуванчик прямо заходилась от смеха! Над кем она так имеется? Над жизнью своей, безрадостной и короткой, над смертью, искушающей ее вечным покоем и забвением? Нет, знать, смех этот – жизнь, это ее победа над смертью!
Надев на правую руку самодельную куклу – Петрушку в островерхом дурацком колпаке, в широчайших синих портках и красной рубахе распояской, в какой и полагается быть Петрушке, – Панько выделывал с куклой самые уморительные вещи! Петрушка чесался в таких местах, которые уже сами по себе были смешными, он сам себя лупил по щекам, покрашенным клюквенным соком, он плясал и выламывался, выделывая ногами такие кренделя, что и мы все тоже стали смеяться, радуясь, однако, больше смеху бледной Люси, чем неожиданному искусству нашего сторожа. Наш Одуванчик, значит, выздоравливала!..
На нас, неболеющих, Панько, видно, не пожелал тратить свое искусство, которое предназначалось единственно больной Люсе. Он встал и вышел из комнаты. Ноздреватое от оспы цыганисто-смуглое лицо его было такое, же неподвижное и ничего не выражающее, как тогда, когда он рубил дрова или носил мешки с продуктами на кухню к Фросе. Он сам себя наряжал на работу, оставаясь глухим к приказам.
Попытки наши подружиться с Панько всегда ни к чему не приводили. Когда он уставал от рубки дров, откладывал на минутку топор, чтоб расправить спину или чтоб закрутить цигарку, я, например, несколько раз брал этот, похожий на мотыгу, колун. Я хотел помочь Панько. Но каждый раз, молча и все так же бесстрастно, он отнимал топор, клал на свою сторону и с подчеркнутым вниманием смотрел на этот топор, словно меня и вовсе рядом не было. И еще раз взял я топор – Панько опять отнял его у меня, крякнул неодобрительно и одним махом вогнал его в нераспиленный еще кряж. Попробуй, мол, теперь возьми! Я и не пытался это сделать. А ведь рубить дрова мы, мальчишки, все умели, мы это делали, когда Панько уезжал за мукой для нас или за бельем из прачечной. Делали это ловко и красиво, подражая Панько. Тюкнешь колуном в свежий срез чурбака, рванешь вверх топор вместе с чурбашкой, перевернув их в воздухе так, чтоб удар пришелся по обуху, и чурка от собственного веса разлетается по сторонам!