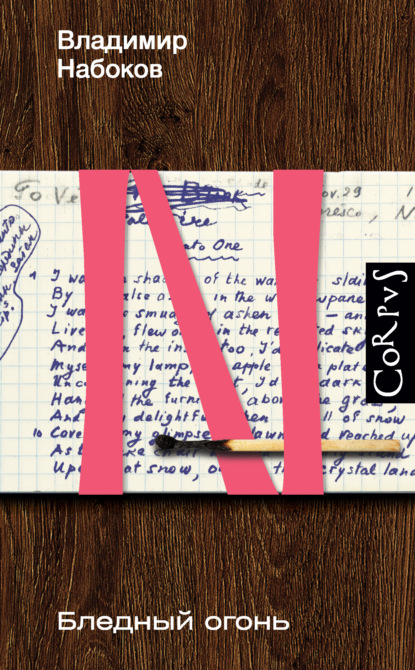Полная версия
Король, дама, валет
Франц почувствовал себя еще свободнее и сказал:
«Я должен просить прощенья. Разбил очки и ничего не вижу, так что несколько теряюсь…»
«Ты где же остановился?» – спросил Драйер.
«Гостиница “Видэо”, – сказал Франц, – у вокзала. Мне посоветовали».
«Так-с. Раньше всего тебе нужно найти хорошую комнату. Поблизости отсюда, за сорок-пятьдесят марок. Ты в теннис играешь?»
«Да, конечно», – ответил Франц, вспомнив какой-то задний двор, подержанную ракету, купленную у антиквара за марку, и черный резиновый мяч.
«Ну вот, – будем лупить по воскресеньям. Затем нужно тебе приличный костюм, рубашки, галстуки, всякую всячину. Ты как, с Мартой подружился?»
Франц осклабился.
«Ладно, – сказал Драйер. – Я думаю, что обед готов. О делах потом. Дела обсуждаются за кофе».
Он увидел жену, вышедшую на крыльцо. Она холодно на него посмотрела, холодно кивнула и опять ушла в дом. «Что за амикошонство[9]», – сердито подумала она, проходя через белую переднюю, где на подзеркальнике лежали официально чистенькие гребешок и щетка; весь дом, небольшой, двухэтажный, с террасой, с антенной на крыше, был такой же – чистый, изящный и в общем никому не нужный. Хозяина он смешил. Хозяйке он был по душе, – или, вернее, она просто считала, что дом богатого коммерсанта должен быть именно таким, как этот. В нем были все удобства, и большинством из этих удобств никто не пользовался. Было, например, на столике, в ванной комнате, круглое, в человеческое лицо, увеличительное зеркало на шарнирах, с приделанной к нему электрической лампочкой. Марта как-то его подарила мужу для бритья, но тот очень скоро его возненавидел: нестерпимо было видеть каждое утро ярко освещенную, раза в три распухшую, свиной щетиной за ночь обросшую морду. В бидермайеровской гостиной мебель походила на выставку в хорошем магазине. На письменном столе, которому Драйер предпочитал стол в конторе, стоял, вместо лампы, бронзовый рыцарь (прекрасной, впрочем, работы) с фонарем в руке. Были повсюду фарфоровые звери, которых никто не любил, разноцветные подушки, к которым никогда еще не прильнула человеческая щека, альбомы – дорогие, художественные книжищи, которые раскрывал разве только самый скучный, самый застенчивый гость. Все в доме, вплоть до голубой окраски стен, до баночек с надписями: сахар, гвоздика, цикорий, на полках идиллической кухни, – исходило от Марты, которой, семь лет тому, муж подарил еще пустой и на все готовый, только что выстроенный особнячок. Она приобрела и распределила картины по стенам, руководствуясь указаниями очень модного в тот сезон художника, который считал, что всякая картина хороша, лишь бы она была написана густыми мазками, чем ярче и неразборчивее, тем лучше. Потому-то большинство картин в доме напоминало жирную радугу, решившую в последнюю минуту стать яичницей или броненосцем. Впрочем, Марта накупила на аукционе и несколько старых полотен: среди них был превосходный портрет старика, писанный масляными красками. Старик благородного вида, с баками, в сюртуке шестидесятых годов, на коричневом фоне, сам освещенный, словно зарницей, стоял, слегка опираясь на тонкую трость. Марта приобрела его неспроста. Рядом с ним – на стене в столовой – она повесила дагерротип деда, давно покойного купца; дед на дагерротипе тоже был с баками, в сюртуке, и тоже опирался на трость. Благодаря этому соседству картина неожиданно превратилась в фамильный портрет. «Это мой дед», – говорила Марта, указывая гостю на подлинный снимок, и гость, переводя глаза на картину рядом, сам делал неизбежный вывод.
Но ни картин, ни глазчатых подушек, ни фарфора Франц, к сожалению, не мог рассмотреть, хотя Марта умело и настойчиво обращала его близорукое внимание на комнатные красоты. Он видел нежную красочную муть, чувствовал прохладу, запах цветов, ощущал под ступней тающую мягкость ковра – и, таким образом, воспринимал именно то, чего не было в обстановке дома, что должно было в ней быть, по мнению Марты, то, за что было ею дорого заплачено, – какую-то воздушную роскошь, в которой, после первого бокала красного вина, он стал медленно растворяться. Драйер налил ему еще, – и Франц, к вину не привыкший, почувствовал, что его нижние конечности растворились уже совершенно. Марта сидела где-то вдалеке, светлым призраком; Драйер, тоже призрачный, но теплый, золотистый, рассказывал, как он однажды летел из Мюнхена в Вену, как туман заволок землю, как машину бросало, трясло и как ему хотелось пилоту сказать: «Пожалуйста, остановитесь на минутку». Меж тем Франц испытывал фантастические затруднения с ножами и вилками, боролся то с волованом[10], то с неуступчивым пломбиром и чувствовал, что вот-вот, еще немного – и уже тело его растает, и останется уже только голова, которая, с полным ртом, станет, как воздушный шар, плавать по комнате. Кофе и кюрасо, которое сладко заворачивалось вокруг языка, доконали его. Марта исчезла в тумане, и Драйер, кружась перед ним медленным золотистым колесом с человеческими руками вместо спиц, стал говорить о магазине, о службе. Он отлично видел, что Франц совсем разомлел от хмеля, и потому в подробности не входил; сказал, однако, что Франц очень скоро превратится в прекрасного прикащика, что главный враг воздухоплавателя – туман и что так как жалованье будет сперва пустяковое, то он берется платить за комнату и очень будет рад, если Франц будет, хоть каждый день, заходить, причем он не удивится, если уже в будущем году установится воздушное сообщение между Европой и Америкой. Все это путалось в голове у Франца; кресло, в котором он сидел, путешествовало по комнате плавными кругами. Драйер глядел на него исподлобья и, посмеиваясь в предчувствии того нагоняя, который даст ему Марта, мысленно вытряхивал Францу на голову огромный рог изобилия; ибо Франца он должен был как-нибудь вознаградить за чудесный, приятнейший, еще не остывший смех, который судьба – через Франца – ему подарила. И не только его, но и Лину нужно было вознаградить – за ее бородавку, собачку, качалку с подушкой для затылка в виде зеленой колбасы, на которой было вышито: «только четверть часика». И затем, когда Франц, дыша вином и благодарностью, простился с ним, осторожно сошел по ступеням в сад, осторожно протиснулся в калитку и, все еще держа шляпу в руке, исчез за углом, Драйер подумал, как бедняга славно выспится там, у себя в номере, – и сам почувствовал упоительную дремотность, – после тенниса, после обеда – поднялся по внутренней деревянной лестнице наверх, в спальню.
Там, в оранжевом пеньюаре, согнув голую, бархатно-белую шею, которую особенно оттеняла темнота ее волос, собранных сзади в низкий, толстый шиньон, сидела у зеркала Марта и розовой замшей терла ногти. В зеркале Драйер увидел ее гладкие виски, белый равнобедренный треугольник лба, напряженные брови, – и так как Марта не подняла головы, не оглянулась, он понял, что она сердится.
Он мягко сказал, желая ухудшить положение: «Отчего ты исчезла? Могла подождать, пока он уйдет… правда же…»
Марта, не поднимая глаз, ответила: «Ты ведь прекрасно знаешь, что мы сегодня приглашены на чай. Тебе тоже не мешало бы привести себя в порядок».
«У нас есть еще часок, – сказал Драйер, – я, в сущности говоря, хотел было соснуть».
Марта, быстро поводя замшей, молчала. Он скинул пиджак, развязал галстук, потом сел на край кушетки, стал снимать башмаки.
Марта склонилась еще ниже и вдруг сказала: «Удивительно, как у некоторых людей нет никакого чувства собственного достоинства».
Драйер крякнул.
Спустя минуту Марта со звоном отбросила что-то на стеклянную подставку туалета и сказала: «Интересно знать, что этот молодой человек подумал о тебе? Говори мне “ты”, называй “дяденька”… Неслыханно…»
Драйер улыбнулся, шевеля пальцами ног и глядя, как переливается золотистый шелк носков.
Марта вдруг обернулась к нему и, облокотясь на белую ручку кресла, подперла кулаком подбородок. Одна нога была перекинута через другую и тихонько раскачивалась. Она пристально смотрела на мужа, прикусив губу.
Муж взглянул на нее исподлобья играющими озорными глазами.
«Ты добился своего, – задумчиво сказала Марта. – Устроил племянничка. Теперь будешь возиться с ним. Наобещал ему, вероятно, горы добра».
Драйер, сообразив, что ему подремать не удастся, сел поудобнее, опираясь теменем об стену, и стал думать, что будет, если он сейчас скажет примерно что-нибудь такое: у тебя есть тоже причуды, моя душа: ездишь вторым классом, а не первым – оттого что второй ничуть не хуже, – а получается страшная экономия – сберегается колоссальная сумма в двадцать семь марок и шестьдесят пфеннигов, которая иначе канула бы в карманы тех, дескать, мошенников, которые придумали первый класс. Ты бьешь собаку, оттого что собаке не полагается громко смеяться. Все это так, все это, предположим, правильно. Но позволь же и мне поиграть, оставь мне племянничка…
«Ты, очевидно, со мной говорить не желаешь, – сказала Марта, – ну что ж…» – Она отвернулась и опять принялась за ногти.
Драйер думал: «Раз бы хорошо тебя пробрало… Ну рассмейся, ну разрыдайся. И потом, наверное, все было бы хорошо…»
Он кашлянул, расчищая путь для слов, но, как уже не раз случалось с ним, решил в последнюю минуту все-таки не сказать ничего. Было ли это – желание раздразнить ее немотой, или просто – счастливая лень, или – бессознательная боязнь что-то вконец разрушить, – Бог весть. Глубоко засунув руки в карманы штанов, откинувшись к голубой стене, он молчал и смотрел на очаровательную шею Марты, а потом перевел глаза на широкую женину постель, покрытую кружевом и строго отделенную от его – тоже широкой, тоже кружевной – постели ночным столиком, на котором сидела раскорякой долголягая кукла – негр во фраке. Этот негр, и пухлые кружева, и белая, церемонная мебель – смешили, претили. Он зевнул, потер переносицу. Потом встал, решив, что сейчас переоденется и полчасика почитает на террасе. Марта скинула свой оранжевый пеньюар, поправила бридочку на плече, мягко сдвинув голые лопатки. Он исподлобья посмотрел на ее спину и, улыбкой проводив какую-то милую мысль, беззвучно прошел в коридор, а оттуда в гардеробную.
Как только дверь прикрылась за ним, Марта быстро и яростно свернула замку шею. Это был, пожалуй, первый ее поступок, который она не могла бы себе объяснить. Он был тем более бессмысленный, что все равно ей нужна будет сейчас горничная, и придется отпереть. Позже, много месяцев спустя, стараясь восстановить этот день, она всего яснее вспомнила именно дверь и ключ, как будто простой дверной ключ был как раз ключ к этому дню. Однако, заперев дверь, от гнева своего она не отделалась. А сердилась она смутно и бурно. Ее сердило, что посещение Франца доставило ей странное удовольствие и что удовольствием этим она обязана мужу. Выходило так, что, значит, она ошиблась, а прав был ее непослушный и чудаковатый муж, пригласивший сдуру бедного родственника. Поэтому она старалась прелести посещения не признать, дабы муж остался неправым; но приятно ей было и то, что сегодняшнее удовольствие, несомненно, повторится. И странное дело: будь она уверена, что ее слова заставят мужа не принимать Франца, она бы, пожалуй, их не сказала. Чуть ли не в первый раз она чувствовала нечто, не предвиденное ею, не входящее законным квадратом в паркетный узор обычной жизни. Таким образом, из пустяка, из случайной встречи в глупейшем городке выросло что-то облачное и непоправимое. Меж тем не было на свете такого электрического пылесоса, который мог бы мгновенно вычистить все комнаты мозга. Смутное свойство ее ощущений, невозможность толково разобраться в том, почему же он ей пришелся по вкусу – этот беспомощный, близорукий провинциал с прыщиками между бровей, – так ее раздражало, что она готова была сердиться на все – на зеленое платье, приготовленное на кресле, на толстый зад Фриды, копошившейся в нижнем ящике комода, на свое же злое лицо, отраженное в зеркале. Ей вспомнилось, что на днях минуло ей тридцать четыре года, и со странным нетерпением она стала искать на этом отраженном лице слабых складок, вялых теней. Где-то тихо закрылась дверь, заскрипели ступени лестницы (они не должны были скрипеть!), веселенький, фальшивый свист мужа удалился, пропал. «Он танцует плохо, – подумала Марта. – Он всегда будет танцевать плохо. Он не любит танцевать. Он не понимает, что это теперь так модно. Что это модно и необходимо».
Глухо сердясь на Фриду, она просунула голову в мягкую, собранную окружность платья; мимо глаз, сверху вниз, пролетела зеленая тень; она вынырнула, погладила себя по бокам и почувствовала вдруг, что этим легким зеленым платьем ее душа на время окружена и сдержана.
Внизу, на квадратной террасе – с цементовым полом, с астрами на широких перилах, – у голого стола, в полотняном складном кресле сидел Драйер и, положив раскрытую книжку на колено, глядел в сад. За оградой уже неумолимо стоял черный автомобиль, дорогой «Икар». Новый шофер, облокотясь с внешней стороны на калитку, переговаривался с садовником. В осеннем воздухе была уже холодная, предвечерняя ясность; резкие синие тени деревец тянулись по солнечному газону – все в одну сторону, как будто им хотелось посмотреть, кто первый дотянется до боковой стены сада, до высокой кирпичной стены, охваченной понизу тысячелапым ползучим растением. Далеко, за улицей, очень отчетливы были фисташковые фасады супротивных домов, и там, облокотясь на красную перину, положенную на подоконник, сидел лысый человечек в жилете. Садовник уже дважды брался за тачку, но всякий раз обращался опять к шоферу. Потом они оба закурили, и легкий дымок ясно проплыл по черному фону автомобиля. Тени как будто чуть подвинулись дальше, но солнце еще полновесно сияло справа, из-за угла графской виллы, где сад был выше и газон пожелтее. Откуда-то появился Том, лениво прошел вдоль клумб; по долгу службы, без малейшей надежды на успех, кинулся за низко порхнувшим воробьем и, опустив морду на лапы, лег подле тачки. Хорошо, прохладно, просторно было на террасе. Забавным лучом паутинка косо шла от крайнего цветка на перилах к столу, стоявшему рядом. Облачки в бледном чистом небе были какие-то завитые, и все одинаковые, и держались легкой стаей все на одном месте. Садовник наконец все выслушал, все досказал и двинулся вдоль газона со своей тачкой, и Том, лениво встав, пошел сзади, как заводная игрушка, и повернул, когда повернул садовник. Книга, уже давно скользившая по колену, съехала вниз на пол, и лень было ее поднимать. Хорошо, просторно, прохладно… Первой придет, вероятно, длинная тень вон той молодой яблони. Шофер сел на свое место… Интересно, о чем он сейчас думает… Утром у него были такие веселенькие глаза… Уж не пьет ли? Вот была бы умора… Прошли два господина в цилиндрах; цилиндры, как пробки на воде, проплыли над оградой. Совершенно непонятно, почему они в цилиндрах. И потом, откуда ни возьмись, скользнул над террасой вялый облетевший адмирал, опустился на край столика, раскрыл бархатные крылья и медленно ими задвигал, как будто задышал. Малиновые полоски вылиняли, бахрома изорвалась, но он был еще так нежен, так наряден…
Глава III
В понедельник Франц размахнулся: он купил американские очки; оправа была черепаховая, – с той оговоркой, конечно, что черепаха тем и известна, что ее отлично и разнообразно подделывают. Как только вставлены были нужные стекла, он эти очки надел. На сердце, как и за ушами, стало уютно и покойно. Туман рассеялся. Свободные краски мира вошли снова в свои отчетливые берега.
Еще одно нужно было сделать, чтобы окончательно восстановить свою полновесность, осесть, утвердиться в свежерасчерченном мире: нужно было найти себе верное пристанище. Он снисходительно улыбнулся, вспомнив вчерашнее обещание Драйера платить и за то, и за сё. Драйер – приятное, фантастическое и крайне полезное существо. И он совершенно прав: приодеться прямо необходимо. Сперва, однако, – комнату…
День был бессолнечный, но сухой. Трезвым холодком веяло с низкого, сплошь белого неба. Таксомоторы были оливково-черные с отчетливым шашечным кантом по дверце. Там и сям синий почтовый ящик был заново покрашен – блестящий и липкий по-осеннему. Улицы в этом квартале были тихие, какими, собственно говоря, не полагалось быть улицам столицы. Он старался запомнить их названия, местонахождение аптеки, полиции. Ему не нравилось, что так много простора, муравчатых скверов, сосен и берез, строящихся домов, огородов, пустырей. Это слишком напоминало провинцию. В собаке, гулявшей с горничной, ему показалось, что он узнал Тома. Дети играли в мяч или хлестали по своим волчкам, прямо на мостовой: так и он играл когда-то, в родном городке. В общем, только одно говорило ему, что он действительно в столице: некоторые прохожие были чудесно, прямо чудесно одеты! Например: клетчатые шаровары, подобранные мешком ниже колена, так что особенно тонкой казалась голень в шерстяном чулке; такого покроя, именно такого, он еще не видал. Затем был щеголь в двубортном пиджаке, очень широком в плечах и донельзя обтянутом на бедрах, и в штанах неимоверных, просторных, безобразных, скрывающих сапоги, – хоть воплощай в бродячем цирке передние ноги клоунского слона. И превосходные были шляпы, и галстуки как пламя, и какие-то голубиные гетры. Драйер добр.
Он шел медленно, болтая руками, поминутно оглядываясь: «Ах, какие дамочки, – почти вслух думал он и легонько стискивал зубы… – Какие икры, – с ума сойти!..»
В родном городке, гуляя по приторно-знакомым улицам, он, конечно, сто раз в день испытывал то же самое, – но тогда он не смел слишком засматриваться, – а тут дело другое: эти дамочки доступны, они привыкли к жадным взглядам, они рады им, можно, пожалуй, любую остановить, разговориться с ней… Он так и сделает, но только нужно сперва найти комнату. За сорок-пятьдесят марок, сказал Драйер. За пятьдесят, значит…
И Франц решил действовать систематически. У дверей каждого третьего, четвертого дома была вывешена дощечка: сдается, мол, комната. Он вытащил из кармана только что купленный план, проверил еще раз, далеко ли он находится от дома Драйера, и увидел, что – близко. Затем он выбрал издали одну такую дощечку и позвонил. Позвонив, он заметил, что на дощечке написано: «Осторожно, дверь только что покрашена». Но было уже поздно. Справа отворилось окно. Стриженая девушка, держась обнаженной по плечо рукой за раму, другой прижимая к груди черного котенка, внимательно посмотрела на Франца. Он почувствовал неожиданную сухость во рту: девушка была прелестная; простенькая совсем, но прелестная. А эти простые девушки в столице, если им хорошо заплатить… «Вам к кому нужно?» – спросила девушка. Франц переглотнул, глупо улыбнулся и с совершенно неожиданной наглостью, от которой сам тотчас смутился, сказал: «Может быть, к вам, а?»
Она поглядела на него с любопытством.
«Полноте, полноте, – неловко проговорил Франц, – вы меня впустите».
Девушка отвернулась и сказала кому-то в комнате: «Я не знаю, чего он хочет. Ты его лучше сам спроси». Над ее плечом выглянула голова пожилого мужчины с трубкой в зубах. Франц приподнял шляпу и, круто повернувшись, ушел. Он заметил, что продолжает болезненно улыбаться, а кроме того, тихо мычит. «Пустяк, – подумал он злобно. – Ничего не было. Забыто. Итак, нужно найти комнату».
Осмотрел он за два часа одиннадцать комнат, на трех улицах. Строго говоря, любая из них была прекрасна, но у каждой был крохотный недостаток. В одной, например, было еще не убрано, и, посмотрев в глаза заплаканной женщине в трауре, которая с каким-то вялым отчаянием отвечала на его вопросы, он решил почему-то, что тут, в этой комнате, только что умер ее муж, – и, решив так, не мог уже справиться с образом, который его фантазия поспешила отвратительно развить. В другой комнате недочет был попроще: она стоила на пять марок больше цены, положенной Драйером; зато была очаровательна. В третьей стоял у постели столик, который вдруг напомнил ему точь-в-точь такой же столик, бывший главным действующим лицом на неприятнейшем спиритическом сеансе. В четвертой пахло уборной. В пятой… Но Франц сам вскоре стал путать в памяти эти комнаты и их недостатки – и только одна осталась какой-то нетронутой и ясной – та, за пятьдесят пять марок, на тихой улице, кончавшейся тупиком. Он вдруг почувствовал, что искать дольше незачем, что он все равно сам не решится, боясь сделать дурной выбор и лишить себя миллиона других комнат; а вместе с тем, – трудно себе представить что-нибудь лучше той, дороговатой, с портретом голой женщины на стене.
«Итак, – подумал он, – теперь без четверти час. Я пойду обедать. Блестящая мысль: я пойду обедать к Драйеру. Я спрошу у него, на что, собственно, мне обращать сугубое внимание при выборе и не думает ли он, что пять лишних марок —»
Остроумно пользуясь картой (и заодно пообещав себе, что, как только освободится от дел, махнет вон туда, так, потом так, потом так, – по подземной железной дороге, – туда, где улицы, должно быть, пошумнее и понаряднее), Франц без труда добрел до особнячка. Этот зернисто-серый особнячок был на вид удивительно какой-то плотный, ладный, даже, скажем, аппетитный. В саду на молодых деревцах гроздились тяжелые яблоки. Проходя по хрустящей тропе, Франц увидел Марту, стоявшую на ступеньке крыльца. Она была в шляпе, в кротовом пальто, в руке держала зонтик и, проверяя сомнительную белизну неба, соображала, раскрыть ли зонтик или нет. Заметив Франца, она не улыбнулась, и он, здороваясь с ней, почувствовал, что попал некстати.
«Мужа нет дома, – сказала она, уставившись на Франца своими чудесными, холодными глазами. – Он сегодня обедает в городе».
Франц взглянул на ее сумку, торчавшую углом из-под мышки, на лиловатый цветок, приколотый к огромному воротнику пальто, на короткий тупой зонтик с красным набалдашником, – и понял, что и она тоже уходит.
«Простите, что побеспокоил», – сказал он, сдерживая досаду. «Ах, пожалуйста…» – сказала Марта. Они оба двинулись по направлению к калитке. Франц не знал, что ему делать: проститься ли сейчас или продолжать идти с нею рядом. Марта с недовольным выражением в глазах глядела прямо перед собой, полураскрыв крупные теплые губы. Потом она быстро облизнулась и сказала: «Так неприятно: я должна идти пешком. Дело в том, что мы вчера наш автомобиль разбили».
Случай действительно произошел неприятный: пытаясь объехать грузовик, шофер сперва наскочил на деревянную ограду – там, где чинили трамвайные рельсы, – затем, резко вильнув, стукнулся о бок грузовика, повернулся на месте и с треском въехал в столб. Пока продолжался этот припадок автомобильного бешенства, Марта и Драйер принимали всевозможные положения и в конце концов оказались на полу. Драйер сочувственно спросил, не ушиблась ли она. Встряска, толпа зевак, разбитый автомобиль, грубый шофер грузовика, полицейский, с которым Драйер говорил так, как будто случилось что-то очень смешное, – все это привело Марту в состояние такого раздражения, что потом, в таксомоторе, она сидела как каменная.
«Мы сломали какой-то барьер и столб», – хмуро сказала она и, медленно протянув руку, помогла Францу отворить калитку, которую он сердито теребил.
«Опасная все-таки вещь – автомобиль», – проговорил Франц неопределенно. Теперь уже пора было откланяться.
Марта заметила и одобрила его нерешительность.
«Вам в какую сторону?» – спросила она, переместив зонтик из правой руки в левую. Очень подходящие он купил очки… Смышленый мальчик…
«Я сам не знаю, – сказал Франц и грубовато ухмыльнулся. – Собственно говоря, я как раз пришел посоветоваться с дядей насчет комнаты». – Это первое «дядя» вышло у него неубедительно, и он решил не повторять его некоторое время, чтобы дать слову созреть.
Марта рассмеялась, плотоядно обнажив зубы.
«Я тоже могу помочь, – сказала она. – Объясните, в чем дело?»
Они незаметно двинулись и теперь медленно шли по широкой панели, на которой там и сям, как старые кожаные перчатки, лежали сухие листья. Франц оживился, высморкался и стал рассказывать о комнатах.
«Это неслыханно, – прервала Марта, – неужели пятьдесят пять? Я уверена, что можно поторговаться».
Франц про себя подумал, что дело в шляпе, но решил не спешить.
«Там хозяин – эдакий тугой старикашка. Сам чорт его не проймет…»
«Знаете что? – вдруг сказала Марта. – Я бы не прочь пойти туда, поговорить».
Франц от удовольствия зажмурился. Везло. Необыкновенно везло. Не говоря уже, что весьма хорошо получается – гулять по улицам с этой красногубой дамой в кротовом пальто. Резкий осенний воздух, лоснящаяся мостовая, шипение шин, вот она – настоящая жизнь. Только бы еще новый костюм, пылающий галстук, – и тогда полное счастье. Он подумал, что бы такое сказать приятное, почтительное…
«Я все еще не могу забыть, как это мы странно встретились в поезде. Невероятно!» – «Случайность, – сказала Марта, думая о своем. – Вот что, – вдруг заговорила она, когда они стали подниматься по крутой лестнице на пятый этаж. – Мне не хочется, чтобы муж знал, что я вам помогла… Нет, тут никакой загадки нет; мне просто не хочется, – вот и все».