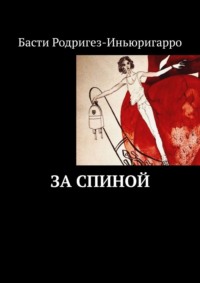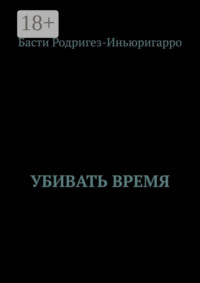Полная версия
Пограничная зона
– Интересно, а рассвет будет?
– Откуда бы ему взяться, – бездумно отзывается он.
Лица своего приятеля он не видит, но слышит, что тот улыбается.
Берег подтоплен, податлив, зыбок. Корни покачиваются в такт набегающим волнам. Забывшись, он напевает вполголоса. На английском. Выдаёт и куплет, и припев композиции, не вошедшей ни в один из студийных альбомов The Doors, отлетевшей в атмосферу живой и сырой – со сцены.
– Надо же. Разрыв шаблона, – любимый враг приподнимается на локтях, когда он затихает.
– Не сотвори шаблона – рвать не будет, – мягко огрызается он. – Я ведь сказал, что с родным языком проблема. Сегодня пять штук родных, завтра – все иностранные, даже тот, на котором мы сейчас разговариваем. Ты в курсе, как я порой изъясняюсь.
– Это понятно… Когда напролом лезешь через пограничные дебри, этническими прибамбасами разве что развлекаться: увешиваться как побрякушами и терять на каждом шагу. И всё-таки. Ты знаешь, какое наречие… Скажи мне что-нибудь. Здесь. За чертой.
– Не буду я доставлять тебе такого удовольствия, – упирается он, развеселившись. – Ты убил мой галеон. Я ещё на предмет йоруба подумаю! И результата по расписанию не гарантирую, оккультные пляски со стихией – дело непредсказуемое. Может, гроза моя опоздает и явится года через четыре после твоих похорон. Понимаешь, каноническое раздолбайство…
– Если ты намерен меня пытать – пытай, только не аллюзиями на энциклопедию для юношества. Да если б я знал, что ты за галеон удавишься…
Он собирается ответить в тон, но их подбрасывает треском и всполохом: совсем близко, в дерево, что делит корневое плетение с их пристанищем, бьёт очевидно заплутавшая молния.
В багровых отблесках горящей купины, под смеющимся взглядом приятеля, он превращает физиономию «Я не хотел, так вышло» в гримасу «Я тут ни при чём».
– Полагаю, это рассвет, которого мы заслуживаем, – кривятся губы любимого врага.
Мгновение немоты.
Потом настоящий, перебродивший, настоявшийся в грудных клетках хохот вырывается на волю, скачет блинчиками по зыби, устремляется прочь от берега и, словно дух божий, несётся над тёмными водами.
Когда тень с морёными глазами рисует пальцем по стойке: «1 – 1», истерический смех – с визгом и подвываниями – смешивается с давним, ночным, настоящим хохотом. Эта набегающая волна и относит его в пограничную зону.
За чертой он прекращает ржать.
Приятель его молчит – красивый, несмотря на посиневшие губы.
До оторопи мёртвый.
Странно. Никогда прежде он не видел в призраках мертвецов.
Приятель молчит, но в клубящейся млечной хмари некоторые явления прозрачны как роса на утренних маках.
Замшевым стервецам ещё кружить и кружить, распинаясь про болотную лихорадку, шторм, охоту и жатву, определяя таинственную субстанцию, необходимую для великого выворота (последствий которого днём с огнём не обнаружишь), ища слова в языке, изъятом из человеческого арсенала, но, вышибленный за черту, забывший стесняться неточностей, наивностей и повторов, он в кои-то веки опережает своих птеродактилей, думая с отстранённой ясностью, что собирал волю к метаморфозам в мире застывших форм, волю к неизменности в мире утекающего времени. Не волю к жизни – волю к чуду. Конечно, к чуду.
Как ни странно (совсем не странно), именно болотце – грязное, прогнившее, стоячее болотце – стало самыми богатыми угодьями, а пленник безвоздушных замков – самой роскошной добычей. Да что там. Много недель гонор мешал произнести это вслух, но, кажется, себя охотник выжал до капли.
Нет, поимка не равнялась смерти: кто-то мог вообще не заметить утраты и ледяного безветрия. Кто-то мог… Но не любимый враг – самый ценный улов и самый не тот.
Заворожённый, исполосованный битумными молниями, сиганувший в жерло водоворота с упоением и упованием, его приятель не просто очнулся в том же мире, что накануне шторма – он попал в мир, где случилось всё, что могло случиться, и не было ничего: ни сквозняка свободы, ни пограничной зоны, ни проклинаемых, обольстительных безвоздушных замков, ни его самого – только витрина с колотым льдом. Даже любовь, которая была, не мешала ему остывать и не быть. Другой бы не казнил опустевшую оболочку – из страха, из принципа, из равнодушия. Другой, но не он, желавший уйти в любом направлении и знавший, что уходить с витрины некуда.
Наверное, приятель был прав, отдаваясь иллюзорному теплу синей, глубоководной смерти. Но почему остановка дыхания не отменила ни плен безвоздушных замков, ни бесконечный сон на колотом льду?
Клубится млечная хмарь, визави молчит, а он осознаёт, что провалился за черту в одиночестве. Любимый враг торчит за стойкой и смотрит на него оттуда – без ревности, без упрёка, но такими глазами, что невольно верится: его приятель действительно просил гусеницу не втягивать «гастролёра» в топь. Без слов читается – «Ну зачем, зачем ты здесь?», и – «Могло ли быть иначе?».
– Те же вопросы, – отвечает он из тумана. – В той же последовательности.
Отнесло его недалеко, и шага довольно, чтобы вернуться в рогатый от перевёрнутых стульев бар, но он болтается на пределе, не думая о том, долго ли протянет в таком режиме без шулерских методов. Разливает по стаканам горючее, тёмное золото: брудершафт возможен, пока он дрейфует в прибрежной дымке.
Они сплетают руки и пьют.
Пьют за стрёмные чудеса, которые ничего не меняют, болотные тропы, которые никуда не ведут, безвоздушные замки, которые ничем не лучше трясины, любовь, которая никого не спасает, надежду, которой нет, пограничную зону, которая морок, ветер свободы, который сквозняк.
Пьют за шалый и алый рассвет над озером Маракайбо, который для них никогда не наступит.
Узлы
Узел 1. Рифы
– Не спи, замёрзнешь.
Он узнаёт гусеницу по контрольному поцелую в лоб. Открывает глаза. Отталкивая забытьё, сбрасывает с кушетки подушку. Садится, кивает с уважением:
– Смешно.
За окнами ночь – январская неподвижная ночь в начале марта. Навязчивость зимы должна приводить в ярость, но по факту не колышет. Соваться в любой климатический пояс со своим календарём – это знать, что весну открывает февраль, даже когда имя ей не шипучая муть и не расхождение швов, а ледяные ожоги и онемение.
Скульптура под бушпритом рассекает млечный туман: лик её невозмутим, но белые лунки на подбородке – следы ногтей – обведены воспалённым пурпуром.
Гусеница смотрит на него, он смотрит на гусеницу и отматывает время.
Вечер обещал быть непритязательным, бессюжетным: ни массовых галлюцинаций, ни заметных фигур на доске, если не считать другой гусеницы, которая, по видимости, собиралась окуклиться ещё на исходе предыдущей эры, но передумала. Сей великолепный экземпляр не в счёт, ибо следит за действом из умозрительной ложи и вмешивается лишь в ситуациях чрезвычайных: например когда нужно избавить «бедную девочку» – хозяйку безвоздушных замков – от прозаических неурядиц, связанных с появлением бездыханного тела в квартире, а если конкретней – на кушетке, где некоторым, судя по месту пробуждения, мёдом намазано.
Гусеница смотрит на него – считает мили пограничного тумана, сжатые в сантиметры между их лицами.
Он смотрит на гусеницу – отматывает часы.
В начале вечера – «за кулисами», то есть за стойкой на первом этаже – он тянет из хозяйки жилы. Не со зла – слово за слово.
Без капли сарказма сравнивает гусеницу с да Винчи в амплуа организатора дворцовых праздников. Ссылается на загородную вылазку трёхнедельной давности, шутит, что увлёкся и забыл простудиться, когда, без куртки выбрасываясь с террасы, запускал петарды в колодец беззвёздного неба. Повторяет, что холоден к псевдовосточному колориту, с которого тащатся девяносто процентов постоянных гостей, и рад тому, что тема до поры закрыта. Хихикает: атмосфера опиумного притона сама себя создаёт независимо от саундтрэка и декораций. С удовольствием поминает ещё не выветренный угар жирного вторника.
Внезапно застревает на изломе 1790-х. Рассказывает про «балы жертв» – макабрический выпендрёж золотой молодёжи, случайно выскользнувшей из-под ножа гильотины, восстановленной в праве быть под шумок, по недосмотру, в мутной водичке термидора, улюлюкающей на качелях «сегодня мы, а завтра нас».
Судорожные подлунные пляски. Поклоны-кивки, уподобленные мгновенному отделению головы от тела. Язвы, превращённые в элементы стиля: цветные стёкла – лайт-версия искажённого зрения, сучковатые трости – акцент на нетвёрдой походке, несусветные галстуки, якобы скрывающие опухоль. Нежизнеспособность, возведённая в культ – высшая форма вырождения, самолюбования и самоутверждения, изощрённый вызов – чему? Совести? Реальности? Смерти? Самим себе? Алые ленты на шеях – сей фетиш можно не расшифровывать.
Он струнно колеблется на своей высокой треноге, ощутив первый подземный толчок. Ранняя ночь расцветает махровым безумием. На крайних – полярных – табуретах очерчиваются два абриса.
Кайфующий справа гиперактивный бездельник, вдохновенный интриган, сноб с подкупающей улыбкой, ужасный ребёнок из хорошей семьи, паяц со стрелковой выдержкой в последнее время не балует (и не избалован) отчётливым присутствием: его приносит по праздникам и молниеносно уносит. Что ж, значит, на этой точке спирали у них праздник, и лучше беззвучно ржать, разбавляя полумрак серпантином и кислотными огоньками, чем рикошетно цепенеть под надтреснутое: «Что мы будем делать?».
Незавидной участью бесплотного спутника сгусток сияющей эктоплазмы не ограничен: он шляется бог знает где. Согласно его картине мира, в бесчисленных «бог знает где», откуда просачиваются лишь смутные отзвуки и бледные отсветы.
Разрозненность зыбких истин никогда не мешала ему вести эфир. По чести, сей вездесущий образчик антиматерии – альтернативной материи? – настолько незатыкаем, что изрядная часть птеродактилей давно заговорила его голосом.
Нынешние периоды затишья и одиночества – явление столь же амбивалетнтое, как млечный туман, окутавший пограничную зону: может оказаться колыбелью прекрасной эпохи или знаменовать полный швах, конец всего сущего. Время покажет. Или не покажет.
Что до того, кто маячит за сидящей вполоборота гусеницей, занимая самый левый табурет… Спящий на колотом льду пленник безвоздушных замков молчалив и душераздирающе апатичен, исключая моменты, когда бывший попутчик вырастает из-под земли, преграждает дорогу и тем регулирует траекторию действующего преемника.
На речь заряда не хватает: любимый враг изъясняется знаками. Если не считать кивков и отрицательных мановений с еле заметной амплитудой, в их разговорнике пять сигналов: 1) взмах, означающий «не дёргайся, порядок», 2) скрещение рук, означающее «ни в коем случае», 3) ребро ладони у горла – «капздец, но не настолько капздец, как скрещенные руки», 4) тыльная сторона ладони у губ – чистая эмоция, без информационной нагрузки, 5) фейспалм – тоже эмоция, но с нагрузкой.
Лицо приходит в движение реже, чем конечности. На гусеницу мертвец смотрит, как смотрят в небо из ледяного саркофага. Всё едино: мечтай, тоскуй, благословляй золочёную синь, звёздные россыпи, закатные взрывы, проклинай безучастный купол – небо останется небом, но до него нельзя дотянуться. Не только потому, что вмерзаешь во льды, не только потому, что падаешь в забытьё под стеклом на витрине. Небесный свод – обман зрения, слои атмосферы, температура которых не более совместима с жизнью, чем сон между гребешками и стейками из лосося, а дальше – вакуум.
И всё-таки небо остаётся небом.
Кромешный ужас. Мёртвый приятель видит гусеницу и любит гусеницу, но она для него не существует в той же мере, что он для неё.
Почему бывший попутчик и действующий преемник вплетён в застывшую реальность тени?
Потому что непростительно живой ходок за черту заточен под сотворение галлюцинаций и общение с оными? Потому что любимый враг – его личный морок, вызванный потрясением, ностальгией, иррациональной виной? Похоже на правду. Но тогда отчего за ним не таскаются иные фантомы? Кандидатов на умозрительном кладбище довольно. Даже если сузить круг до тех, кого он не просто хронически помнит, а патологически не отпускает, остаётся вопрос: где ещё одно привидение? Есть неуловимый флёр, синоним очевидности влияния, есть мутная пена, лезущая наружу из любой царапины, есть неизбежные встречи в подсознательном лимбе, привидения – нет. Диагноз не подтверждается. И всё же…
«Я случайно не перекрываю тебе выход?», – интересуется он вежливо и регулярно. Приятель ответствует отрицательно. С еле заметной амплитудой.
И вдруг – роскошный сюрприз, поразительное зрелище: мертвец блестит морёными глазами, ухмыляется возбуждённо и плутовато, внимая репортажу про фетишизацию изъянов, про ошалелый выпендрёж на обломках могущества, про горькое злорадство и тёмное будущее. Пепельные пальцы постукивают по дереву в такт адреналиновой раскачке: «сегодня нас, а завтра мы, сегодня мы, сегодня нас».
Речь замирает на полуслове, а раскачка не отпускает. Виновник переглядывается с типчиками на полярных табуретах. Оценивает картину со стороны. Усмехается: грозы морей… Все как один – фрондёры, заговорщики, без пяти минут повстанцы. Все как один – позёры, «взрывоопасные пустышки», незамутнённые эгоисты. Отрицательные герои. В каждом проступает нечто от привилегированного сословия, явно за дело лишённого привилегий. Пряди азартно сдуваются с глаз, кисти жаждут эфесов и пистолетов, но попутно проверяют, красиво ли драпируется шарф. «Сюда бы ещё персонажа с нейтральной полосы, со всей характерной патетикой: что ни жест – присяга», – думает он с неожиданным весельем, без кома в горле. – «И можно реставрировать династию, которой никогда не было». Детский сад, штаны на лямках. Кровища пузырями.
Призрачные абрисы размываются, доски под треногой прикидываются, что не сползали под уклон. Махровое безумие тянется по стойке нагой и зябкой полосой прилива. Присутствие справа под сомнением до следующей полной воды, а мёртвый приятель непреложно сидит где сидел, и будет сидеть, покуда чья-нибудь не обременённая чутьём задница не водрузится на его табурет.
Мозг запоздало обрабатывает данные с ближнего фронта: пока заговорщики на стиле тащились бессовестно и бескорыстно, гусеница «включала диктофон», то есть в раухтопазовых радужках мигали красные квадраты. Режим recording6.
Он играет в нудного дятла: предупреждает, что не ручается за достоверность фактов, изложенных в импровизации.
– Озабочусь эрудицией – залезу в гугл, – отмахивается гусеница. – Или на дальние полки библиотеки: закрою папин гештальт – открою нетронутую энциклопедию. Видел его собрание? Точно, видел. И раскусил, и лыбился снисходительно. Заносчивая скотина. Конечно, суровыми фолиантами обставляются для солидности: чтоб внушало, а не чтоб читалось, но он правда собирался, просто руки не доходили. Так или иначе, гугл и энциклопедия не дышат и в лице не меняются: не гонят волну. Поэтому они для меня бесполезны. Думаю, нам понадобится много метров алой ленты. Через неделю-другую.
Что ж, этого следовало ожидать: он сам перескочил на bals des victimes7 с монолога о безвоздушных замках. Но…
– Запоздалые ассоциации, – говорит он, глядя мимо гусеницы. – Каждая болотная пляска – бал жертв. Эротизация увечности. Беспечность над пропастью. Предсмертные судороги на иглах звука. Надменность деклассированных. Комплекс выживших. И кровавая лента от шеи к шее…
– Верхние ярусы раскачаются с полпинка, – отзывается гусеница. – А твоего комплекса выживших хватит на всех.
Он думает о багровой ленте, протянутой через топи – от шеи к шее, от локтя к локтю.
Стратегия на грядущие ночи обсуждается лаконично, деловито, отрешённо.
Потом он говорит, что никто в здравом уме не назовёт интерактивный цирк безвоздушных замков тематическими вечеринками: слишком высок градус подлинности. Да, элементы действа – мишура, крашенный картон, разноцветные лампочки, но никто из гостей не знает, чем на самом деле оплачен вход: один отдаёт больше, чем следовало, другой остаётся в долгу, и только дурак не предполагает, что ошибся в расчётах. Страховочные тросы не стесняют движений, потому что отсутствуют. Для каждого третьего (второго? полуторного?) здесь не прогулочная тропа, сопутствующая реальной жизни, а сама жизнь, которую ставят на паузу по досадной необходимости.
Говорит, что декаденствующий бомонд играет в болотце – грязное, глухое, смертельно опасное болотце – но запах разложения заплетается в сложный букет, и в стерильную дневную вату гости уносят лишь горьковатый цитрусовый шлейф. Вата нынешних контактёров представляется мягкой, тёплой, до стыдного питательной. Гусенице нет дела до нумерации ступеней в человеческих лестницах, ему тоже, а всё-таки он не удивится, обнаружив, что массовка безвоздушных замков и на дневной стороне засела в пролётах, которые ближе к чердаку, чем к подвалу.
Кстати, в подъезде есть выход на крышу? Гусеница при ключах? И она молчала? Что значит – не сезон? Уже весна. Даже по календарю. Лёд… Повсюду лёд. Что ж теперь, не жить? Не жить – опция, но раз уж они прозаически во плоти, надо выбраться на крышу. Лёд… Нашла невидаль. Повсюду лёд. Публика сползается? Хорошо, но потом – на крышу.
К слову о публике. Есть у него навязчивая идея. Потянешь за ниточки – нарвёшься на особый разряд завсегдатаев, которые здесь предаются занятиям даже с его точки зрения сомнительным, а, переступая порог, поддерживают комплекс необоснованных запретов, почему-то обозначаемый как «борьба за традиционные ценности». Поддерживают рутинно, без примерки на собственную персону… По работе. То есть содействуют теневому существованию и стигммтизации некоторых обитателей дневного мира, чей моральный облик не считался бы уязвимым там, где не принято лезть в чужие головы, штаны и постели с неизжитой потребностью исправлять, притеснять и наказывать, в самом цивилизованном варианте – прятать.
Гусеница не отвечает на его инсинуации, но уголки её губ криво, мультяшно приподнимаются: весьма симпатичная и очень знакомая гримаска, обычно предваряющая выпады, призванные тронуть кожу холодком, но не ранить. С такой улыбочкой она ссылается на факты в равной степени лестные и компрометирующие, на детали, о которых могла не знать – ведь ни она, ни её информаторы не отмечены вездесущностью – но после невзначай переданной шифровки становится ясно: знает. Однако теперь за усмешкой следуют не слова: гусеница проводит ладонями по его плечам. С нажимом. Со значением? Или положение швов поправляет? Нет, доводить до идеала тут нечего: рубашка сидит как влитая и будто не утюгом, а заклятием выглажена, впрочем, ближайшие часы внесут живописные коррективы. Насмешливая забота? Отвлекающий манёвр?
Он закипает – неизвестно почему. Сам себя довёл на пустом месте.
На пустом месте… Всё-таки он придурок с ленивым мозгом и дурными привычками, худшая из которых – избирательное внимание. Крайне избирательное. Запомнил несколько лиц, пульсирующих в аморфной мешанине, а прочие не различает. Да, сейчас ему всё параллельно. Но кто гарантирует, что через месяц не станет перпендикулярно?
Он говорит, что если его догадки хоть каким-нибудь краем приближены к истине, то положение дел некрасиво. Не красиво! Слитно и через пробел. Безвкусно. Омерзительно. На подобном фоне крохоборство не полностью разложившегося органического вещества, испарения полусветской хроники, болотные дрязги – все милые особенности трясины – исполнены красоты и величия. С душком и червоточинкой, но без них только мрамор хорош.
Гусеница вытягивает из топа нитку. Когда она успела найти в атласной броне слабое место? Наверное, когда он заметил, что бомонд играет в болотце, вооружившись парфюмом и антибиотиками. Или раньше, когда до него дошло: болотные пляски не нуждались в декорациях и атрибутике, чтобы походить на балы жертв, потому что по сути своей ими являлись.
Он забылся. Слышал свой позорный младенческий рёв, притворившийся речью, но не слышал того, что слышала за рёвом собеседница. Это не лечится: в сопоставлении ей чудится выбор. Рецидив. Не его рецидив – по крайней мере, он уверен, что не его.
Он уточняет, что не имеет претензий к хозяйке безвоздушных замков. Её не на чем ловить: она никогда не скрывала, что бытиё дневной ваты ей безразлично, для неё красота и неприглядность – побочные эффекты конденсации, а мера вещей – сгущение аромата, коим она питается. Если ему приспичит зачитывать обвинительные акты – он пойдёт к зеркалу, благо их тут дохрена.
Сбрасывая со счетов подвид болотных угробищ, он вслух размышляет о вате, в которую расползалась фауна трясины. Стерильная? В ряде случаев – вероятно. От того и ныряли. Мягкая, тёплая, питательная? С перебоями. В сравнении с ватой бомонда – сырая, промозглая и в перспективе голодная. Может быть, гусеница не осознаёт принцип, по которому приграничные топи делятся на ярусы, но метод прослеживается даже сквозь млечную дымку и вызывает чувство неловкости.
Гусеница отрывает от майки ленту. Произносит без запала, будто включает звуковую дорожку:
– А я гадаю, чем тебя контузило. Отрезал себя от всякой выгоды. Поэтапно. То есть, на состояние аффекта не спишешь. Выжимаешь отсюда одну отраву. Окей, пограничный туман и горючее – как ни назови: одну отраву. Остальное бросаешь на пороге как реквизит в гримёрке. Кому рассказать – не поверят. Пожалуй, мой не слишком благоверный поверил бы, а больше никто. Впрочем, некого шокировать… Умела бы стирать память – вот тогда бы оторвалась. Слушай, на что ты живёшь?
Неприличный вопрос. Недопустимый. В контексте пассажа – закидывающий крючки за пределы капсулы. Она бы ещё спросила, куда он уходит, покидая безвоздушные замки, и на какие звуковые волны, кроме позывных, откликается.
Хороший вопрос. В том смысле, что он сам не знает ответа.
Неслучайный вопрос. Не кажется случайным. Блеснул вершиной айсберга, а под водой – тонны… Чего?
Он молча поднимает брови. Гусеница извиняется с неожиданным жаром:
– Я не хотела. Вырвалось.
Он меняет тему, верней, заходит с другого фланга. Заткнуться не получается: накатило, разверзлись хляби небесные, отворились авгиевы конюшни.
Говорит, что гусеница придерживается невысокого мнения о болотце, но публика верхних ярусов вообще не удостоена мнения. Исключения есть: их можно пересчитать по пальцам. Одной руки не хватит, но двух – более чем. Трясина расползлась и взбаламутилась сама по себе, и столь же неподконтрольно впиталась в грунт. Незабвенное шаблонное угробище, как ни странно, узрело суть: «болотце уже не то». Зато безвоздушными замками гусеница дирижирует виртуозно, лепит из них что попало, ибо месиво податливо.
Зачем он опять поминает ошмётки болотца, а следом некомплиментарно проезжается по верхним ярусам? Это садизм или беспечность? Беспечный садизм.
Лучше не смотреть на гусеничные пальцы: теперь она связывает ленты в петли. Не смотреть, не читать в ломанной пластике ужас бессилия, готовый переродиться в нападение. Не думать о ливнях нейтральной полосы: это неуместно, да и просто стрёмно. Ещё бы не стрёмно: каждый узел напоминает о царевне-лягушке, которая не лягушка и не царевна.
– Блин, – гусеница бросает агрессивное рукоделие. – Я опять похожа на ночную версию савана за авторством Пенелопы.
Он не сдерживает смешок и закуривает.
Может, пора озвучить, что если его понесёт в трясину, это будет какая-нибудь альтернативная топь – не та, что исхожена вдоль и поперёк? Произнести, что его держит обещание, не данное с особой жестокостью – своего рода последнее милосердие к страшным сказкам, расцвечивающим нейтральные полосы и сумеречные пейзажи на подступах к пограничью?
Но он молчит, ибо уверен, что ненавязчивые гусеничные срывы, припадки тлетворной ревности, рокировки причин и следствий, осознанно предвзятый поиск виновных и намеренная подмена страха перед невозвращением из-за черты пошленьким кошмаром болотного рецидива – всё это не имеет к нему отношения: хозяйка безвоздушных замков мучается из-за того, из-за чего мучаться поздно, и никакой реванш не освободит её, как никакое фиаско не добьёт.
Гусеница уходит переодеваться, а он думает, что эмоциональная путаница на предмет его и не его взаимодействия с не полностью разложившемся органическим веществом сработала как прививка. По остальным пунктам не придерёшься: гусеница не сравнивает, не подгоняет второго любовника под привычные лекала, не досадует на неизбежные несоответствия – короче, не оправдывает ожиданий. «Конечно, ритм, раскачивающий верхние ярусы, изменился. В чём я должна разочароваться? Иначе и быть не могло: ты ведь совсем другой. Не лучше, не хуже. Похожий как брат – порой до смешного. Но другой. Вот если бы атмосфера осталась прежней – тогда я решила бы, что схожу с ума. А если бы я сошла с ума… То закидала бы тебя императивами, которые ты так нежно любишь. Если бы я закидала тебя императивами… Ты бы отбросил экзистенциальные сомнения и проиллюстрировал на пальцах все десять миллионов отличий между тобой и предсмертно влюблённым. Можно я закончу упражняться в сослагательном наклонении?».