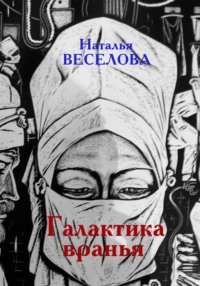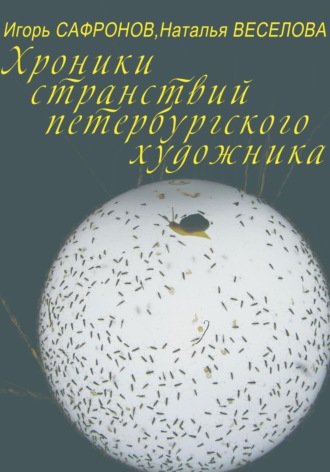
Полная версия
Хроники странствий петербургского художника
Тбилиси – Владикавказ. Военно-Грузинская дорога
Ура! Я еду к своему другу в Орджоникидзе! Ровно в 7 утра наш автобус отправляется из Тбилиси в Северную Осетию. Я знаю, что нам предстоит более 200 км интересного и непростого пути по старинной и единственной шоссейной дороге, соединяющей Россию и Закавказье. Попробую описать моё путешествие таким, каким сохранила его память…
Вот уже полчаса мы едем на север от Тбилиси по правому берегу Куры. Эта неширокая, но бурливая река, сбегающая с Южного склона главного Кавказского хребта, с легким шумом бежит нам навстречу вдоль неширокого шоссе, по которому движется наш небольшой видавший виды старенький рейсовый автобус. Я сижу у окна, и мне хорошо видны меняющиеся со всех сторон впечатляющие виды кавказских предгорий. Вскоре мы приезжаем в теперь уже мою навеки Мцхету. Короткая остановка минут на десять – и мы движемся дальше. Неужели в последний раз я вижу это сакральное место, так впечатлившее меня? Где-то в одном из этих сложенных из тёплого камня домов спят мои дорогие Джемал, красивая Чара и их четырехлетний сын Ладошка… Не огорчил ли я их своим внезапным отъездом? Не обидел ли? Если честно, что-то осталось горчить в моей душе, я чувствовал, что мало, мало мы общались, могли бы больше дать друг другу, но моя тогда ещё не изжитая стеснительность не позволила это сделать. Храни их Господь… Воздай им много-много тепла и радости, охрани их от всяческих бед…
Проезжаем мимо собора Светицховели. Как красивы его скупые формы, сложенные из тёплого камня, освещённые утренним солнцем, и бросающие голубоватые тени! Но что же я чувствую, что у меня в душе? Если одним словом – благодарность… Своя, отливающая чувством спокойного счастья и тихой радости, благодарность, как редкий и счастливый дар, вручённый мне этой благословенной обетованной страной Грузией, без всякого пафоса, редкий и бесценный дар, согретый простым участливым теплом встреченных мною на этой земле людей. Мир и покой у меня в душе, и я знаю, что этот тихий завет я обязан сохранить в себе навсегда, чтобы ни случилось с миром и со мной…
Горы… Горы Грузии… Как писал близкий мне Маяковский: «… Гора на гору грузи…».
Почему меня так волнуют горы, человека, выросшего среди северных болот и всегда хмурого горизонта безбрежно-холодного залива? Мои предки по матери – ижорцы. Небольшая народность, рыбаки и землепашцы, издревле обжившие южные берега Финского залива со времён Новгородской пятины. Я не исключаю, что и моих предков-ижор повёл неустрашимый Александр Невский на лёд Чудского озера на битву с надменными тевтонами. Мне бы стать моряком, как мой легендарный дядя-яхтсмен, а я, волею Провидения выбрав рисование, стал «сухопутным моряком». И широкая моя душа возлюбила горы, как антитезу скучной горизонтали, причём, не в маниакально-спортивно-альпинистском плане со всей сопутствующей этому романтикой, а в сугубо эстетическом, эмоциональном, изобразительном, художественном… И, разумеется, людей, живущих в этих горах, – горцев, их уклад… «В горах моё сердце, а сам я внизу», – сказал Р. Бернс. Это про меня! И впервые, пожалуй, я осознал это именно на Военно-Грузинской дороге…
Белая Арагви стремит свои прозрачные шумящие воды нам навстречу. Автобус натужно набирает высоту. В салоне заметно посвежело. Дорога, прихотливо извиваясь среди нависших каменных уступов, угрожающе сужается. Иногда это заставляет судорожно сжиматься сердце. Не хочется думать о самом страшном… Вот это восхищение надмирной отрешенной красотой гор и леденящий страх – главное, что выражает моё состояние. Поражает спокойствие пассажиров: вероятно, это привычно для них. Похоже, я единственный, кто ощущает этот «гибельный восторг», который не позволяет замечать по сторонам что-то интересное и заслуживающее внимания. Наконец, после трёх часов утомительной тряски, мы на Крестовом перевале, на самой высокой точке всего пути. Предлагают выйти, чтобы размяться и справить нужду. Замечаю невысокий обелиск, на котором различаю цифру: 2395 метров. На такую предельную высоту мы поднялись без малого за четыре часа пути. Сырой туман царит на вершине перевала, обжигая тело ледяным холодом. Скорее в автобус! Зубы стучат от озноба, заглушая чувство голода. Невольно понимаешь, что эта единственная дорога через Главный Кавказский хребет – отнюдь не увеселительная прогулка, а самое настоящее испытание. Ну, что же, говорю себе, его следовало пройти. Это своего рода крещение. Представляю, как тяжело было путникам в 19 веке преодолевать трудности пути на лошадях, а то и пешком. В зимние месяцы дорога была смертельно опасна из-за снежных заносов, лавин и лютого холода. Как тут не вспомнить Суворова и его чудо-богатырей, преодолевавших Альпы в таких же экстремальных условиях во время Итальянского похода. А Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Коста Хетагуров – они тоже оставили здесь свой след…
Когда перевалили через Крестовый, мне стало легче психологически. Как говорится, под горку… Озноб все ещё тряс меня и других пассажиров, но было видно, что настроение их улучшилось, разговоры приобрели оптимистический оттенок. Я хорошо запомнил беззубую улыбку одного колоритного почтенного старика-горца, молча просидевшего почти всю дорогу с неподвижным, словно каменным выражением иссушенного коричневого лица… Въезжаем в Дарьяльское ущелье. Угрюмый и величественный Дарьял вознёс над нами свои грозные каменные стены, между которыми рокочет, беснуясь, неукротимый Терек. Место устрашающе-романтичное, многократно воспетое художниками и поэтами разных времён. Бесспорно, увидеть своими глазами это циклопическое нагромождение диких базальтовых скал километровой высоты, стиснувших собой ревущий и клокочущий злобой Терек, почувствовать, пережить титаническую, апофеозную мощь воли Творца, создавшего эти нечеловеческие декорации, есть редкое счастье для впечатлительного человека, тем более, художника, и я ещё раз испытал это жуткое специфическое чувство устрашающего восторга от мысли, что смог это увидеть.... Прошло около двух часов – и вот уже открывшаяся моему взору сверкающая на солнце остроконечная громада Казбека возвестила нам о скором прибытии во Владикавказ. Было около пяти часов вечера середины августа 1968 года.
Что же я за человек такой?! Откуда во мне это странничество?! Кто из моих далеких предков был болен сим недугом? «Идущий»… Так называлась картина моего друга-питерца Сашки Рычкова. Это про нас… Про меня… Про таких, как мы, идиотов… Не променял я это странствие ни на что другое. 30 лет в непрерывном движении: Кавказ… Заполярье… Сибирь… Урал… До 45 лет я не мог остановиться, как если бы в меня вселился демон, и мотал за собой по необозримым краям и весям всея земли! Было ли это моим счастьем или наказаньем, я не решил до сих пор. Ни на карьеру, ни на раннюю зажиточность, ни на спокойную и хлопотливую семейную жизнь в относительно благоустроенном городе Ленинграде не мог и не хотел я променять свою страсть. Вроде, все у меня было с молодости: квартиры, машины, дачи и мастерские – все, чем живёт сейчас нормальное человеческое племя. Остановись, живи, как все, твори на радость людям и себе любимому. Выставляйся. Как многие мои приезжие однокашники по Академии Художеств. Своё дерьмо готовы были есть, чтобы назваться ленинградцами, закрепиться с пресловутой провинциальной хваткой, присосаться к мастерским и прочим давнишним привилегиям… Смешно! Сейчас ходят раздобревшие, гордые собой, не здороваются при редких встречах… Подлое это сословие – художники! Глупое… Они напоминают мне навозных жуков. Копошатся такие жуки в г…е, наползают друг на друга, из кожи лезут вон, чтобы возвыситься… Кого только не увидишь в этой благоухающей куче: евреи, хохлы, азеры, армяне, ещё раз евреи, западенцы, волжане, азиаты, убогие прибалты – весь, ещё тот, окопавшийся совковый и постсовковый пресловутый котёл наций, тошнотворно-убогий атеистический интернационал… Ныне, разумеется, в духе подлого времени, приобщившийся к «Европе», – ну и, само собой разумеется, их отпрыски… Это в Питере и Москве, а что творится на периферии, я уже не говорю… Увы, все это я увидел и предвидел ещё в молодости, в институте, и содрогнулся… Мерзкое племя – художники, глупое до примитивности, спесивое до идиотизма… Виварий, хотя, вроде (ирония судьбы!), и сам к нему принадлежу…
Что до меня – горит во мне, верно, буйная кровь моих предков, новгородцев-ушкуйников, какое-то неуемное, авантюрно-разбойное начало, болезненно охочее до перемены мест, до сугубого подвижничества. Бесстрашный мой дядька, видать, заразил меня этим неуемным безрассудным дерзанием (см. мой стих «Воспоминание о дяде»). Ну что же, спасибо ему… За все…
В Орджоникидзе я без труда отыскал дом моего доброго институтского друга Асланчика. Он сам вышел мне навстречу у ворот скромного родительского дома на тихой окраинной улице Орджоникидзе. Отрадно было увидеть спустя три месяца его чуть застенчивую, как в Питере, улыбку, почувствовать родное рукопожатие, услышать наше привычное «Здорово, друже…».
Полюбил я его как-то сразу, как увидел в Питере, в холодных коридорах Академии. А было так: я год проработал лаборантом на кафедре живописи, не поступив в первый раз и занимаясь вольнослушателем в мастерской Серебряного, нацелясь поступать на следующий, 1967 год. Вот тогда, накануне экзаменов, я и обратил на него внимание. Среди взволнованных суетливых абитуриентов он выделялся скромным спокойствием горца, нездешнее спокойное благородство освещало его аланское лицо красивой лепки. Он был высок, худ, скромно одет. Его нездешность и зацепила моё внимание. Звали его Аслан. Фамилия Саккаев. Уже поступив на живописный, мы часто встречались с ним в холодных и длинных коридорах Академии. Одним словом, подружились. Мне импонировало, что он был не похож на шумливых, безликих и глуповатых русских ребят моего возраста. Его кавказская скромность покорила меня. Зная о моем интересе к Кавказу, он запросто пригласил меня на свою малую родину во Владикавказ. И вот в конце августа 1968 года я буквально свалился с гор, к нашему обоюдному удовольствию и радости. Встретили меня с осетинским радушием и скромным, но душевно щедрым гостеприимством. Его мать, тихая, похоронившая мужа пожилая осетинка, отнеслась ко мне, как к сыну, с материнской заботой и добротой. Часто нам постилали на крыше дома, и в звездные ночи мы с Асланчиком любовались тем, как таинственно луна освещает вершины Казбека и Столовой горы. Как бездонно и вечно ночное небо Кавказа… Такое незабываемо! Куда только не возил меня мой друг! Мы обошли весь город и его ближние и дальние окрестности. Фиагдон… Города мертвых… И много чего ещё… Ездили в соседнюю Чечню, в тогда ещё мирный Грозный… Я, никуда не спеша, проникся аланским духом этого гордого и талантливого народа с богатой тысячелетней историей и удивительными древними традициями.
Милый, дорогой мой Аслан, смогу ли забыть я наши исполненные надежд и мечтаний молодые годы, тот далекий, дышащий бессмертием прохладный август на крыше твоей сакли?! Тебя давно нет в подлунном мире, но мы-то с тобой были и есть всегда, крещенные нашей нетленной юностью, – и, значит, мы вечны…
Впервые на Севере. Зима 1969
Ямал. Салехард. Лабытнанги
Январь 1969 года. Институтские зимние каникулы. В ранних зимних сумерках на пустынной платформе железнодорожного вокзала в Вологде стоят, переминаясь от холода, два юноши-студента 2 курса Ленинградской Академии Художеств… Одеты по-зимнему: тёплые пальто, ушанки, тёплые рукавицы, у каждого за плечами по увесистому рюкзаку. По всему видно, что собрались ребята в дальнюю дорогу. Один из них это я, другой – мой закадычный институтский друг Санька Рычков (Рыка). Ох, и не сидится нам в Питере! Впереди всего-то десять дней каникул, позади четыре месяца упорных занятий на нашем графическом. Всяческие волнения позади. Сидеть бы дома, в тепле и уюте, рисовать бы девушек и бабушек в своё удовольствие, ходить по музеям, так нет же, удумали ехать на Север, и не куда-нибудь в Карелию, а на полярный Урал, в далекий и загадочный Салехард. Прослышали ребятки, что разведаны там немереные запасы газа, и проложили там, в этих дремучих местах, первые километры будущего гигантского газопровода, который должен пересечь европейскую часть страны и протянуться аж до западной Европы. Вот и захотелось ребятам увидеть все это своими глазами и хоть как-то поучаствовать во всем этом. А как поучаствовать? Естественно, одним проверенным способом: рисованием плакатов. Смотришь – и заработать можно прилично, дорогу окупить, да и вообще… Авантюрно? Вполне! Зима, морозы? Да наплевать! Не страшно! Вполне в духе начинающих изоавантюристов… Так начался наш первый зимний вояж в тюменское Заполярье… На Ямал…
Скорый поезд «Москва-Воркута» подхватил нас в Вологде, и вот уже вторые сутки рассекал оледенелые северные просторы, бесстрашно ввинчиваясь в надвигающуюся полярную ночь. Котлас, Инта, станция Абезь… Где-то здесь, в этих угрюмых местах, вдоль северной железной дороги, огороженные километрами колючки, светящиеся неусыпными глазами прожекторов, раскинулись жуткие владения ГУЛАГа, с тысячами осуждённых невольников, звонким лаем натасканных собак, резкими окриками охранников и конвоиров, жутким визгом циркулярки, скрежетом заиндевелых вагонов и глухими стуками оледенелых брёвен…
Две ночи, проведённые на верхних полках плацкартного вагона, изрядно намяли нам бока, пока мы всматривались в серо-белую мерещь заоконного пейзажа, пытаясь разглядеть что-то запоминающееся, но все было размытым и утомительно серым. Впрочем, иногда в ночи таинственно проступал едва светящийся диск полярной селены. На станции Сейда была пересадка, наш вагон прицепили к составу, идущему в Салехард. Мы пересекали полярный Урал. Глухой ночью, когда весь вагон спал глубоким сном, я, выйдя в тамбур, набравшись храбрости, открыл на ходу дверь и, крепко держась за поручни, слегка нагнулся вперёд… Морозный ветер миллионами ледяных игл ударил мне в лицо, перед моим восхищённым взором предстали далекие пологие снежные горы, освещённые ярким светом луны, – это был настоящий лунный ландшафт, пугающий своей дикой немотой и неземной отрешенностью. Я почувствовал себя космонавтом, вышедшим в открытый космос, или, вернее, ступившим на лунную поверхность, и лишь извивающийся на повороте, облитый лунным светом состав, напоминал мне о том, что я ещё на земле… Удивительное, незабываемое, внеземное ощущение… Сколько лет прошло, а я так остро помню этот пугающе-неземной лунный пейзаж… и своё странное присутствие в нем.
Вокзал в Лабытнангах, а, вернее, то, что считалось им, встретил нас слепящим светом прожекторов, выхватывающим в ночи редкие уродливые строения каких-то бараков, ледяным дыханием смутно угадываемых, неоглядных полярных просторов, человеческим оживлением, коим отмечены все пункты прибытия во всем подлунном мире. Было около десяти вечера по местному времени… Темно и жутковато… Куда податься? С чего начать? Понятно, что надо где-то устроиться на ночлег… Но где он в этой морозной ночной глуши?.. И тут к нам подошёл молодой парень, с которым мы познакомились в поезде. Звали его Валентин. Он ехал из Москвы. Геодезист. Работает в «Ямалнефтегазгеологии», организации, занимающейся геологоразведкой, поиском месторождений газа в этих суровых местах. Он с порога предложил нам ночлег. Редкое везение!
Лирическое отступление. Еще смолоду, и это с блеском подтвердилось в моих дальнейших странствиях по стране, я обратил внимание, что чем больше рискуешь и чем смелее идёшь на встречу с неизвестным, тем чаще тебе везёт, и это везение по факту становится чуть ли не обязательным условием в дерзком поиске той важной для тебя в каждый конкретный момент жизни цели, которой ты хочешь добиться, даже, если эта цель ещё не до конца осознается тобой. Я даже привык учитывать этот обязательный фактор везения, и это действительно сопровождало все мои скитания, все мои перемещения в пространстве по зову вечно ищущей, рвущейся куда-то, бунтующей и жаждущей новых впечатлений неспокойной души… Может и вправду, по слову поэта, «Удача – награда за смелость»? Я часто, почти всегда испытывал эту алогичную шальную уверенность в себе и своей счастливой звезде…
А тогда наш добрый друг повёл нас в непроглядную, но привычную для него тьму полярной ночи и вскоре вывел к автобусной остановке, а ещё через какое-то время тряский «Уазик» доставил нас в небольшой посёлок геодезистов. Валентин уверенно повёл нас к одному из бараков, оказавшемуся служебной «гостиницей». К нашему удивлению, в двух комнатах этой мини-гостиницы было более чем прилично. Мы поблагодарили нашего благодетеля и договорились обязательно видеться. Вот так нас встретил суровый Сибирский Север. Поздним утром нас разбудил наш новый знакомый. Он предложил нам, зная о наших планах, не теряя времени, встретиться с начальником их организации на предмет возможного заказа и взялся устроить эту встречу. Контора «Ямалнефтегазгеологии» находилась на левом берегу широкой заснеженной Оби, в Салехарде. Туда по накатанному зимнику нас быстро доставил служебный «Уазик», прямо к двухэтажному деревянному зданию конторы. На втором этаже, в небольшой приемной, нам предложили подождать, но уже через пять минут нас принял начальник. Это был крупный улыбчивый мужчина, похожий на украинца. Он поднялся, шагнул к нам навстречу и – о, чудо! – протянул нам огромную ручищу для рукопожатия и предложил сесть… Видит, Бог, такой встречи с колес мы точно никак не ожидали. Это сразу воодушевило нас. Оказывается, он уже знал о цели нашего приезда (откуда, оставалось только гадать) и сразу приступил к делу… И снова на нас свалилось редкая удача (помните, что я писал о ней) – нам предложили интересную работу по оформлению поселка геодезистов, тут же заключили с нами договор и, определив место работы, заверили, что материалы для неё (плита, краска и прочее), будут незамедлительно доставлены в наше распоряжение. Он пожелал нам удачи, и, снова обменявшись рукопожатиями, мы расстались… Только выйдя на улицу и затянувшись ядреным морозным воздухом, мы оба пришли в себя, и не в силах сдержать своей радости, крепко хлопнули друг друга по плечу. И в самом деле, похоже, удача светила нам Полярной звездой! Лишь бы не спугнуть её! И ещё успеть бы выполнить эту работу за столь короткий отпущенный нам срок. Между тем, вполне рассвело, и мы, наконец, смогли увидеть цель наших устремлений – город газовиков и ханты-мансийских и ненецких оленеводов город Салехард, единственный город в мире, расположенный точно на Полярном круге. В переводе с ханты-мансийского это означает: «город на мысу» и до 1933 года он назывался Обдорск. Тогда и доныне он является центром Ямало-Ненецкого автономного округа. Своеобразный город этот по преимуществу деревянный, с редкими каменными домами, с церковью Петра и Павла, построенной в 1899 году архитектором Цинке, кстати, выпускником нашей Академии Художеств, что приятно удивило нас с Рыкой. Я думаю, что в то время, когда мы там появились, художники из столиц были редкими гостями этих мест, возможно, отчасти поэтому нас так тепло встретили… Приятно удивило нас и меню в местной столовой, куда нас привёл взыгравший голод. Блюда из оленины, обычные здесь, пришлись нам по вкусу....
Не странно ли мои, дорогие читатели, я пишу эти воспоминания в Сестрорецке, на исходе 2019 года, поздним декабрьским вечером, и ровно пятьдесят лет спустя после описываемых событий. В окна и щели крошечной квартиры моей 103-летней матери дует ледяной взбесившийся ветер с Финского залива (недаром предупреждало МЧС), и я физически чувствую его мистический напор, его настойчивое желание что-то сдвинуть, пробудить в моей памяти. Его стихийная мощь колошматит в стекла моей тихой комнаты и словно просит, умоляет меня вспомнить всю правду о тех – о тех! – не таких уж и далеких временах, когда такой же дикий, ураганный, беспощадный северный ветер, сдирая, как наждаком, все живое и теплокровное на своём пути, срывавшийся откуда-то с Северного полюса, как из адской преисподней мира, достигал нас, двух молодых столичных парней, бредущих во мраке полярной ночи через ледяную, заснеженную, необъятную Обь… Я слышу его сегодняшние мольбы, его причитания, его настойчивые просьбы… И вспоминаю другой ветер, северный ветер нашей дальнейшей судьбы, заключивший нас когда-то в свои жестокие и неумолимые объятия. И я просто обязан, слыша в себе этот умоляющий рев, продолжить свой рассказ…
Мы сделали эту работу. По-другому и не могло быть: наша молодая энергия, похожая на злость ко всему, что возникало у нас на пути, была сродни этому полярному урагану; вероятно, там, в этом полярном мраке, мы научились сжимать в себе некую мощную пружину, способную при малейшем неверном движении разорвать нас на куски. Что это было?! Какая разница, как это назвать, назовите это страстью, упрямством, волей, чем-то еще. Важно, что это въелось в нас навсегда, как шрам, как вечная татуировка…
Однажды ночью(!), одурев от запаха ацетона и краски, мы решили прогуляться по окрестностям Лабыток… Светила луна, и мы не заметили, как ушли довольно далеко от посёлка… Внезапно перед нами возникла сторожевая вышка, яркий луч прожектора полоснул нам по лицу. И – резкий окрик, который мы не сразу осознали: «Назад! Три секунды, или щас врежу вам девять грамм меж лопаток!!!» Леденящий смысл услышанного пронзил нас раньше выпущенных пуль… Мы попятились, ёжась от жуткого ощущения себя живыми мишенями… Лишь отойдя метров на сто, мы поняли, наконец, что нам грозило. Не ведая, мы вошли в охранную зону лагеря, где содержатся особо опасные преступники. Позднее Валентин сказал нам, что мы были в реальной опасности, и часовые на вышках, как правило, инородцы, не церемонятся в таких случаях и с удовольствием стреляют на поражение.
Неделя упорной работы истаяла, как короткий полярный день, двенадцать больших красочных композиций, выполненных вручную на древесной плите, источая специфический запах непросохшей масляной краски и сиккатива, были расставлены по стенам довольно большого помещения пустующего клуба и вместе с нами ожидали приемки нашим заказчиком. Мы волновались, сознавая, что это наша первая работа в таких специфических условиях. Приехал сам начальник «Ямалнефтегазгеологии». С ним был довольно молодой человек кавказской наружности. Валентин успел нас предупредить, что это сам начальник «Ямальского строительного управления» Мальсагов, чеченец по национальности. Оба с видимым удовольствием рассматривали наши плакаты, и было видно, что они им нравятся. Наши комментарии были не нужны. Это был тот случай, когда работа говорила за своего творца. Работа понравилась всем безоговорочно. Внезапно заговорил Мальсагов. Его речь с кавказским акцентом, была радостно-эмоциональна. Ему так понравились женские ножки на одном из панно, что он предложил нам продать эту работу для своей организации! Назвал весьма крупную сумму наличными, причём, сразу весело попросил нашего заказчика её переуступить. После недолгой паузы наш добрый благодетель, идя навстречу своему влиятельному кавказскому другу, согласился. Вот это апперкот! Интересно было наблюдать за всем со стороны. На следующий день мы были без проволочек рассчитаны обеими нашими благодетелями и, пожав друг другу руки, распрощались самым тёплым образом. В тот же вечер мы решили отметить наш успех. В орсовском магазине мы купили бутылку спирта (65 градусов, другого ничего не было), несколько банок печени, хлеба, каких-то ещё консервов и неплохо посидели втроём… Наш друг Валентин, которому мы были обязаны успехом, рассказывал интересные истории из своей жизни и работы геодезистом на тюменском севере, а мой друг Сашка почему-то пытался научить нас «правильно» пить спирт, иллюстрируя это собственным примером… Много ещё о чем мы проговорили в тот памятный вечер в нашей «служебной» гостинице, в посёлке геологов и геодезистов, расположенном на самом полярном круге…
Сейчас, пятьдесят лет спустя, когда слово «Газпром» мозолит глаза повсюду, от футболок и экипировок всевозможных команд спортсменов, до чуть ли не до нижнего женского белья, хорошо бы знать и помнить, что его сегодняшнее величие начиналось в далеких 1966-69-х годах, там и тогда, когда упомянутые мной люди первыми строили и обустраивали первые посёлки геологов и строителей на этой суровой земле, что открыло возможность позднее, в 1980-х годах, начать строительство первого в СССР экспортного магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». И мы с моим другом Сашкой Рычковым смело гордимся тем, что приложили к этому свои руки и вдохновение… Свои скромные таланты. И пусть плакаты и панно, созданные нами, прослужили недолго в суровом северном климате, но они честно несли свою северную вахту, и если кому-то стало чуть теплей и радостней при виде их, то значит, все было не зря… Ведь и Александр Матросов прожил совсем недолго, и, хотя не спас все человечество, но, по крайней мере, сберёг жизни многих боевых товарищей своей мгновенной и великой жертвой…
Наши короткие, но столь насыщенные впечатлениями зимние каникулы подходили к концу. Оставалось пару дней, которые должны были уйти на дорогу до далекого родного Питера. Напоследок мы обошли весь Салехард в поисках оленьих шкур. Почему-то нам хотелось привезти домой именно оленьи шкуры… Нам казалось, что это будет убедительным доказательством нашего пребывания на далеком Севере. В одном из заготпунктов Салехарда мы нашли то, что искали. Это были несколько плохо выделанных оленьих шкур, которые мы и купили.