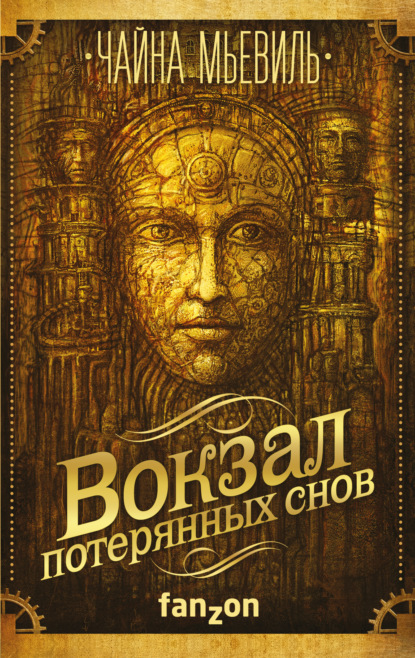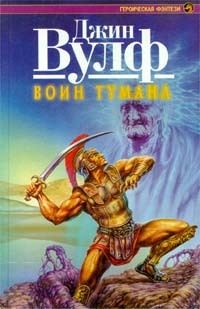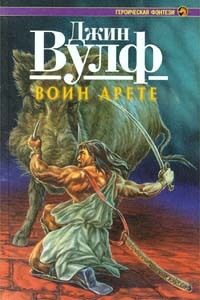Полная версия
Пятая голова Цербера
Эта ночь снова изменила мою жизнь. Наркотики – вроде бы он давал мне по нескольку разных препаратов, – порой давали ощущение, что я не могу лежать спокойно, а бегаю взад и вперед часами, пока идет разговор, или тону в блаженных или неописуемо ужасных грезах; одним словом, они пагубно действовали на мое здоровье. Я часто просыпался по утрам с головной болью, которая мучила меня весь день, и стал подвержен припадкам крайней нервозности и тревоги. Самым пугающим было то, что выпадали целые куски суток, так что я обнаруживал себя проснувшимся и одетым, читающим, идущим и даже говорящим, но абсолютно не помнящим ничего из происходившего с тех пор, как я лежал прошлой ночью в отцовской библиотеке, бормоча что-то неразборчивое в потолок. Уроки, что велись для нас с Дэвидом, не прекратились, но в каком-то смысле мы с Мистером Миллионом поменялись ролями. Теперь я настаивал на соблюдении графика занятий; я выбирал тему и в большинстве случаев опрашивал Дэвида и Мистера Миллиона. Но часто, когда они уходили в библиотеку или в парк, я оставался в постели и читал, и думаю, что много раз я читал и занимался в минуты, когда сознавал себя лежащим в постели, до того момента, когда за мной снова приходил отцовский слуга. Разговоры Дэвида с нашим отцом претерпели ту же характерную перемену в то же самое время; но, должен я заметить, для него эти беседы сделались менее частыми – и становились все реже, пока лето расходовало свою сотню дней, потом перешло в осень и, наконец, сменилось долгой зимой, – и он, кажется, был меньше подвержен действию препаратов: их эффект был для него совсем не так силен.
Если задаться целью определить точное время, то именно той зимой я подошел к концу своего детства. Я впал в какое-то болезненное состояние; странным образом отвратив от детских забав, оно вдохновляло на эксперименты, которые я проводил на маленьких животных, а впоследствии занялся и анатомированием тел, нескончаемым потоком разинутых ртов и остановившихся глаз прибывавших от Мистера Миллиона. Я учился или читал, как я уже сказал, по многу часов; или просто лежал, закинув руки за голову, целыми днями пытаясь восстановить в памяти истории, которым так жадно внимал мой отец. Ни Дэвид, ни я не могли вспомнить достаточно, чтобы создать некую согласованную концепцию относительно истинной природы задававшихся нам вопросов, однако мне все же удалось удержать в памяти некоторое количество обрывочных сцен – уверен, вряд ли имели они место в действительности, зато не сомневаюсь, что по крайней мере какая-то часть их порождена была теми видениями и шепотами, исторгавшимися из моего рта и преследовавшими меня в вихрях и на волнах измененных состояний сознания.
Моя тетушка, прежде такая отчужденная, теперь частенько заговаривала со мной в коридорах и даже навестила нашу комнату. Я узнал, что она управляла всем хозяйством нашего дома, и благодаря ей мне выделили маленькую лабораторию в том же крыле. Но зиму я провел, как уже сказано, за своим эмалированным секционным столом или в постели. Оконное стекло было наполовину залеплено белым снегом, укрывавшим обнаженные стебли серебристой бругмансии. Клиенты моего отца попадались мне на глаза редко: они приходили в мокрых сапогах, со снегом на плечах и шляпах, отдувающиеся и краснолицые, отряхивая пальто в вестибюле. Апельсиновые деревья исчезли, садом на крыше больше не пользовались, а дворик под нашими окнами оживал только поздно вечером, когда полдюжины клиентов и их протеже, наслаждаясь жизнью и распевая на все лады под влиянием распитого, затевали игру в снежки – занятие, неизменно кончавшееся тем, что девиц раздевали и вываливали нагишом в снегу.
Весна застала меня врасплох, как она всегда поступает с теми, кто сидит взаперти. Однажды, когда я еще думал о погоде (если я вообще о ней думал) как о зимней, Дэвид распахнул окно и настоял, чтобы я пошел с ним в парк – и я обнаружил, что уже апрель. Мистер Миллион отправился с нами, и я вспоминаю, что, когда мы вышли через переднюю дверь в маленький садик, открывавшийся на улицу, он оказался весь увит молодыми побегами, в глубине которых скрывался что-то нестройно лепетавший фонтан; Дэвид похлопал железного пса по ухмылявшейся морде и продекламировал:
Тогда же пес возник Четырехглавый у пределов света.Я отпустил какое-то банальное замечание насчет его умения считать.
– О нет. У старухи Церберши было четыре головки, ты разве не знал? Четвертая – это ее целомудрие, и она такая сука, что ни один кобель его у нее не отнимет.
Даже Мистер Миллион хихикнул, но позже я подумал, глядя на пышущее здоровьем тело Дэвида, на разворот его плеч, в котором уже проглядывала мужская стать, что, если, как мне всегда казалось, три головы означали мэтра, мадам и мистера Миллиона, то есть моего отца, мою тетушку (то целомудрие[7], которое имел в виду Дэвид) и моего наставника, тогда четвертую следует приварить для самого Дэвида.
Парк для моего братца был, наверное, чем-то вроде рая, но я, чувствуя себя неважно, находил его довольно тусклым, скучным и провел почти все утро, скорчившись на скамье и наблюдая, как Дэвид играет в сквош. Около полудня ко мне присоединилась, не на моей скамейке, но на другой, достаточно близкой, чтобы эта близость ощущалась физически, севшая неподалеку девочка с гипсом на лодыжке. Ее привела сюда на костылях дама – сиделка или гувернантка, усевшись, как я видел, нарочно – между девочкой и мною. Однако у этой неприятной дамы была слишком чопорная осанка для того, чтобы ее опека могла иметь какой-то успех. Она сидела на краешке скамьи, в то время как девочка, вытянув свою поврежденную ногу, откинулась назад и таким образом дала мне хорошо разглядеть свой профиль, а он у нее был совершенно восхитительный; однажды, когда она повернулась с какой-то репликой к чудищу рядом, я смог рассмотреть ее лицо – карминовые губы и фиалковые глаза; скорее круглое, чем овальное, лицо, густая черная челка, наполовину скрывшая лоб; нежно округленные черные брови и длинные изящно выгнутые ресницы. Когда старуха торговка, продававшая кантонские рулеты с яйцом (длиннее ладони, прямо из кипящего масла, так что есть их надо с большой осмотрительностью, словно они отчасти живые), подошла ко мне, я сделал ее своей посланницей и, купив один себе, направил ее с двумя обжигающими лакомствами к девочке и сопровождающему ее чудовищу.
Чудовище, конечно, отказалось, девочка же – я был очарован этим зрелищем – умоляла: ее огромные глаза и горящие щеки красноречиво подтверждали аргументы, расслышать которые мне было трудно, хотя было видно всю пантомиму – «отказ будет беспричинным оскорблением безвинному незнакомцу», я так проголодалась и сама собралась купить рулет», «как глупо отказываться, когда бесплатно получаешь то, что хочешь». Разносчица, явно наслаждавшаяся своей ролью посредницы, изобразила, что вот-вот разрыдается при одной мысли о необходимости возвращать мне золото (которое на самом деле было мелкой бумажкой, почти такой же засаленной, как та, в которую был завернут рулет, и значительно грязнее), и постепенно их голоса стали громче, так что я слышал и девочку, у которой оказалось чистое и очень приятное контральто. Конечно, в конце концов они приняли мой дар: чудовище отвесило мне чопорный поклон, а девочка подмигнула из-за ее спины. Полутора часами позже, когда Дэвид и Мистер Миллион, следивший за ним с края корта, спросили, не хочу ли я позавтракать, я сказал, что хочу, подумав, что когда мы вернемся, я могу сесть поближе к девочке. Мы поели (боюсь, что я был очень тороплив) в маленьком чистеньком кафе возле цветочного рынка; но когда мы вернулись в парк, девочка и гувернантка исчезли.
Мы ушли домой, и меньше чем через час мой отец послал за мной. Я шел с некоторым опасением, потому что было время намного более раннее, чем то, когда обычно происходили наши встречи – еще не появился ни один клиент, а меня обычно приглашали после того, как уходил последний. Но бояться оказалось нечего. Он начал с расспросов о моем здоровье, и когда я сказал, что чувствую себя лучше, чем всю зиму, он принялся в самолюбивой и даже напыщенной манере, настолько не похожей на его обычную чуть усталую резкость, насколько вообще такое отличие можно было вообразить, говорить о своем деле и необходимости для молодого человека быть готовым самому зарабатывать себе на пропитание. Он сказал:
– Я уверен, что ты теперь – ученый-исследователь.
Ответив «Надеюсь, что стал им хотя бы в малой мере», я приготовился к обычному словоизвержению по поводу неоправданности занятий химией или биофизикой в мире, подобном нашему, где промышленная база так слаба; о никчемности экзаменов на государственную должность, которые не определяют даже степени готовности к ним, и так далее. Вместо этого он сказал:
– Рад слышать это. Честно говоря, я попросил Мистера Миллиона поощрять тебя в этом направлении насколько возможно. Уверен, он и так бы делал это: со мной было то же. Эти занятия будут для тебя не только большим удовольствием, но и… – он смолк, шумно прочистил горло и помассировал пальцами голову, – представят изрядную ценность во всех смыслах. И они составляют, как ты мог бы сказать, семейную традицию.
Я сказал – и почувствовал себя именно так, – что счастлив слышать это.
– Ты видел мою лабораторию? Там, за большим зеркалом?
Я не видел, хотя знал, что лаборатория именно за вертящимся зеркалом в библиотеке, и слуги порой говорили о его «лечебнице», где он составлял для них рецепты, ежемесячно осматривал нанятых девушек и иногда оказывал услуги очень личного характера тем клиентам, которые не додумались блюсти верность только нашему заведению и теперь прибегали к посредническим услугам своих более мудрых коллег. Я ответил, что мне бы очень хотелось на нее взглянуть.
Он улыбнулся.
– Однако мы удалились от темы. Наука есть великая ценность: так же, как я, ты найдешь, что она требует бо́льших денежных вливаний, чем производит. Тебе понадобятся реактивы, оборудование, книги и многое другое, равно как и средства на собственную жизнь. Наш бизнес позволяет не слишком бедствовать, и хотя я надеюсь прожить долго – отчасти благодаря науке, – наследник его ты, и в конце концов он станет твоим…
(Значит, я был старше Дэвида!)
– …каждую фазу того, чем мы занимаемся. Поверь мне, все одинаково важны.
Я был так поражен и, честно говоря, повергнут в восторг моим открытием, что пропустил часть сказанного им. Я кивнул, и это было достаточно уместно.
– Отлично. Я желаю, чтобы ты начал с парадных дверей. Этим занималась одна из девиц, и первый месяц она будет с тобой, ибо там следует выучиться большему, чем тебе кажется. Я скажу Мистеру Миллиону, и он все устроит.
Я поблагодарил его, и он, отворяя двери в библиотеку, дал понять, что беседа окончена. Я едва мог поверить, выходя, что это тот же человек, который беспощадно глодал мою жизнь почти ежедневно в предутренние часы.
С событиями в парке я это внезапное повышение не связывал. Теперь я понимаю, что Мистер Миллион, у которого в совершенно буквальном смысле слова имелись глаза на затылке, наверняка доложил моему отцу, что я достиг возраста, когда детские желания, подсознательно устремленные на родителей, начинают полуосознанно распространяться за пределы семьи. В любом случае тем самым вечером я принял на себя новые обязанности и стал тем, кого Мистер Миллион поименовал встречающий, а Дэвид (объясняя первоначальный смысл слова, родственного «вратам») – привратником нашего дома, – и таким образом нашел практическое воплощение тех функций, которые на символическом уровне исполнял железный пес в нашем саду.
Служанка, исполнявшая их ранее, девушка по имени Нерисса [8], выбранная не только потому, что она была из самых хорошеньких, но и самой рослой и сильной, крупнотелая, длиннолицая, улыбчивая девушка с плечами пошире, чем у большинства мужчин, осталась, как обещал мой отец, помогать мне. Наши обязанности были не слишком тягостны, ведь клиенты моего отца были людьми с общественным весом и богатством, не склонные к дракам или громким скандалам, кроме обычных последствий опьянения; и в большинстве случаев они побывали в нашем доме уже не меньше дюжины раз, а некоторые из них – даже сотни раз. Мы звали их прозвищами, бывшими в ходу только здесь (их Нерисса называла мне sotto voce [9], по мере того, как появлялись их обладатели), принимали их одежду и направляли их – или, если нужно, провожали – в разные части заведения.
Нерисса бросалась навстречу (это было жуткое зрелище, полагаю, для всех, кроме самых героических клиентов), позволяла себя ущипнуть, получала чаевые, а потом разговаривала со мной во время перерывов о случаях, когда ее звали наверх – обслужить какого-нибудь знатока, и о деньгах, что она получила в те ночи. Я же усмехался ее шуткам и отклонял чаевые так, чтобы дать клиентам понять, что я – часть управляющего персонала. Большинству напоминаний не требовалось, и мне часто говорили, что я поразительно похож на своего отца.
Когда я служил привратником еще совсем недолго, наверное, всего лишь третью или четвертую ночь, у нас появился необычный посетитель. Он пришел ранним вечером, но это был вечер такого сумрачного дня на самом исходе зимы, что фонари в саду уже час как были зажжены; по улице катили случайные экипажи, но лишь стук их колес доходил из тумана. Я открыл дверь и, как мы всегда поступали с незнакомцами, с вежливым интересом спросил, что ему угодно. Он сказал:
– Я хотел бы поговорить с доктором Обри Вейлем.
Боюсь, что у меня был очень глупый вид.
– Это Салтимбанк-стрит, 666?
Конечно да; и имя доктора Вейля, хотя я не мог ни с чем сразу отождествить ero, задело что-то в памяти.
Я решил, что это один из клиентов, которые использовали дом моего отца в качестве adresse d’accommodation [10]; так как посетитель выглядел совершенно пристойно, мне вовсе не было нужды держать его в дверях и спорить, невзирая на частичное прикрытие, обеспеченное садом, я пригласил его войти; потом я послал Нериссу за кофе, чтобы несколько минут поговорить с ним наедине в приемной, которой заканчивался вестибюль.
Этой комнатой пользовались очень редко, и служанки, вытирая пыль, обходили ее, что я и отметил, едва отворив дверь. Решив про себя рассказать об этом тетушке, я тут же вспомнил, где и когда слышал об этом Вейле. Моя тетушка, в тот самый первый случай, когда я говорил с нею, касалась его теории, что мы на самом деле – туземцы Сент-Анн, перебившие настоящих земных колонистов и скопировавшие их так подробно и точно, что вовсе позабыли наше собственное прошлое. Незнакомец уселся в одно из пыльных позолоченных кресел. У него была борода, очень черная и более пышная, чем допускалось по господствовавшей тогда моде, и если бы не кожа лица, он был бы даже красив – но она была такой бесцветной, почти белой, что это выглядело каким-то уродством. Его темная одежда была необычно тяжела, как войлок, и я вспомнил, как услышал от кого-то из клиентов, что рейсовый звездолет с Сент-Анн приводнился вчера в бухте, почему и спросил, не был ли он на его борту. Мгновение он казался изумленным, затем рассмеялся.
– А ты неглуп, я вижу. Ну а живя с доктором Вейлем, наверняка знаком и с его воззрениями. Нет, я с Земли. Меня зовут Марш. – Он подал мне свою карточку, и я прочитал ее дважды, прежде чем смысл изящно оттиснутых на ней сокращений отложился в моем мозгу. Мой посетитель был земным ученым, кандидатом антропологических наук.
Я сказал:
– Я отнюдь не пытаюсь сострить. Я подумал, что вы могли быть с Сент-Анн. Здесь большинство из нас относятся к одному и тому же планетному фенотипу, за исключением цыган и преступников, а вы отнюдь не походите на его представителя.
Он заметил:
– Я и сам обратил на это внимание. О вас можно сказать ровно то же самое.
– Мне часто говорят, что я очень похож на своего отца.
– Да? – Он посмотрел на меня как-то особенно пристально. – Скажите, вы клон?
– Кто? – Я слышал это слово, но связывал его исключительно с ботаникой, и, как это со мной обычно бывало, когда я хотел блеснуть своими познаниями, я снова ощутил себя глупым первоклашкой.
– Я говорю о партеногенетическом размножении, так что новый индивидуум – или индивидуумы, можно получать тысячи, если захочется, – будет обладать генетической структурой, идентичной родителю. Это не согласуется с нуждами эволюции, поэтому на Земле такая практика незаконна, однако я думаю, что здесь за такими вещами следят не очень пристально.
– Вы говорите о людях?
Он кивнул.
– Никогда о таком не слышал. Сомневаюсь, что вы найдете здесь необходимую технологию: мы слишком отстали от Земли. Конечно, мой отец мог бы придумать для вас кое-что.
– Я не собираюсь делать ничего такого, – возразил он.
Тут вернулась Нерисса с кофе, и тем самым оставила невысказанным все, что мог еще поведать доктор Марш. Честно говоря, предположение насчет своего отца я высказал больше по привычке и подумал, что это маловероятно, выкинуть такой биохимический tour de force [11], но возможность есть всегда, особенно за крупное вознаграждение. Мы молчали, пока Нерисса расставляла чашки и наливала; когда она ушла, Марш оценивающе сказал:
– Весьма необычная девушка.
Я обратил внимание, что у него необычные глаза: ярко-зеленые, без коричневых крапинок, обычных для большинства зеленоглазых. Я очень хотел расспросить его о Земле и новых разработках, используемых там, и мне уже не раз приходило в голову, что девушки могут оказаться эффективным способом задержать его здесь или по крайней мере вернуть его сюда. Я сказал:
– Вам надо увидеть некоторых поближе. У моего отца прекрасный вкус.
– Я бы лучше повидал доктора Вейля. Или это он ваш отец?
– О нет! – сказал я с искренним сожалением.
– Но он здесь живет, или по крайней мере это тот адрес, что мне дали. Салтимбанк-стрит, 666, Порт-Мимизон, Департамент де ла Мэн, Сен-Круа.
Он выглядел очень целеустремленным; казалось, что, если я просто объясню ему, что вышла ошибка, он уйдет. Я сказал:
– Я слышал о гипотезе Вейля от моей тетушки. Она ее ярый сторонник. Может быть, попозже, вечером, вы захотите побеседовать с нею?
– Не могу ли я увидеться с ней сейчас?
– Моя тетушка принимает очень немногих; открoвенно говоря, мне рассказывали, что она поссорилась с моим отцом еще до моего рождения и редко покидает свои апартаменты. Управляющие отсылают ей доклады, и она, как я полагаю, ведет всю нашу домашнюю бухгалтерию, но очень редко можно увидеть мадам вне ее комнат или же впустить кого-то незнакомого туда.
– А почему вы говорите об этом мне?
– Чтобы вы поняли, что даже при наилучшем стечении обстоятельств для меня может оказаться невозможным устроить вам эту встречу. Пo крайней мере нынче вечером.
– Вы можете просто спросить, знает ли она теперешний адрес доктора Вейля, и если да, то где это.
– Постараюсь помочь вам, доктор Марш. Честно.
– Но вы не думаете, что так будет проще всего?
– Увы, нет.
– Другими словами, если вашу тетушку просто попросить об этом и не дать ей возможности составить обо мне свое суждение, то она может отказать мне в информации, даже если ей известен адрес?
– Было бы полезно сначала немного побеседовать. Есть много всего, что я желал бы узнать о Земле.
На мгновение мне показалось, что под черной бородой промелькнула сдержанная разочарованная усмешка. Он сказал:
– Но это я бы хотел для начала…
Его снова прервала Нерисса, наверное, с тем, чтобы узнать, не требуется ли нам чего-либо еще с кухни. Я готов был придушить ее, когда доктор Марш запнулся на полуслове и сказал:
– А не может ли эта девушка спросить вашу тетю, примет ли она меня?
Соображать пришлось быстро. Я рассчитывал пойти сам и, выдержав паузу, вернуться и объявить, что моя тетушка готова принять доктора Марша позднее, что дало бы мне добавочную возможность расспросить его, пока он будет ждать. Но была еще и вероятность (без сомнения, преувеличенная моей жаждой узнать о новых открытиях, сделанных на Земле), что он не станет ждать – или, когда и если все же встретится с тетушкой, непременно упомянет об этом инциденте. Если же я пошлю Нериссу, то останусь с ним, по крайней мере, до тех пор, пока она будет бегать к тетке, да еще есть основательный шанс, что моя тетушка окажется занятой каким-то делом, которое захочет довести до конца, прежде чем встречаться с незнакомцем.
Я разрешил служанке уйти, а доктор Марш дал ей одну из своих карточек, написав на обороте несколько слов.
– А теперь, – сказал я, – что вы собираетесь у меня спросить?
– О, про этот дом; на планете, колонизированной всего два века назад, он выглядит абсурдно старым.
– Он и был выстроен сто сорок лет назад, но у вас на Земле есть, должно быть, и намного старше.
– Думаю, что да. Их там сотни. Но один из них приходится на тысячу таких, которым меньше года. Здесь же почти все здания, что я видел, так же стары, как это.
– Мы здесь никогда не сбивались в кучу, и нам не приходилось ничего сносить; так говорит Мистер Миллион. И сейчас тут меньше людей, чем было пятьдесят лет назад.
– Мистер Миллион?
Я рассказал ему о Мистере Миллионе, а когда закончил, он сказал:
– Похоже, что у вас здесь есть несвязанный симулятор десять-девять, что весьма интересно. Ведь их было сделано всего несколько штук.
– Симулятор десять-девять?
– Миллиард, десять в девятой степени. В человеческом мозгу несколько миллиардов синапсов; но было открыто, что их деятельность прекрасно можно воспроизвести в компьютерной симуляции…
Казалось, не прошло и минуты, как Нерисса ушла, и вот она уже возвратилась. Присев перед доктором Маршем, она объявила:
– Мадам примет вас.
Я пробурчал:
– Сейчас?
– Да, – бесхитростно ответила Нерисса. – Мадам сказала, прямо сейчас.
– Тогда я провожу доктора. Останься у дверей.
Я сопровождал доктора Марша по темным коридорам, идя в обход, чтобы времени было побольше, но он, казалось, выстраивал в уме вопросы, которые хотел задать моей тетушке, пока мы шли мимо облезлых зеркал и рассохшихся ореховых столиков, и отвечал мне односложно, когда я пытался выспросить его, что происходит на Земле. У дверей тетушки я постучал. Она отворила сама; край ее черной юбки пусто свисал над ковром, куда еще не ступала нога человека, но я не думаю, что доктор Марш это заметил. Он сказал:
– Искренне сожалею, что обеспокоил вас, мадам, и делаю это лишь потому, что ваш племянник сказал мне, что вы можете помочь мне отыскать автора гипотезы Вейля.
Моя тетушка сказала:
– Доктор Вейль – это я. Входите, пожалуйста, – и закрыла за ним дверь. Я остался стоять в коридоре с разинутым ртом.
Я упомянул об этом происшествии при Федрии, когда мы повстречались в следующий раз, но ей было интереснее разузнать о доме моего отца. Федрией [12], если я еще не называл тут этого имени, звалась девочка, что сидела неподалеку от меня, когда я смотрел, как Дэвид играет в сквош. Она была представлена мне в следующую встречу не кем иным, как той самой чудовищной гувернанткой, которая помогла ей усесться рядом со мной и, о чудо из чудес, быстро отступила на точку, где, сохраняя возможность наблюдать за происходящим, по крайней мере не могла нас подслушать. Федрия вытянула перед собой сломанную лодыжку до середины гравийной дорожки и улыбнулась самой очаровательной улыбкой.
– Ты не возражаешь, если я присяду здесь? – У нее были превосходные зубки.
– Буду в восторге.
– Ты еще и удивлен. У тебя глаза становятся большими, когда ты удивляешься, ты не знал?
– Я удивлен. Много раз я приходил сюда, надеясь отыскать тебя, но тебя здесь не было.
– И мы приходили поискать тебя, и тебя тоже здесь не было, но я думаю, что никто не может себе позволить проводить в парке много времени.
– Я могу, – сказал я, – и я бы так и сделал, если бы знал, что и ты меня ищешь. Все же я приходил сюда так часто, как мог. Боялся, что она, – я покосился на чудище, – не позволит тебе вернуться. Как ты ее уговорила?
– Я не уговаривала, – сказала Федрия. – Ты что, не догадываешься? Ничего не знаешь?
Я признался, что не знаю. Я чувствовал себя дураком и был дураком по крайней мере в том, что говорил, потому что большая часть моего мозга была занята не тем, что формулировала ответы на ее замечания, но пыталась запечатлеть в памяти дивные переливы ее голоса, фиалковое великолепие ее глаз, даже слабый аромат ее кожи и мягкое, теплое прикосновение ее дыхания к моей холодной щеке.
– Так что, – говорила Федрия, – когда тетя Урания [13] – на самом деле она бедная кузина моей матери, – явилась домой и рассказала отцу о тебе, он выяснил, кто же ты такой, и вот я здесь.
– Ну да, – сказал я, а она рассмеялась.
Федрия была одной из тех девочек, кто вынужден разрываться между надеждой на супружество и мыслью о продаже. Дела ее отца, как она сама сказала, были ненадежны. Он спекулировал корабельными грузами, главным образом с юга – тканями и лекарствами. Большую часть времени он был должен крупные суммы, которые кредиторы не могли надеяться получить, разве что изъявляли желание ссудить ему еще больше. Он должен был, по идее, умереть нищим, но в то же время успел вырастить дочь, дав ей превосходное образование и снабдив деньгами для пластической хирургии.