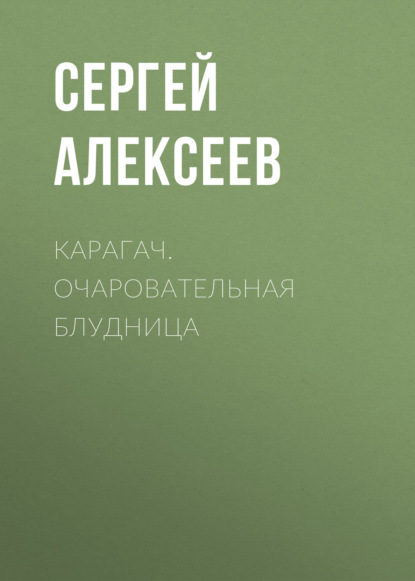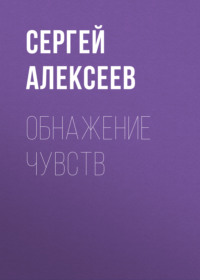Полная версия
Карагач. Запах цветущего кедра
– Значит, у тебя есть связь с Рассохиным?
– И связи нет! Он через своего друга, Бурнашова, попросил…
– Верю. – благосклонно отозвалась Неволина. – Не зря сказали, ты просто экстримал, любитель приключений… Вот и возьму завтра на экстримальную встречу к Стюарту!
– Все-таки мне показалось, это не Стюарт. – слабо трепыхнулся Колюжный. – Тот, что вещал со сцены… Не Сорокин.
– Кто же еще?
– Не знаю… Может, помощник, сподвижник. И явно умнее самого гуру. Просто я слушал, с книжкой сравнивал. Здесь хоть что-то есть вразумительное…
– Пожалуй, да, – легкомысленно согласилась звезда. – В книжке-то вообще эзотерическая бредятина.
– Про чишовел интересно. Термин странный, никогда не слышал…
– Это что?
– Энергия смерти.
– Я прослушала… Ладно, завтра все проверим! – Неволина тронула своего охранника за плечо. – Поехали!
Вячеслав вышел из машины с ощущением, будто его эта барыня только что оттаскала за ухо…
4
Больше всего она опасалась обещанного лешим «сватом», чистилища, которое предстояло пройти в скиту у молчунов, поэтому все лето думала о побеге. Но мысль эта жила в ней как-то отвлеченно, не содержала никаких конкретных планов и скорее была только неким умозрительным желанием. Она даже не знала, где находится, и если бежать, то в какую сторону, на чем, и более менее ясным казался ей только срок. Как только попытаются провести сквозь муки чистилища, которые хоть и вызывали любопытство, однако представлялись адскими. И если этого не случится, то самое время бежать под осень, когда будет заканчиваться полевой сезон.
Она воображала, как неожиданно явится на прииск или в лагерь отряда, словно с неба свалится! Ведь к тому времени ее почти перестанут искать, строить предположения, выдвигать версии и будут лишь вспоминать у вечерних костров, даже кто-нибудь из самодеятельных бардов сочинит песню. Она же внезапно придет, возникнет из небытия и вот тут поднимется такая волна! Молва пойдет не только по Карагачу и Сибири – до Питера долетит, и все станут рассказывать, как неведомые миру кержаки из таинственного толка погорельцев похитили студентку из горного, Женю Семенову. Как она пробыла в плену несколько месяцев и с великими трудами бежала.
Чтобы еще пуще раззадорить будущее любопытство к ее приключениям, она завела дневник, благо, что чистых полевых книжек-блокнотов было несколько, и стала записывать впечатления каждого дня. И еще не скрываясь, снимала жизнь огнепальных, жилища, домашнюю утварь и даже портреты. При этом по-детски радовалась, что взяла с собой много пленки! Она ощущала себя путешественником, первооткрывателем неведомой цивилизации, некой инопланетной жизни. Правда, кержаки-погорельцы откуда-то знали про фотоаппарат, и что он может снимать точные картинки – удивить их чем-либо было трудно, однако фотографировать не запрещали. Ей вообще ничего не запрещали, и даже не охраняли, не присматривали и тем паче, не запирали: делай, что угодно, ходи, где вздумается!
На следующий день, как ее привезли в потаенный скит, посмотреть на добытую невесту пришла старуха, внешне похожая на сказочную Бабу Ягу. Она бесцеремонно растрепала Жене волосы на голове и отпрянула.
– Мыть да чистить надобно отроковицу! – сказала Прокоше. – Вся во вшах да блохах! Фу!
А она только что из бани пришла и блаженствовала от чистоты и ощущения легкости. В тот же день Женя попробовала если не сбежать, то хотя бы разведать местность, поскольку не имела представления, где находится. Душистый, потворствующей неге, аромат кедрового цвета действовал, как снотворное, и она проспала почти все время, пока они плыли на обласе по бесконечным разливам и озерам. Пленнице не завязывали глаза, никак не скрывали пути, а навели приятный, нескончаемый морок – это уже потом Женя узнала, как погорельцы умеют морочить голову. Всю дорогу она лишь изредка просыпалась, замечала какие-то детали и ориентиры, однако над нею склонялся иконописный лик жениха, и все окружающее пространство превращалась в некий малозначащий фон.
У молчуна Прокоши взгляд был какой-то говорящий, необъяснимо притягательный, и тонкая струнка разума едва слышно позванивала, как далекое эхо, заставляя сожалеть, что еще ни разу на свете она не встречала таких манящих мужских глаз, вселяющих уверенность и бескрайний душевный комфорт. Она не хотела, но тянулась к нему, как тянулась бы всякая женщина, обласканная и вдохновленная таким взором. Это можно было бы назвать и наваждением, и чарами, и колдовством, но угасающий звук разума не мог уже совладать, казалось бы с неуместной, неестественной, сумасшедшей мыслью, которая умещалась в три слова – «это мой мужчина».
Не было сказано ни единого слова, которые клятвенно и со страстью произносят в таких случаях, не совершено подвигов, не дано никаких обещаний, не принесено подарков – вообще ничего! Пожалуй, кроме этого благостного эфирного аромата, который она ощутила еще на прииске перед похищением. Даже формальных объяснений в любви не было, а все уже будто состоялось, и она впервые в жизни любила не ушами и даже не глазами, как женщина; она почуяла своего мужчину по запаху, как в природе всякая самка чует своего самца. И позволила себя украсть. Все остальное вдруг стало не важно, не обязательно – куда ее везут, каким путем, и что ждет впереди.
В этом безразличии и заключалась тайная, бесконечная минута счастья! Счастливый полусон не прервался даже когда она обнаружила себя обнаженной сначала в тесном помещении – что-то вроде бани. Богообразный похититель мыл ее водой, вытирал полотенцем, и она с удовольствием и полным доверием подставляла ему тело. Потом нес на руках по весеннему, солнечному лесу, завернутую в ткань, и она уже догадывалась, куда и зачем несут, испытывая при этом предощущение бесконечной радости. Примерно вот так она представляла себе их побег с Рассохиным в лесные кущи, чтоб он так же нес ее и молча ласкал взглядом. Их первая брачная ночь началась задолго до захода солнца, под деревом, и закончилась только утром, на восходе. И на все это бесконечное время Женя совершенно забыла, что ее похитили, и что с ней не богообразный погорелец Прокоша, а страстный и чувственный Стас, вдруг из робкого мальчика превратившийся в мужчину. На них все время сыпалась золотистая, кедровая хвоя – и это было единственным опознавательным знаком, что они все-так на земле и реальный мир существует.
Женя была уверена, что засыпает в объятьях Рассохина, и потому заснула так крепко, что проснулась лишь в обласе, на лосиной шкуре. На корме сидел и греб веслом просветленный Прокоша и она восприняла это без паники и разочарования. Снова плыли по разливам, и теперь уже не хотелось запоминать дороги, замечать ориентиры…
Простенький мотивчик, напеваемый подавленным сознанием, еще нудил, подсказывал, твердил, что это не на долго, не на всегда, что это всего лишь приключение, увлекательная забава, авантюра, поэтому и сохранялось желание бежать. И она сделала первую попытку совершенно спонтанно, как только заметила, что за ней никто не следит. Становище огнепальных располагалось в ленточном кедровнике, невысокие дома были выстроены вокруг гигантских кедров и вовсе не имели крыш, только бревенчатый накат, покрытый толстым слоем глины. Не попадали ни дождь, ни снег, и с воздуха увидеть их было невозможно. Несколько раз Женя слышала вертолет, круживший над весенними разливами, это искали ее, но не было никакого желания выдавать себя и жилье своих похитителей.
Перед первым тайным побегом ей казалось, будто Карагач где-то на востоке, и однажды она взяла фотоаппарат и пошла в эту сторону. Однако кругом была вода, затопленная болотистая пойма, уйти по которой без лодки ну никак невозможно. Не вброд же, не вплавь! И эта невозможность радовала, точнее, оправдывала ее пребывание здесь. Если сбежать сейчас, все кончится! И начнется практика, полевой отряд, маршруты, посиделки возле костров, одни и те же рожи, истории, песни, анекдоты. Влюбленный Стас наверняка уволился или даже уволили за потерю своего маршрутника. После практики опять город, гнусный питерский климат, защита диплома. Да и уходить было слишком рано! Старуха только посоветовала Прокоше вести ее сквозь чистилище, а тот вроде бы и не готовился, напротив, всячески ублажал. И когда соберется производить экзекуцию, неизвестно, все лето впереди. Вот спадет вода, высохнет земля, Карагач войдет в русло, ее пропажа обрастет легендами и закончится запас пленок – вот тогда и бежать можно!
Отсутствовала она часа три, но даже искать никто не бросился, и не спросил, где была. Только пегий сват по-лешачьи хитро глянул и скрючил нос. Женя застала своего Прокошу за тем же делом, за которым оставила. Готовясь похитить себе присмотренную на прииске, отроковицу, «муж» пристроил к своему тесноватому домику светелку и теперь выстрагивал стены. Огнепальные деревьев в своем кедровнике не трогали, а рубили где-то далеко и плавили по воде толстенные бревна. Потом их раскалывали, возводили стены, настилали полы и потолок: пристройка получалась бело-розовая, сказочная, с тремя окошками и пахла божественно – свежим кедром.
А строил, потому что женщины у огнепальных жили отдельно, на своей половине, куда муж мог входить лишь ночью. Ко всему прочему, жен вообще не заставляли работать по хозяйству, и в начале Женя думала, что это по причине медового месяца, потом все равно придется готовить пищу, убирать в доме, стирать. Но месяц пролетел – ничего не изменилось! Женя первые две нелели просто отсыпалась и огромный Прокоша за толстой дверью светелки ходил на цыпочках. Когда она просыпалась и как всегда начинала чихать, «муж» получал сигнал и готовил ей завтрак, обычно, ядра кедровых орешков, сваренные в лосинном молоке, эдакая божественного вкуса, каша. Ему даже не надо было говорить, что такая пища ей нравится; прозорливый, он все сам видел и готовил. И что больше всего поразило: чтобы накормить одним только завтраком, он часа два сидел и щелкал орехи, собирая зернышки в глиняную плошку!
На обед Прокоша готовил рыбу, обычно, нельму, причем, настолько вкусно, с приправами из диких трав, что она никак не могла насытиться. А еще подавал копченый язык, молодую лосятину с гарниром из медвежьей пучки или ревеня, что-то вроде паштета из костного мозга с перетертыми луковицами саранок и кореньями. Это не считая такой обыденной и знакомой пищи из тушеных овощей и сдобных свежих хлебцев из ржи крупного помола. Сладкого тоже было вдосталь, даже медовые самодельные конфеты и что-то вроде щербета с кедровыми орешками. Жене было интересно узнать, что из чего и как приготовлено, однако Прокоша секретов не выдавал, а только сидел, смотрел, как она ест и улыбался. Все рецепты она узнавала от жен других погорельцев, которые приходили глянуть на «молодую» и охотно рассказывали и даже учили премудростям кухни молчунов. Поначалу Женя опасалась спрашивать их, когда же кончится это райское существование и начнется чистилище. С «мужем» они вообще почти не разговаривали, да и потребности в этом Женя не испытывала даже когда он ночью приходил на ее территорию, вставал на колени перед ложем и начинал осторожно трогать ее тело подушечками пальцев, как слепой. Эти прикосновения напоминали мимолетные поцелуи, и сначала она испытывала полудрему и негу, представляя, что это пришел Стас, запускала руку ему в бороду и тело в тот час наполнялось пузыристой страстью, как в первую брачную ночь…
Пришло время, когда надоело вести лежачий или гуляющий образ жизни, и она сама бралась за какую-нибудь работу, но Прокоша молча отстранял ее или усаживал в красный угол.
– Сам. – говорил он. – Мне в радость.
И еще подавал голос, чтоб непременно пожелать здравия, когда она чихала, причем повторить одну и ту же фразу мог хоть двадцать раз подряд. А помнится, мужа этот ее чих по утрам начинал раздражать и даже бесить.
Как только Прокоша привел себе супругу, женщины стали приходить к нему в жилище, и оказалось, кержацкие жены не в пример мужьям, говорливые, веселые, любопытные, и занимаются в скиту лишь тем, что рожают и воспитывают детей. Все они были когда-то похищены в миру, совсем юными или как Женя, взрослыми, и почти ни о чем прошлом не жалели. А иные, уже стареющие тетки, и вовсе были выкуплены из лагеря заключенных! Одно время в зоне на Гнилой Прорве была начальница-хозяйка, которая по уговору с молчунами устраивала смотрины невест и продавала молоденьких воровок и мошенниц. Выбирала таких, которые освобождались, а если отроковица очень уж нравилась кержакам, но срок имела большой, то переводила в «больничку», потом выписывала бумаги о смерти. Вместо лагерного кладбища счастливица попадала в рай земной. Кержаки платили за своих невест соболями, однако хозяйка зоны попала под подозрение, и то ли сама села на нары, то ли перевели куда. И опять огнепальные были вынуждены заняться старым промыслом – кражей отроковиц.
У молчунов оказалась беда, с которой они никак не могли справиться. Все погорельцы были родственниками друг другу и не могли брать в жены своих невест, старики за этим очень строго следили. К тому же, по злому року у огнепальных рождались в основном мальчики, и совсем редко – девочки. Некоторые парни лет до сорока не женились, искали себе подходящих невест, или вовсе оставались бобылями. Первых встречных они не брали, высматривали себе отроковиц, ярых по духу и смелых, точно угадывали способность к чадородию и сильное материнское начало.
Все эти подробности рассказали ей кержацкие жены, доверительно, без утайки, по-свойски, даже не подозревая, что она замыслила побег к осени. Слушая их, Женя с каким-то легким сожалением думала, что Прокоша все-таки обманулся, никакого сильного материнского начала в ней как раз и не было. Она даже дочку вспоминала редко, отвлеченно размышляя, как бы написать ей письмо и попросить пронырливого свата-лешего, чтобы каким-то образом переправил в Усть-Карагач, и там сбросил в почтовый ящик. И все откладывала, ибо увлеченная своими приключениями, не ощущала острой потребности.
И еще одно желание, навеянное прошлым, иногда возникало в очарованной голове: вот если бы Стас ее разыскал! Плюнул бы на увольнение, остался на Карагаче ради нее. Пожалуй, он был единственным парнем, за которым бы она пошла из плена, но при обязательном условии поединка. Пусть схватится с Прокошей и отнимет! Отнимет и приведет в отряд… Но пусть это случится под осень, чтоб целое лето удачливый, прославленный на Карагаче, Рассохин метался, рыскал по тайге. И если добыл бы себе отроковицу, то в честной драке отбил у соперника. Тогда можно поверить в его чувства и пойти…
Только вот станет ли искать? А отыскав, возьмет ли, коль узнает, что были у них с огнепальным брачные ночи? Обмануть его казалось кощунством, да и соврать о своем целомудренном пребывании у Прокоши невозможно! Поэтому и возникали сомнения: больно уж ревнив был баловень судьбы, он и с Репниным рассорился из-за Жени, и увольняться вздумал потому, что честолюбие не позволяет прощать…
Она думала о Стасе, даже когда уединялась в светелке и нетерпеливо ждала своего «мужа» Прокошу, купаясь в колких и шипящих, как шампанское, волнах предощущений.
Первым тревожным знаком стало то, что «муж» перестал приходить к ней ночью. Женя прождала его несколько вечеров, полагая, что это его воздержание как-то связано с обычаями погорельцев. Ночи были светлые, манящие, таинственные от синих, туманных сумерек, и зов плоти ощущался особенно ярко. Но когда прошла неделя, сама приоткрыла дверь в мужскую половину. Прокоша безмятежно спал на голой лосинной кошме, и одет был странно: в длинную, домотканную рубаху, перепоясанную сыромятным ремнем, и не смотря на летнее тепло, в суконные портки. И стоило ей сделать шаг, как порывисто вскочил и отвел в светелку. Там положил на постель, укрыл одеялом и сказал два слова:
– Нарушим, нельзя.
И тут же вышел.
Тогда она и задумала второй побег.
Должно быть, «муж» не хотел нарушать некий свой пост, променял ее на свою религию, хотя Женя так еще и не разобралась, в какого бога верят кержаки и как молятся, потому что молящимися никогда не видела, хотя несколько медных икон в углу висело. А если уж честно сказать, то пресытился ею, притомился от нужды все время оказывать знаки внимания, коль для него важнее стал обычай, нарушать который не хотел. И ведь она тайно от себя ждала этой минуты. Ну, не может такого быть на свете! Не в состоянии мужчина служить женщине, как богине! Даже такой первобытный, первозданный и молчаливый, как огнепальный кержак. Кончилось у него терпение, тут и сказке конец.
Можно выходить из скита, благо, что близится август. Пусть теперь поищет! Побегает по тайге!
Не смотря на охлаждение, Прокоша накормил ее завтраком и отправился на огород, который был далеко от скита, в скрытом от самолетов, месте. Женя собрала все не проявленные пленки, взяла дневники и отправилась налегке, даже без продуктов, чтоб никто не заподозрил побега. Грибов и ягод в тайге было множество, да и три дня посидеть на диете не помешало бы, поскольку от забот «мужа» она стала заметно поправляться. Подумают еще, не в плену была – в санатории. Она уже знала, в какой стороне искать Карагач, а по реке можно было легко выйти на рассошинский прииск или до любого стана геологов. Еще в камералке она слышала, что открытие Рассохиным необычной золотой россыпи подвигло экспедицию снарядить несколько поисковых отрядов, которые отрабатывали всю территорию от Зажирной Прорвы, где были кержацкие златокузницы, до горных верховий. Потаенный скит находился где-то ближе к горам, и в ясную погоду были видны голубые очертания далеких вершин.
Женя прошла ленточным кедровником до болотистой, низины, там в последний раз оглянулась, облегченно вздохнула и словно в воду, погрузилась в кочковатую, густо поросшую кустарником, марь. Под ногами хлюпало, осока резала пальцы, да и после вольготной, малоподвижной жизни идти было трудновато, пропотела, гнус доставал, которого в кедровнике почти не ощущалось. За болотом, по тыловому шву, оказались целые заросли спелой жимолости, и Жене вдруг так захотелось этой горькой ягоды! Прокоша каждый день приносил ей то земляники, то голубики или морошки, которую заливал молоком, медом и ставил на стол. Но жимолость кержаки не ели, считали ее вообще не съедобной из-за горечи, называли волчьей, хотя пришедшие из мира их жены тайком ее вкушали.
Она съела всего пригоршню, нарвала горсть в карман и когда выбралась из болота на сухую березовую гриву, ощутила тошноту. Думала, от горечи, скоро пройдет, однако через несколько минут ее вырвало, от внезапной слабости подкосились ноги. Должно быть, манкая темно-синяя, в изморози, ягода и впрямь здесь была ядовитой. Кое-как она добралась до края луговины, откуда начиналась новая лента болота и попила воды. Тошнота вроде бы унялась, прошло головокружение, а задора и обиды на Прокошу было достаточно, поэтому она еще километр плюхалась по мари, пока не вышла на следующую, осиновую гриву. Полоска суши оказалась узкой, за ней опять простиралось болото, уже километра на три, но не это подломило волю. Ком тошноты опять подступил к горлу, побежала горькая слюна и земля закачалась под ногами. Скорее всего теперь подействовала болотная вода, и Женя с ненавистью к себе подумала, что разбаловалась, разнежилась в чистоте и уюте Прокошиного дома. Раньше откуда только пить не приходилось, торф отжимали сквозь майку, бурую жижу глотали, и хоть бы что…
Когда снова вырвало, она поняла, что в таком состоянии даже до Карагача не дойти, тем более, неизвестно, сколько еще топать по болотам до берега, где-то и ночевать придется. А если за световой день не уложиться, Прокоша хватится, бросится догонять. И догонит, поэтому лучше сейчас, до обеда повернуть назад.
Возвращалась она торопливо, и недомогание вроде бы прошло, но когда шла сквозь заросли жимолости, вновь захотелось этой нестерпимой горечи. В тот миг у нее проскочила мысль, что желание это навязчиво, как у беременной, но не зацепила сознания. Женя пересилила себя, наломала букет с ягодами и перешла марь. Возле кедровника попыталась уничтожить следы преступления: умыла в луже лицо, руки, всполоснула сапоги и оттрясла одежду.
Прокоша вроде бы ничего особенного не заметил, но на жимолость обратил внимание.
– Вот этой ягоды хочется. – призналась Женя. – У нас ее жимолостью называют. А вы считаете, не съедобная?
– Ешь. – позволил он.
– А ничего не будет?
– Ежели токо сблюешь…
Ушел куда-то, и минут через десять явился с деревянной плошкой, полной соленых огурцов, еще прошлогодних, пожелтевших в бочке. И при виде их, а более от одного запаха у Жени слюнки потекли. Прокоша молча поставил плошку перед ней и стал смотреть нежно, со скрытой, бушующей радостью.
И только тут ее словно ледяной волной окатило, потом в жар бросило – залетела! Беременна! Это же самый обыкновенный токсикоз, потому и тошнота, и страстное желание. Все точно так же, когда зачала Лизу! Только тогда ей хотелось горького миндаля…
Впервые за эти два месяца добровольного и восхитительного заточения она заплакала у себя в светелке. Прокоша слышать не мог – почуял, пришел, сел рядышком, не касаясь ее, и сказал еще два утешительных слова:
– Переможется, погоди…
А самого распирало от удовольствия!
На следующее утро она впервые собралась сходить в гости – просто так ходить друг к другу у женщин было не принято, да и некогда, у всех дети и женские хлопоты. Сами погорельцы на ребят до пяти лет смотрели редко и не баловали, не тетешкали, особенно, мальчиков. Но после пяти забирали и позволяли матерям только взглянуть на них, не давали ни приласкать, ни угостить чем-либо. Точно так же не подпускали близко и к другим женщинам, воспитывали молчунов. С этого возраста парни всюду следовали за родителем, как тени и уже носили на опояске ножи, стреляли из луков, рыбачили, штопали сети, чинили охотничьи потаенные зимовья, иногда пропадая в тайге неделями. А в девять вообще уходили к неким старикам, и будто возвращались оттуда зрелыми, молчаливыми мужами и начинали охоту за невестами.
В скиту жила коллега Жени, когда-то давно похищенная из поискового отряда геолог Галя Притворова, почти ровесница и уже многодетная. Бывшая профессия как-то сразу их сблизила, но Галя никогда не вспоминала прошлую жизнь, ничуть не сожалела о ней. И если что-то проскакивало, то случайно, ненароком. Жене хотелось с кем-нибудь поделиться своим горем – а в первые дни она так и воспринимала свою беременность, поделиться, совета спросить или хотя бы выплакаться. Была еще утлая, заведомо пустая надежда, навязанная паническим состоянием: попробовать выяснить, нельзя ли сделать аборт? Может, какой травы попить? Прыгнуть с крыши? Женщины в скиту были многоопытными, иные в лагере сидели, должны знать способы, как избавиться от беременности…
Галя будто тайные мысли ее прочла.
– А я давно поняла, забрюхатела ты. – сказала между делом. – По глазам видно. Только не вздумай травить. Родишь дитя, Прокоша на тебя молиться станет.
Женю ее слова будто за горло взяли.
– Да я же уйти собралась. – в отчаянии призналась она. – Вернуться!..
– Даже не думай. – отрезала коллега. – Кто же тебе позволит семя унести? Мы люди огнепальные, выученные властью постоять за себя… Мало что Прокоша уйти не позволит, морок наведет… Геологи твои пострадают. Больше всех тот, кто в миру добрее к тебе относился или чувствами повязан.
В первый миг Женя пришла в ужас от ее слов: Галя рассуждала так, словно век прожила в скиту. И не оставляла ни единого проблеска надежды!
– Радуйся, вон как скоро зачала. – заговорила она примирительно. – Это Прокоше знак, с любовью брак сотворился. От стариков одобрение получишь. Ты лучше попроси его, пусть сходит к ним да узнает, кого родишь и какое имя дать. Вслепую нельзя долго плод носить, пора уже изведать, кого носишь.
Вернувшись от своей преображенной коллеги, Женя еще несколько дней жила, словно в огромной качели, вздымающей ее то вверх, то вниз, то в прошлое, то в будущее. И в любом положении она испытывала замирание души, ибо в прошлое возврата теперь не было, а будущее еще не просматривалось. Точнее, было не соразмерным с ее представлениями о жизни в скиту, среди огнепальных молчунов. Одно дело, приключения в летний сезон, эдакая забава для школьного сочинения «как я провел каникулы», и другое – предрешенное, неотвратимое существование все оставшиеся годы провести вне привычной цивилизации. Прокоша видел ее метания, чуял ночные слезы, но не вмешивался, не тормозил эти качели, словно позволяя самой определиться в настоящем. И правильно делал, поскольку мог попасть под горячую руку и не спасло бы его даже осознание, что он – «мой мужчина».
По утрам, когда ей удавалось поспать несколько часов, Женя просыпалась и долго лежала, не открывая глаз, чтоб сразу же не закружилась голова от этих полетов. Пока она не видела глазами свое скитское существование, как-то легче казалось взвешивать, что теряет, и что обретает. И странное дело, все больше тянула та чаша весов, на которой лежал окружающий ее, не цивилизованный мир. Даже не ласковый и сильный красавец-«муж», умеющий носить на руках, а некая обнимающая его чистота. Первозданно и чисто здесь было все, от выскобленного до желтизны, жилища и пахнущей свежестью одежды до воздуха, пищи, кедрового леса и неба над головой. Эта чистота сквозила даже из молчания Прокоши, ибо от слов и речей ей всегда было пыльно, дымно и неуютно. А прошлый мир, напротив, начинал все сильнее напоминать огромную питерскую коммуналку с общим коридором, туалетом и кухней, где уже никогда невозможно отмыть грязь, выстирать занавески, вывести тараканов и избавиться от скверных вездесущих запахов.