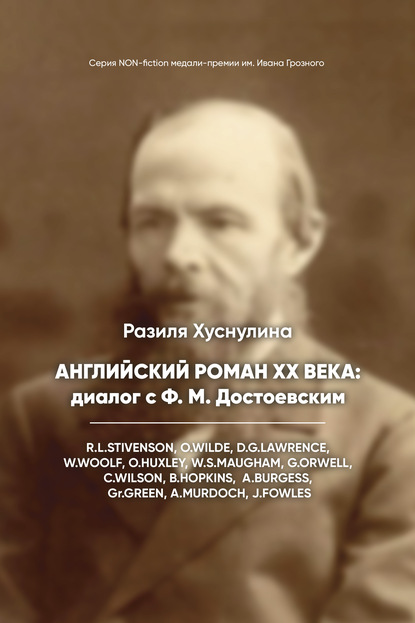Полная версия
Монолог без конца
А проза у Казакова замечательная, прямо бунинская, за что его даже критики – завистники и идиоты вроде В. Бушина – осуждали, распинали даже… Больше тонкую прозу его осуждать было не за что. Только радуйся, что кто-то может так дивно писать, что такое чудо родилось на свет.
* * *Во второй половине 2007 года я выпустила кроме альбома «Художник и Муза» настенный перекидной календарь (печатала в Австрии) с двенадцатью (ибо в году двенадцать месяцев) лучшими Юриными картинами. Как он говорил, «программными», которые в Третьяковке. И ещё напечатала четыре варианта разных иных его календарей и календариков. Какое четыре?! Если иметь в виду и маленькие, вроде игральной карты, то все шесть… В общем, удачный получился год. Если б только не дочкино неудачное замужество, которое душу мучило и буквально слезами выжигало мои глаза. И сердце. Ведь поверить нельзя – зять буквально возил мою Аню на машине в мой Союз писателей, к моему руководству на Никитскую улицу, писать на меня донос. (Я не стала его прописывать на моей площади.) И Аня донос писала. А я потом этот донос читала… Как-то приехала в Союз, как обычно, раз в месяц на заседание нашего бюро прозы. Заскочила к приятелю Володе Гусеву поздороваться, в его председательский кабинет. «Привет…» – «Привет». Поговорили о том о сём. А он вдруг спрашивает: «Ну как там у тебя, Ир, с дочкой дела-то? Разобрались?». Стою оторопело – я о семейных делах никому никогда не рассказывала. «Ну как же! – говорит он. – Она ж сюда приезжала с мужем. Вот на, почитай, что она тут про тебя написала». И, наклонясь к ящику, порывшись там в какой-то папке, протягивает мне листок. Читаю, чуть не теряя сознание. Там, конечно, ни слова о требовании прописки на моей площади моему провинциальному зятю-лимитчику. Вернее, сыну лимитчицы из-под Самары. Ни слова о том, что я давно оплачиваю их квартплату, их благоденствие на стометровой площади моей кооперативной студии в центре Москвы. Зато там ровным дочкиным почерком писано… какая у неё скверная мать и, мол, она, недостойная, выгоняет её, бедную дочку, с малыми детками и её бедным мужем прямо на улицу… Помогите, мол, подействуйте на свою коллегу-писательницу… А Гусев, поглядывая на меня, говорит, усмехаясь: «Она мне тут прямо спектакль устроила. Со слезами. – Он пожимает плечами. – Ну, пришлось напомнить, мол, мы организация творческая и семейными делами не занимаемся. Мол, тридцать седьмой год давно прошёл. – И добавляет: – А молодой муж её сидел там, в коридоре. На диванчике. Ждал терпеливо». Я молча возвращаю листок. «Я хранил, чтоб тебе показать». Он скучно рвёт его пополам и ещё раз пополам. Бросает в мусорную корзину у ног. Конечно, видит мою окаменелую бледность. «Да брось ты, Ирк! Не бери в голову. Сейчас молодые все такие… Испортил их квартирный вопрос. – И бодренько добавляет, чтоб утешить меня: – Я тут по радио один твой рассказ услышал. Ульянов читал. Здорово. Впечатляет».
* * *Зимой 2007/08 г. проводила я и выставки Юрочкиных работ. Ещё сняла документальный фильм о Юре, что было довольно сложно. В объединении «Параджанов-фильм». Назвала его «Я завещаю тебе». Режиссёр был хороший, опытный, давний вгиковец Борис Соломонович Шейнин. Старичок. Он когда-то хорошую ленту сделал о Пикассо. Я им довольна. Сегодня не то что раньше. Быстрее всё. Другое время, другая техника.
* * *Я сама сценарий писала (режиссёрский – тоже). Сама ведущей была, сама руководила молоденьким оператором, сама за рулём всех возила на съёмки. К себе на дачу, на Истру, где чудную нашли натуру. Это ведь чеховско-левитановские места. Потом вместе монтировали. Слава Богу, Борис Соломонович хотя бы мне не мешал. Зато вовремя и регулярно заваривал нам с оператором и чай, и кофе и ходил в ближайший ларёк покупать булочки.
Фильм этот о моём Юре, о его жизни и смерти. Второе название – «Моё Поле Куликово». Когда фильм закончили, я подарила Борису Соломоновичу небольшой Юрин эскиз. Голубые горы Бештау – Пятигорье. Он там, в Пятигорске, ещё до революции встретил свою будущую жену Ирину. Эскиз подписала, оформила под стекло и в дорогую достойную раму. Он и дочка его, киношница Маша Сименцова, и её муж, сценарист Юра Аветиков (тоже вгиковец), были в восторге. На стену повесили у себя в квартире на Тверской…
А жил Боря в доме у Моссовета с видом на памятник Юрию Долгорукому. Недавно его дочь Маша позвонила и говорит: «Здравствуй, Ирина. Знаешь, отца не стало». Долго мы с ней, держа трубки, молчали. Горько. Так горько, что не было слов. Однако прожил дорогой мне друг Борис более девяноста лет… Хотя всегда, всегда жизни мало.
Интересно, где висит теперь и на кого смотрит тот Юрин эскиз, прекрасный пейзаж? Юрино голубое и нежно-зелёное Пятигорье – земная кавказская благодать, которую уже покинули почти все участники данного фрагмента воспоминаний.
* * *В том 2008 году получила я государственную награду – орден «Дружба». От Путина. «За достижения в области искусства и литературы», как написано в паспорте… И личная путинская подпись.
А ещё – я по квоте операцию сделала в Боткинской больнице на суставе ноги у бедра. Так что теперь ноги у меня «железные». И в аэропортах при проверке через магнит надо будет справочку предъявлять. «Баба-яга – костяная нога». Но зато при ходьбе хотя бы нет дикой боли.
Потом я ждала выхода из типографии этого чудо-альбома с массой автографов лучших творцов второй половины XX века, посвятивших свои слова только друзьям, Ракшам – Ире и Юре. За что им земной поклон.
Ну а в общем, думаю, если подвести черту, то сделано за последнее время немало. Особенно если учесть, что никто мне, как всегда, не помогал. Ни деньгами, ни словом, ни делом. Никаких ни друзей, ни детей, ни внуков рядом «и не стояло». Да я и не просила, и не звала. Корячилась, как всегда, сама… И многое успела-таки. С Божьей, конечно, помощью. Слава Тебе, Господи, за всё. Только Тебе, Господи, слава. И за всё.
* * *В связи с наступлением старости, с приходом болезней человек инстинктивно ставит перед собой и в жизни творческой, и в быту совершенно иные задачи, чем прежде. За всем этим мне, писателю, очень интересно и даже необходимо наблюдать… Всё время возникает что-то новенькое. Я стала внимательней следить за этим интересным явлением. Следить за собой. И действительно это любопытно. Уже, например, считаешь удачей быстро пройти из кухни или из кабинета в прихожую, чтоб успеть снять звенящую телефонную трубку. И если успела на три звонка, то – ура…
Или уже не очень торопишься, когда что-то кипит на плите. И нужно срочно выключить газ или снимать чайник. Да и вообще, что касается движений тела – возникают совершенно другие задачи и ощущения.
Например, не покидает сознание дилемма – идти ли куда-то лишний раз в гости либо по делам или не стоит? Может быть, отложить? Например, в поликлинику… или спуститься на лифте к почтовому ящику…
Или же отложить на потом, или совместить с чем-то ещё. То есть являются мысли, которых раньше быть не могло и в помине. Когда ноги двигались машинально, легко и быстро. В общем, с годами наступает иная жизнь. Просто жуть…
Помню, как моя бабушка, живя у меня, в последние годы двигалась по квартире тихо, по стенке и всё медленнее и медленнее. А я удивлялась – почему так происходит… А она, голубка моя, порою твердила банальное: «Ох, старость – не радость». А в своей кожаной сумочке, серой, с щёлкающими шариками замка, берегла связку старинных ключей на колечке от своей антикварной мебели, которая была в их с дедушкой прежней квартире на Яузе. Мебель была добротная, дорогая, изящная. И ключи-ключики были разные. От резных дубовых дверец и дверок, ящиков и ящичков. От буфета, где хранились сладости, от тумбочек с документами, от антикварного письменного стола деда-профессора, от чудо-сундука, на котором я малышкой спала. От всего того, чего давно уже не было, не существовало.
Но я понимала – это были не просто ключи. Не просто разные, красиво-фигурные, блестящие и привычно-родные от многолетнего касания пальцами. Это были ключи от Жизни. От всей её прежней жизни. Ключи от Судьбы. И она, моя дорогая бабушка, в свои старческие годы неосознанно их берегла. Прикрепляла английской булавкой внутри сумочки, к подкладке. Порой проверяла – всё ли на месте. И их звук, их позвякивание её успокаивали. Ей, возможно, казалось: пока ключи на месте – всё в порядке, и прежняя жизнь, и тени тех, кто был рядом с ней, тоже в порядке, и как бы всё ещё продолжается…
А теперь вот я храню на кольце эту связку. Эти старинные, звонкие, на редкость красивые ключи моих предков. Храню эту память. Как эстафету из давнего столетнего прошлого в нынешнее, в котором остались лишь тени былого. А кто, интересно, примет эти Ключи от меня?
* * *Сегодня 20 января 2009 года. Зашёл Олег Арцеулов, кинооператор и кинорежиссёр (внук Айвазовского, да-да, нашего великого художника-мариниста. И в то же время сын прославленного героя-лётчика… На киностудии документальных фильмов (ЦСДФ) он снимал вместе с сыном, оператором Костей, мой первый документальный фильм о Юрочке). И вскоре Олег сказал мне, что в журнале вышла хорошая статья о нашем фильме. Я порадовалась. Посидели, попили кофе… (К слову сказать, этот наш фильм часто крутили по ТВ. Кажется, по «Культуре».)
Озвучивать наш фильм Олег пригласил прекрасного музыканта из Минска Олега Янченко, композитора и органиста, лауреата различных премий и конкурсов. С Олегом мы подружились, и он, гармоничный и ладный мужчина, всегда в шерстяном белом свитере крупной вязки, кареглазый и лысый (что вовсе его не портило), порой приезжал по делам из Минска в Москву. И тогда заходил ко мне в гости. А главное – на коричневом немецком «Циммермане», на любимом моём, всегда хорошо настроенном пианино, мог без конца играть – нет, не Шопена и Листа, а свои собственные дивные импровизации. Эти его импровизы, эта его сию минуту рождённая музыка, льющаяся из души и сердца, из-под пальцев Маэстро, звучала всегда прекрасно. Она рассыпалась по квартире аккордами, как виноградные гроздья. Можно было слушать её без конца. И я слушала. И мои гости, когда бывали, тоже сидели заворожённые. Я жалела лишь об одном – что Олег живёт в Минске и не может почаще радовать нас своим тал антом… На мой взгляд, даже само имя его звучит музыкально – Олег Ян-чен-ко.
Мне хочется подарить это имя всем. Чтобы знали и помнили. Представляю его за органом, вновь и вновь. В консерватории. Королём сразу нескольких клавиатур, хозяином Музыки. Трагично, что Олег рано умер. А небесная его музыка в моём фильме о художнике Юре Ракше – осталась. Украсила фильм и продолжает жить. «Не бывает напрасным прекрасное». И потому талант Олега – тоже бессмертен. А его божественные импровизации продолжают звучать, окружая нашу планету.
* * *Замечаю. Последнее время я стала мало обращать внимание на свои туалеты, на одежду. Выходя из дома, могу взять с полки в прихожей две перчатки разного цвета. Раньше испугалась бы такого, вернулась. А теперь думаю с безразличием: а-а-а, неважно, обойдётся. Они же обе тёмные, ну и ладно. Да и внучка говорит, что теперь такое идиотское разноцветие нормально, что подобное даже модно… Давно не была в парикмахерской, у маникюрши. Это тоже нехорошо. Вот так, шаг за шагом, я и старею, сдаю позиции.
Вот бабушка моя такого поведения не одобрила бы, даже не потерпела бы. Она скончалась в девяносто четыре года в больнице, а пока жила у меня – и за прической следила, и за руками. Всегда с маникюром. И без дела сидеть не могла. Или иголка в руках должна быть, или книга. Вот таков был мой корень, родовой Никольский – крепкий, долгий, благословенный. По материнской линии я знаю четыре предыдущих колена, поколения. Знаю их судьбы, их жизнь. И в войнах, и в мирное время. Храню фото, пожелтевшие, бледные, выцветшие. Прошлого и позапрошлого веков. Род свой чту. Кровь свою знаю ещё с пушкинских времён. Никольские, дорогие мои Никольские. Фамилия-то какая красавица – идёт от Николы Угодника… А уж я-то не то. Совсем не то. Не говоря уже о потомках. Видать, всё на мне и кончится. Род весь. А жаль. Очень жаль. Вот Анечка моя подвела. Скончалась недавно. Аневризма случилась.
Когда-то в юности, в двадцать лет, дочь моя смертельно ошиблась в выборе мужа, а значит, и всей своей и моей судьбы. И поплатилась за это… Рано, конечно, ушла. Рано. В расцвете сил, таланта и красоты… Как верный солдатик на посту, упала прямо у мольберта, заканчивая очередную картину, выронив палитру и кисти. Врачи не смогли спасти. Да и Юрочка, её папа, практически так же у мольберта скончался, дописывая руки княгини Евдокии, будущей монахини Евфросинии (меня Юра выбрал позировать на эту высокую роль) на своём триптихе «Поле Куликово». Правая часть этого грандиозного полотна называется «Проводы ополчения». По сюжету, княгиня и жёны воинов у белокаменных стен Москвы провожают ополчение, уходящее под предводительством князя Димитрия (названного после победы Донским) на бой. Шагают ряды ратников – на Куликово поле. Провожают их с плачем, в горе, но и с надеждой. Провожают на смерть и бессмертие. «А княгиня не может плакать, – говорил художник своему духовнику, приходившему к нам в мастерскую архимандриту отцу Иннокентию (Просвернину). – Глаза у неё сухи. Она уже выплакала своё. Она должна быть мужественна. На неё люди смотрят». Я слушала и понимала. Это Юра о нас, обо мне. В этот год он умирал от лейкоза, от рака крови. Уже знал обо всём. И потому спешил работать. Очень спешил. Из последних таявших сил. И скончался с кистью в руке. Но УСПЕЛ. Дописал. Победил. И ныне триптих давно уже в Третьяковке.
* * *Когда должны прийти гости или надо ехать в Союз писателей на заседание бюро прозы либо куда-то в редакцию, я, конечно, стараюсь выглядеть, как всегда, комильфо. Только вот времени на сборы теперь приходится тратить всё больше и больше. А скоро, наверно, вообще выезжать перестану. Теперь всё чаще людей принимаю дома. В гостиной, за журнальным столом. Там нарядно, конечно, поскольку всюду Юрочкины картины по стенам. Они всех словно бы обнимают мощной своей энергетикой, своим теплом и любовью. А на столе, как теперь говорят, – «поляна».
Вернее, «полянка» – фрукты, какие нашлись в холодильнике, конфеты и сок. Теперь я горячий чай или кофе из кухни в гостиную не таскаю. Боюсь пролить, ошпариться. С ногами не очень лажу. Так что гостей пою только соком. И всем так советую.
* * *Вижу всё хуже и хуже. У меня глаукома. Раньше я и слова такого не слышала. Не слышала слов «лейкоз», «аневризма», «глаукома». Всё это было всегда так далеко, как за горизонтом. И было уж никак не со мной. Но вот всё это упало, свалилось именно мне на голову. Заставило познать, испытать и это самое жуткое. И попытаться бороться, сопротивляться… Сейчас, например, смотрю на мир, так сказать, в полтора глаза. Хотя внешне это и незаметно. Однако думаю, что кому-то бывает и хуже. И надо готовиться к слепоте. Вот когда грянет ужас-то! Однако всё, всё по грехам нашим. Страшно, аж жуть. Но тут же думаю: ничего, надо и об этом думать. И готовиться. Правда, я «девушка» отчаянная, хоть уже и побитая молью. Этим летом и с одним глазом я ездила за рулём на Истру, на свою дачу, в свою любимую бревенчатую избу. Правда, ехала очень спокойненько и только в правом ряду. Теперь уж давно не гоняю, как раньше бывало. Отгоняла уже. На «жигулях» до Коктебеля доезжала с одной ночёвкой. Под Харьковом в кемпинге.
Иногда дома экспериментирую. Закрываю глаз зрячий и пытаюсь ходить по квартире в кромешной, тьме. Так сказать, репетирую своё будущее. Натыкаюсь, конечно, на всё. И противно, и жутко становится… Но задаюсь тут же вопросом. А как же слепые-то люди живут? И раньше, и теперь. Они ведь просто герои. В нашей Думе есть один депутат. Слепой полностью. И умница. Не комплексует. Даже по ТВ выступает… Но всё в руках Божьих. Может, и мне Господь, пожалев пишущую работягу, плюнет в глаза, как плюнул библейскому слепцу, который тотчас прозрел. Просить надо, просить. И молиться, почаще молиться. Ведь в Писании сказано: «Стучите, и отверзется вам».
* * *Может, я отвратительная расистка или даже шовинистка? Не знаю, не знаю. Но практически всегда отключаю экран ТВ, если вижу, что затевается какой-нибудь американский фильм, да к тому же с актёрами-неграми. Не могу смотреть на них, становится неинтересно. Сразу переключаю канал. Не хочу время тратить на чуждое. А ведь в детстве, помню, так плакала, просто рыдала над книгой «Хижина дяди Тома». Над судьбой бедных негров-рабов в Америке. А теперь и негры не те, и тем более не та Америка. И проблемы совсем другие. Да и я уже не та.
За жизнь весь мир объездила, исколесила, кроме этих Американских Штатов. А предложи мне сейчас туда бесплатно слетать – сразу бы отказалась. Без сожаления.
Наверно, это плохо, Господь ведь сказал – все равны. Для Него нет ни эллина, ни иудея. Равны-то равны, но просто стало как-то неинтересно. Душа отторгает чужое. Так много проблем в жизни собственной Родины (и ныне, и в прошлом), что на западных иноземцев уже не хватает ни времени, ни энергии, ни душевных сил. Разобраться бы со своим.
* * *Когда я сегодня слышу в СМИ о том, что творится в мире, точней, на планете: о неминуемых и уже наступивших кризисах, катастрофах, войнах и революциях, об изменении климата и магнитных полей, об остывании Гольфстрима и сдвигах глубин океанов, о новом наклоне земной оси, – я начинаю особенно остро, даже до нервной дрожи осознавать всё людское ничтожество, людскую жалкость и малость, беспомощность перед лицом Космоса, лицом Бога, перед Концом Света. И всё, что со школьных лет поселилось в сознании: человек – Герой, Хозяин природы и Победитель вселенной, – ныне рассыпалось в прах…
Мы просто крупицы на теле Земли. А уж конкретно мы-то, писатели, и те, кто занимается литературой, искусством, мы все вместе с проблемами нашими – просто НИЧТО, мельче песка, микробы в сравнении с глобальными проблемами. С космосом, например, и угрозой падения метеорита. Или с вопросами революций и войн, которые буквально сию минуту идут на планете… И вот когда начинаешь об этом думать, особенно когда пишешь какой-то свой текст, и мучительно ищешь единственно нужное слово, какой-то эпитет, нюанс, и, найдя его, радуешься – и вдруг в тот же момент в СМИ слышишь о войне, теракте или очередной катастрофе… И вдруг остро осознаёшь, хоть плачь, насколько наш мир смертен, а труд твой – ничтожен. И никогда никому не будет нужен. Поскольку уже никого не будет вокруг. А может не быть и самой планеты Земля…
И вспоминаешь слова Тургенева: «Как не впасть в отчаяние при виде всего того, что совершается дома…». И ужасаешься – Боже, ну зачем Ты покинул меня? Зачем я что-то пишу, работаю? И вообще, для чего поливать цветы, мыть пол, строить дома? Для чего всё это? Если где-то одно нажатие чёрной кнопки чьей-то безумной рукой – и всё исчезает. Ты даже осознать не успеешь, что это за огневая вспышка поднялась за окном… Но тут же за этой мыслью приходит другая. Горячий протест!.. Нет и нет! Быть такого не может! Быть не должно. Сказал же Господь… Ясно ведь повелел: «Неси свой крест и веруй». И делай то, что положено. Делай упорно, прямо, не отступая… И да будет Воля Господня…
Но тут же, ответно, опять другое летит. Всё это так, всё так. Но ведь некогда в японском городе Хиросиме кто-то, наверно, думал вот так же. И вдруг атомный гриб поднялся над ним, над городом… И снова становится жутко от собственного бессилия. От осознания конечности мироздания, которое вдруг поглотит тебя. И снова твоя рукопись на столе кажется смешной до нелепости. И цветок на подоконнике, и деревья в лесу, и вообще всё-всё на планете. Конечно, и страшно. Страшно. Но потом. Потом что-то всё же тебя успокаивает. Ты всё-таки не один в муравейнике. И уйдёшь не один. А за компанию с теми, кто и мудрей, и ценнее тебя…
И, может быть, тут слышишь лёгкую музыку. Моцарта, мажорного, светлого Моцарта. Радость его души и надежду. Или услышишь нужный звонок по телефону. И замираешь… И начинаешь медленно, очень медленно возвращаться к себе. Осознаёшь: а пока жить всё-таки надо. Жить придётся. Раз уж Бог поселил тебя тут и в это время. «Ты – вечности заложник. ⁄ У времени в плену». Бог дал еду, дал тебе воздух и воду. Дал посох в дорогу!.. Значит, зачем-то ты всё-таки нужен. К чему-то пригоден. Так что, изволь, голубчик, дыши, пей и пой. И вообще – шевелись. Думай, двигайся! То есть: «Неси свой Крест и веруй»…
Недавно хорошую песню услышала:
«Берега, берега. Берег этот и тот. ⁄ Между ними река моей жизни течёт. ⁄ От рожденья течёт и до тризны…».

Нефертити
Кто выше?
В моих блокнотах – сюжеты, заметки, рисунки. Хочешь видеть? Читай.
1. Помню, эта картина, не очень большая, в глянцевой старинной раме цвета топлёного молока всегда висела у нас над пианино. На ней, очень милой, – чудо-собака и крошка-девочка. В доме эта картина была постоянной и главной. И у прабабушки Марии висела, потом у бабушки Зины на Таганке, потом у моей мамы в Останкино (бабушка ей подарила) и вот теперь у меня. И называлась она – однотонная, сентиментально-сладкая, очень «мимимишная» – коротко: «Кто выше?». По стенам среди современных картин моего мужа-художника, среди его мощных живописных портретов, сочных пейзажей и графики, она была явно нездешней, случайной, как из другой жизни. И правда, по рождению она была из жизни другой. Представьте себе, американской. (Как гласила мелкая-мелкая подпись понизу латиницей – кудрявым, вычурным шрифтом.) Это была монотипия, почти фото, цвета коричневой сепии. Мне неизвестно, как в девятнадцатом веке ОНА попала к прабабушке и прадеду-хирургу, участнику балканских войн Никольскому Иван-Никанорычу.
Её бытие у нас было настолько привычно и в комнате неотъемлемо, как воздух, как потолок или пол, как мебель, что она просто не замечалась. К тому же несколько лет назад, чтоб она не выцветала от косых ползучих лучей солнца из окон, я накинула на неё свой серый шарф из тонкого шёлка. Но недавно мой чёрный любимый кот Васька, «дворянин» (бывший дворовый), гоняясь по гостиной за кошкой Дымкой, своей подружкой, тоже «дворянкой» (в гостиную я обычно их не пускаю, чтоб мебель не драли), сорвал этот шёлковый шарф и даже повредил угол рамы. И тогда я сняла её, пропылённую, и решила наконец обновить, оживить. Сменить толстое стекло на лёгкий пластик. В общем, подреставрировать.
А пока стоит она, моя дорогая, на полу, «Кто выше?». И молчаливо, трепетно ждёт от меня взаимности. А кто всё-таки на ней выше? Кто ответит? О чём и в чём тут сюжет?
Я сижу в кресле напротив. И впервые за многие лета пристально разглядываю её. Как увиденную впервые, только что встреченную. И почему-то волнуюсь, как на первом свидании. Представляю, сколько она, бедная, претерпела всего за полтора века. Насмотрелась, наслушалась. От «Боже, царя храни» до «Мы жертвою пали в борьбе роковой…». От «Вставай, проклятьем заклеймённый…» до «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой тёмною, с проклятою ордой!..». А сегодня, уже в двадцать первом веке, дожила до новомодного дурацкого рэпа, непонятного, народом не принятого.
Сколько жарких событий, революций и войн пронеслось перед ней! Сколько сотен, тысяч людей она видала! Сколько встретила взглядов и глаз! Сколько слышала голосов! И моих близких людей, родных по крови, но незнакомых. Да и вовсе чужих, посторонних. Сколько слышала разговоров, тихих тайных речей и громкой гневной ругани. И признаний, конечно, любовного шёпота, вздохов и поцелуев. А ещё за окном бывало – курлыканье милых птиц, но и выстрелы, крики, грозный топот копыт, ржание, дробный стук сапог по булыжнику мостовой. И слушала, конечно, победные марши духовых оркестров, сиявших трубами. А ещё резкий стук в дверь – советских органов: «Откройте! Обыск». Но позже, потом, конечно, звук клавиш нашего пианино под тонкими пальцами моей милой мамы. Звуки чудо-мелодий Моцарта, Грига и её голоса… Голоса слёзных сладких романсов и пришедших на смену послевоенных песен. «Любимый город может спать спокойно. И видеть сны, и зеленеть среди весны».
Прикрыв веки перед картиной, я опускаю взгляд. Размышляю, сидя в тиши квартиры. Слышу, как мерно капает в кухне вода… Господи, сколько всего на земле случилось за эти полтора века? Под хлёст дождей в стёкла окон, под свист снежной метели? Но всё же кто, кто на этой картине выше? И что хотел сказать нам безымянный автор?
На первый взгляд, сюжет очень прост, незатейлив. Я вздыхаю и мысленно осторожно вхожу в белую раму картины, как в открытую дверь. Внутрь, в сумрак просторной неведомой комнаты. Вижу край незастеленной старомодной койки на колёсиках из фарфора, чтоб удобней было возить больного по комнате. (Видно, здесь кто-то болел. Или умер?) И возле кровати вижу двоих. Это большая собака породы сенбернар. (Или московская сторожевая, всегда спасающая людей?) А рядом её маленькая хозяйка, мимимишная кроха – девочка в кудряшках и бантиках, в светлом нарядном платьице. Собака бела и добра, как все большие собаки. Она послушно сидит у кровати, а девочка рядом, вплотную стоит к ней спиной, закинув головку, а ножками в туфельках упираясь в толстый растрёпанный книжный том (Уж не Библия ли? Кладезь вечных мудростей Божьих, кем-то читаных-перечитанных?) и меряется с собакой ростом. Кто выше? Пока собака гораздо выше. Чудесная морда, доверчивый умный взгляд.