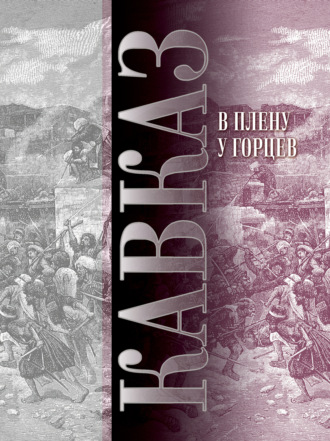
Полная версия
Кавказ. Выпуск XIII. В плену у горцев
Далее черкесы с пленными переправились через реку Кубань и поехали вверх по Большому Зеленчуку до Каменного моста, против которого, свернув в лес, злодеи остановились на дневку. Тут с полудня черкесы разъехались на две дороги и из всех пленных товарищей одного северненского повезли влево, а меня, Рыженкова, Савенкова и одного северненского – вправо. Повезли нас через гору в верховья реки Уруп и темным вечером наступающей другой ночи проехали какой-то татарский аул, около которого остановились. Из этого аула принесли большой казан какого-то вареного кушанья и дали нам, пленным, по большой чашке. После этого переехали еще две большие речки. Эти дни были пятница и суббота. В субботу Рыженкова увезли прочь от нас, а меня, Савенкова и одного северненского на другой день – в воскресенье – разобрали по хозяевам.
Черкесы во всю дорогу везли нас верхами на неоседланных лошадях с такой скоростью, где как было возможно.
Меня взял один небогатый черкес, у которого я пробыл одну неделю, но всю эту неделю никак не мог ходить от побоев, полученных от верховой езды на неоседланной лошади. Привели ко мне толмача, начали лечить побои и мазать маслом ссадины, и, когда я немного поправился, хозяин мой повел меня вязать просо. Работу эту я выполнял хорошо, потому что приходилось исполнять эту работу и дома, и в плену она мне была уже знакома, и хозяин мой и другие удивлялись моему уменью. На другой день хозяин возвратился из какой-то недалекой отлучки и с ним приехали два татарина, которым первый мой хозяин продал меня, не знаю за какую цену, и эти новые хозяева мои везли меня в глубь лесов еще три дня, и там у них я прожил месяца два по речке Псыкоба. В это самое время в Закубанских горах-трущобах находился в походе главный отряд русского войска, главнокомандующим которого был генерал Вельяминов.
Черкесы, мои хозяева, из опасения попасть в руки русского войска, увезли меня дальше в горы. Туда откуда-то явился турок и купил меня у черкесов за 400 рублей и вез в глушь еще три дня. Местность, куда завез меня бесчеловечный злодей-турок, та, где теперь недалеко находится город Новороссийск.
У турка я пробыл до весны 1831 года и был продан им за 400 рублей на речку Абинь черкесам, у которых я пробыл месяца полтора, и ими был продан армянину, занимавшемуся выкупом пленных, который меня и вывез на Божий свет, и я очутился снова у своих родителей, оплакивавших потерю своего сына.
Освобождение меня из плена произошло с августа 1831 года, в день двунадесятого праздника Преображения Господня, торжественно празднуемого Святой Православной церковью.
Об обстоятельствах моего освобождения из плена я упомяну ниже хотя бы вкратце, а теперь скажу несколько слов о своем житье-бытье у моих горских хозяев.
У трех моих хозяев-черкесов, кроме поганого турка и армянина, я исполнял все работы, какие только были поручаемы ими: пас рогатый скот, овец, коз, работал в поле, косил, копал, рубил дрова и таскал на себе в аул к саклям своих хозяев; одним словом, черкесы заставляли меня делать такие дела, какие не под силу и 18–20-летнему татарину. Черкесы не верили, что мне только 14-й год, а видя рост мой, назначали для меня всякие работы. Правда, я, хотя и молодой был, но рост имел большой, стройный, плечистый и какой имеют только 17–18-летние, по этой причине и подвергался самым тяжелым работам. Присмотра за мной из опасения побега черкесы не держали, убедившись, что я один пленник и к тому же нахожусь в таких трущобах, по которым они и сами с трудом пробираются.
Обращались со мной мои хозяева, повторяю, кроме поганого изверга-турка, не очень жестоко, и на такое обращение их со мной всегда влияла моя им покорность во всем, честность и аккуратное выполнение возлагаемых на меня поручений, поэтому они не могли уже изливать на меня природные им зверства, которые у них от рождения имеются, но зато я почти ежедневно терпел, можно сказать, мучения от хозяйских рабов-крестьян (хозяева мои, кроме одного небогатого, имели по нескольку человек рабов, или крестьян, а сами над ними считались как бы помещики). От этих хозяйских помещичьих рабов-крестьян я много набрался горя и мучений: хозяева мои прямо обличают своих рабов в бездействии, лености, нерадении, недобросовестности и прочих по хозяйству упущениях и, указывая на меня, говорят все:
– Вот пленник, совсем чужой, а на него можно положиться и довериться во всем, а вы, собственные рабы, служите только во вред хозяину.
И поэтому крестьянам-рабам доставалось так от их господ. Такой укор со стороны моих хозяев всегда был причиной негодования и притеснения меня со стороны их рабов-крестьян: они-то больше, что хотели, то и делали со мной, били чем попало, заставляли нести такую ношу, с которой им, гололобым, и двум не справиться. Кроме этих изнурений и истязаний со стороны хозяйских рабов много мне пришлось претерпеть и от хозяйских детей, которые вздумают, бывало, покататься, насадятся мне на спину, сколько мои силы могут удержать, и приказывают везти их вброд на другую сторону речки и обратно. Что делать – пожалеть и заступиться некому, надо везти – и везешь. Глаза на лоб лезут и ослушаться нельзя, а если когда и случается ослушание поневоле, то сейчас же получаю незаслуженную награду – колотушки чем попало и по чему попало без числа; и за эти катанья на невольнике, и за побои они остаются безнаказанны со стороны своих старших.
Во все время нахождения в плену у закубанских горских черкесов обмундировка, или повседневная одежда моя, состояла: толстого сукна черкеска рваная, до колен и до локтей обтрепанная, в зимнее время – из лохматых овчин шуба, полная паразитов, вся рваная, на ногах рваные чевяки или больше без них, ноги обворачивались в чевяках, когда они были, или самой негодной тряпкой, или клочком сена, но больше приходилось быть совсем разутым, а наготове лохматая, вонючая, порванная и со множеством паразитов шапка. Летняя одежда моя состояла из клочка тряпки – воротника на шее, то есть рубахи большей частью без рукавов, и штанов, заключающихся только в одном учкуре[1], и тот с паразитами. Поистине скажу, что все время нахождения моего в плену зимой я был почти раздет и разут, и даже более чем почти, а летом совершенно голый, имея лишь на шее клочок грязного воротника и на чреслах учкур. Зимой от морозов и стужи ноги мои с большими болезненными наростами на подошвах трескались, испуская кровь, как подстреленное животное, а летом незажившие раны прели, причиняя нестерпимую боль. В такой одежде мне приходилось ежедневно работать и зимой и летом. Провидение Божье сохранило мое здоровье, и я остался жив.
Турка, у которого я пробыл до весны 1831 года, поганым я называю потому, что он, помимо всех оказанных мне жестокостей своих, излитых на меня, несчастного невольника, дерзнул окаянный силой дважды осквернить меня мужеложеством. Ужасом и страхом обдает при воспоминании об этом ужасном преступлении, сделанном надо мной турком. Теперь я одно только прошу: да простит мне Господь Бог мой за то преступление, которое учинено турком силой и под угрозами, помимо моей воли. Причем в этом случае я прихожу к тому убеждению, что без попущения Божьего и волос с головы не спадает, так и в этом случае было, памятуя притом, что ведь Бог же попустил черкесам взять меня в плен, Он же и исторгнул меня из рук нечестивых и вручил в родную семью.
Находясь в плену у последних моих хозяев, я подыскивал случай к выходу из плена, о чем просил своих хозяев, и те обещали продать меня, указывая на армянина, а родитель мой, со своей стороны, хлопотал и узнал от переводчика Антонова, что вывести меня может разве армянин, которого он нашел в станице Прочноокопской. Не знаю, как все это происходило, только последний мой хозяин-армянин, купивший меня у черкесов, привез меня в станицу Прочноокопскую Кубанской области и сдал меня моему отцу, получив от него за это 300 рублей.
Какая была радость моих родителей, когда я был уже в их объятиях, в их доме, я не стану рассказывать, потому что всякий, утерявший какую-либо вещь, или у кого что-нибудь бывает похищено, а потом возвращается, приходит в великую радость и восхищение; тем более радость должна быть неописуемая, когда родители, лишившиеся сына и не думавшие более видеть его, а равно не зная, жив ли он или умер, вдруг принимают его под свой кров, то есть сына, которого зверски отняли у них варвары.
Когда я был дома у своих родителей, то было известно, что вместе со мной взятые в плен два северненских крестьянина освободились из плена через год или менее после того, как были взяты, а сергиевский Тимофей Савенков из плена освободился только через два с лишним года после моего освобождения, так что Савенков в плену у черкесов был более трех лет. Что же касается до товарища моего Степана Рыженкова, то о нем не было слышно до 1864 года: он со дня взятия в плен и до сказанного года находился у закубанских трущобных обитателей – черкесов.
В 1861 году вышел из плена, как говорили тогда, обменом, Степан Рыженков, и я был потребован начальством для признания его, так как вышедший пленник Рыженков для подтверждения своей личности сослался на меня, как вместе с ним взятого в плен, и когда предъявили его мне, я совсем не признал в нем того Рыженкова, который был взят вместе со мной. На следствии, производимом военным офицером С. М. Захарьиным, пленник этот сознался, что он не Рыженков, а уроженец Киевской губернии, был принят на службу и с рекрутства ушел в горы к черкесам, а находясь там, сошелся с действительным пленником Степаном Рыженковым и, узнав от него, что он пленник, расспросил у него о месте его родины, времени взятия в плен, с кем и прочее и, будучи хотя малограмотен, записал всю откровенность пленника, а затем удостоился и выйти из плена под именем Степана Рыженкова.
Этого мнимого пленника Рыженкова я не признал за действительного по двум причинам: во-первых, потому, что он нисколько не похож на природу Рыженковых, а во-вторых, потому, что он, пробыв столько лет в плену, почти не умел говорить по-черкесски, тогда как я, пробыв в плену только около года, с 24 сентября 1830-го по 6 августа 1831 года, хорошо говорил по-черкесски. Последнее то обстоятельство и послужило нитью к раскрытию, что он за человек.
В 1864 году явился новый пленник Рыженков, и я вновь был потребован для опознания, и когда пленник был предъявлен, то я без труда узнал в нем того действительного пленника Степана Михайловича Рыженкова, который вместе со мной и другими был взят черкесами в плен перед вечером в среду 24 сентября 1830 года.
Во все время нахождения моего в плену гораздо больше было прискорбных приключений и невзгод со мной против тех, которые мной описаны, но я их не могу теперь все вспомнить, а вкратце записал только то, что не забыл[2].
1 августа 1900 годаКофанов М. [Х. Кофанов]. В плену у горцев в 1830 и 1831 годах // Труды Ставропольской ученой архивной комиссии. Ставрополь, 1914. Вып. 6. С. 3–11.
Черноморский казак
Лев Екельн. Из записок русского, бывшего в плену у черкесов
Лев Филиппович Екельн – помимо «Из записок русского, бывшего в плену у черкесов», является также автором литературного произведения «Джекнат и Бока. Чеченская повесть» (Отечественные Записки. 1843. Т. 31. № 11).
Л. Ф. Екельн – дежурный штаб-офицер штаба Отдельного Оренбургского корпуса, майор, «состоящий по кавалерии». В Оренбурге был дружен с А. Н. Плещеевым, который ценил его душевные качества. Тесные отношения с Екельном поддерживали другие опальные.
Вот что можно почерпнуть о нем в Интернете: «…Его положение позволяло ему влиять на судьбу Шевченко, и мы возлагали на него надежду», – писал впоследствии Б. Залеский, характеризуя Екельна как «доброго человека». Шевченко узнал о Екельне от Залеского, вероятно, не ранее 1853 года. «Еще раз благодарю тебя за копию „Монаха“ и – я тебе как Богу верю – ежели Лев Филиппович такой человек, как ты говоришь, то и ты, и он скоро увидите и Актау и Каратау, ежели не красками, то по крайней мере сепию». Речь идет о рисунках Шевченко, которые он, в силу царского приговора, мог делать лишь тайком; отсюда понятно, как характеризовал Залеский одного из близких помощников генерал-губернатора.
В 1854 году Екельн был отчислен от должности дежурного штаб-офицера и назначен исполняющим обязанности члена Омской полевой провиантской комиссии.
Путь от аула Чишки до аула Доч-Морзей[3]Из Чишек до Доч-Морзей две дороги: одна идет по горам и утесам, образующим славное Аргунское ущелье, другая – по руслу реки. Газий (князь) выбрал последнюю, сотворив обычную полуденную молитву; князю и его мюридам подвели коней, меня посадили на круп лошади какого-то чеченца. Авангард тронулся; за ним, в 60 шагах, вновь пожалованный начальник (после смерти славного Эрс-мирзы Шамиль, голова бунтующих горцев, назначил на место его Газия, мюрида и соотечественника своего, начальником следующих аулов: Чишки, Доч-Морзей, Улус-Керты, Исмаил-Ирвей, Войхёнах и Муссейнюрт), имея по бокам в пяти или десяти шагах по нескольку человек наездников; наконец арьергард. Толпа народу проводила князя, осыпая желаниями здоровья и успехов. Выехав из аула, мы повернули налево, к берегам вольного Аргуна. Последний раз простился я взорами с Чишками, памятными зверским обращением со мной Голегы и жестокой болезнью. Аул с высокими пирамидами кукурузы медленно тонул в осеннем тумане. Прощай!
Дорога, дойдя до леса, вдруг поворачивает направо и сбегает к ложу реки, обставленная высокими дубами и вязами; кони, фыркая, медленно, нога за ногу, ступали по глинистой почве, размоченной дождями, и грудью бросались в волны Аргуна, катившего воды свои у самого спуска. Вот мы в ущелье: гигантские скалы, увитые вековыми дубравами, обступили бешеную реку; над головой клочок прекрасного голубого неба: направо и налево громадные выси; под ногами волны да волны…
Шагом ехали мы то по руслу Аргуна, то по тропинке, бежавшей около берегов его. Князь запел любимый гимн мухаммедан «Ла иллях иль Аллах»; мюриды хором подхватили последние звуки песни, и вызванное эхо следом откликнулось какой-то дикой, мрачной гармонией и далеко, далеко понесло печальные напевы свои…
Грустно стало мне; казалось, чем дальше отодвигался я от родного края, тем дальше улетала надежда когда-нибудь снова увидеть его. Будущность, прежде столь светлая и радужная, исчезла, как звук. Недавно писал я на родину; ответа еще не было, и невольная мысль, что поприще столь благородное я должен кончить рабом презренного и гнусного лезгина, умереть в цепях, не оплаканный слезой ни друга, ни христианина, убить в железах мою молодость и потом умирать долго, медленно, обремененным кандалами и напутствуемым проклятиями или насмешками врагов Бога и моего Отечества… Из чьих глаз эти думы не вызвали бы слезы душевного страдания?..
С час ехали мы; природа все та же: не увидишь луча солнечного; все выси, да скалы, да горы, да леса дремучие.
– Скоро ли? – спросил я у своего спутника.
– Да вот, – отвечал чеченец, указывая плетью: – поднимемся на бугор, а оттуда недалеко.
Мы въехали на маленькую горку. Широкая и длинная поляна лежала перед нами; солнце садилось; князь приказал остановиться; мы слезли; начальнику поднесли медный таз и глиняный кувшинчик для омовения; лошадей спутали; мне приказали сесть; правоверные собрались прочесть молитву перед закатом. Впереди, на маленьком пестром коврике, сам князь; за ним, на разостланных бурках, мюриды его; каждый шепчет про себя слова намаза; один Газий звучным и громким голосом полупоет: «Бисмиль ля и эльхиндо». Лица, за минуту полные отваги и дерзости, сменились выражением какой-то важности и смирения; взоры опущены долу, руки сложены на пояснице; лучи солнца, пробившись сквозь ветви деревьев и далеко обливая поляну, играли на белых, чистых чалмах мюридов чудным розовым светом; дорогие насечки на ружьях, кинжалах и шашках словно горели; недалеко связанный русский; там кони, понурившие головы… Так торжественно тихо! Ни ветер не колыхнет, ни птица не взовьется; только звучный лепет молитвы да говор волны…
«Аттаге и ата» кончена, и вот мы опять на диньях. До ночлега оставалось версты три; место ровно, хоть шаром покати. Выхватив пистолеты и ружья, мюриды словно птицы понеслись по полю, сверкали, гремя выстрелами. Каждый хотел блеснуть перед новым начальником, и долго джигитовали бы барколлы (удальцы, бодрые, смелые), если бы не аул, который вдруг вышел из-за леса. Мгновенно все собрались вокруг князя. Проехав еще с полчаса, отрядец наш остановился в виду Доч-Морзей. Множество домов, аккуратно выбеленных, разбросанных без всякой симметрии по широкому полю. С южной и западной стороны Доч-Морзей опоясан густым и непроходимым бором; с восточной он примыкает к Аргуну; жители его – беглецы атагинские: после набега Ермолова на столицу Чечни, славную и богатую Атагу, все, что было истого мечиковского, бросилось в ущелье и образовало аулы самых буйных и смелых разбойников…
Князь, по обычаю истинного мухаммеданина, выжидал, чтоб кто-нибудь пригласил нас под кровлю. Вот летит знакомец мой, хитрый Чими.
– Салам алейкум!
– Алейкум салам, – ответили хором.
Пошли приветствия.
– А, а! Леон, хё вун окуз? Марша ла илла я дела! (А, а! Леон, ты здесь? Прошу Бога, чтоб здоровье шло к тебе!)
Я поблагодарил; мы тронулись. Все, что было живого и разумного в ауле, все встретило нас. Салам и приветствия градом летели со всех сторон. С этой-то свитой мы торжественно въехали во двор Эм-мирзы, отца Чими.
Как и везде, меня мгновенно окружили; десятки рук протянулись к полам сюртука, ощупывая сукно; фуражка ходила из рук в руки, возбуждая смех и брань. Как и везде, народ, удовлетворив первое любопытство, начал ругать христиан, русских и меня в особенности. Я попросил человека, приставленного ко мне, развязать мне руки (когда мы отправлялись, локти мои туго перетянуты были кожаным ремнем) и спрятать меня куда-нибудь от безотвязных. Мюрид отправился к князю испрашивать позволения; через минуту явился он, неся кандалы; меня посадили, и не прошло мгновения, как бедные ноги мои были скованы. Кто был поближе, со смехом спрашивал:
– Якши? Дикен-дюи? Эй, давелла гаккец! Эй, джалиа, джалиа! (Якши – по-татарски, хорошо; дикен-дюи – по-чеченски, то же; давелла гаккец – твой отец ест свинью, или просто «ты свиноедов сын»; джалиа – собака.) Надо было поскорее уходить; иначе слова превратились бы в угрозы более действительные, а я должен был молчать и, как вещь бездушная, не чувствовать, не мыслить. Меня ввели в высокую и просторную саклю. В стене вделан камин; яркое пламя разведенного огня обливало светом трех чеченок, варивших баранину, и, играя на стволах ружей и пистолетов, на клинках шашек и кинжалов, терялось в углах комнаты.
При входе нашем чеченки поднялись.
– Возьми его! – говорил мой мюрид, сдавая с рук на руки какой-то старушке, сгорбленной тяжелыми 50 годами: – Посади его куда-нибудь да посмотри за ним; мне надобно идти.
Добрая старушка усадила меня подле самого огня на мягкой кожаной подушке. Я поблагодарил ее как умел. Вероятно, хозяйка приняла участие во мне, потому что продолжала, указывая пальцем на котел с лакомой бараниной:
– Якши? Твоя коп кушай будет!
Я не говорил вам, что переезд мой из Чишек в Доч-Морзей был в последних числах осени. Единственная рубашка, бывшая на мне, давно сгнила; сапоги, носки и исподнее платье снял с меня Эрс-мирза, начальник отряда Гихинского леса, когда, отуманенный сильной потерей крови и оглушенный ударом в голову, я без памяти с карабахца моего упал в ряды неприятеля. Теперь в сюртуке, босой и в шароварах, истертых цепями, в холодный осенний день – судите сами, сколько я обрадовался теплому огню…
Отогревшись, я начал рассматривать новых знакомок моих: первая, как я и сказал, старушка лет 50; подле женщина лет 28; следы давней красоты, несколько едва-едва заметных морщинок, средний рост, темные волосы, такие же глаза, приятное выражение лица – вот вам невестка Эль-мирзы, сиречь жена Чими; но когда взор мой упал на третью собеседницу… Много слышал я на Руси о красоте черкешенок и чеченок; пять месяцев, проведенных уже между мечиковцами, громко говорили противное. Раз как-то случилось мне видеть в исторических Гирстях что-то подобное «идеалу», но и тот имел слишком длинный нос, и я, твердо убежденный не в красоте, а едва ли не в безобразии чеченок, перестал искать «воровок покоя» между дикарками; но теперь… На голову ее наброшена белая кисейная чалма, из-под которой два черных-черных локона выбежали по розовым щекам красавицы; большие темно-карие глаза сверкали то умом, то чувством; уста, казалось, отворены были для жарких лобзаний; длинные ресницы порою закрывали очи Биги от страстных взоров коварного сына; казалось, не нагляделся бы на эти очи, не оторвался бы от этих уст… Жизнью своей я жертвовал бы за один поцелуй твой, милая, добрая Биги! И что значила мне жизнь моя, обремененная цепями и горем!.. Красная шелковая, чрезвычайно широкая блуза, отороченная от самой шеи до пояса широким галуном, падала до самых ног, обутых в крошечные «мяксины»; светло-голубой архалук, унизанный застежками и рядами желудей из серебра, под чернью прекрасной работы стягивал стан Биги, стройный и гибкий словно стебель «дзеззы»; полосатые лилово-черные шаровары связывались внизу серебряным шнурком с маленькими кистями; на обеих руках большие браслеты; маленькие серьги, кольца с висячими шариками, несколько рядов цепочек, лежавших на груди (все серебряное. Прошу читателя верить, что все, мной рассказываемое, – святая правда. Тут нет ни малейшей выдумки; ручаюсь в этом моим честным словом. Лица, выведенные мной, носят точно принадлежащие им имена; все они живы), – вот как и вот в каком наряде я увидел в первый раз девушку, которая впоследствии играла такую важную роль в моем плену.
Если редактор «Отечественных записок» согласится, я пришлю ему подробную повесть моей жизни, как жизни пленника[4].
Если кого-нибудь из вас судьба приведет быть в Грозной, спросите там о Биги, дочери известного купца Инжен-Исы, и всякий даст вам один ответ:
– Хороши гурии пророка, да! – и, махнув рукой, прибавит: – Что грешить!
Не буду говорить, чем и как угощал Эль-мирза своих гостей, – об этом после когда-нибудь.
Муэдзин давно прокричал «Аллах экпер», и мюриды начали расходиться по саклям на ночлег; пора и мне прилечь; я встал, помолился Богу и кликнул своего сторожа. Мне постлали рогожку и в голову дали дырявый войлок; вот и цепи; гремя и звеня, упали железа на нищенское ложе мое; левую ногу приковали к стене; на шею – огромный ошейник и, пропустив через стену цепь его, укрепили с надворья толстым ломом. К чему не привыкает животное-человек?.. Сначала один звук кандалов поднимал волос дыбом и ручьем гнал слезы из глаз; прошло время, и я равнодушно смотрел на обычные украшения…
– Спи, собака!
– Засну.
Через пять минут я спал.
Необыкновенный шум разбудил меня гораздо до света; отворив маленькое окошко, я увидел какое-то особенное движение народа: шум и говор не умолкали, и до слуха моего долетали иногда: «Сюли» (чеченец называет этим именем лезгина), «Быддиш хюзна» (слово непереводимое). На просьбы мои и уверения в том, что не буду больше спать, сняли наконец ошейник и цепь с левой ноги; оставались кандалы; но я так привык уже к ним, что свободно мог ходить и в железах. Я вышел: бездна народу, разделившись на кучки, вела между собой шепотом беседу, и так как на меня никто не обратил внимания, я смело заключил, что чеченцы заняты чем-нибудь серьезным. Минут 10 продолжался этот говор; вдруг выходит князь, толпы смолкли; лицо Газия мрачно, как и душа его. Мюриды, собравшись, пошли в аул, вооруженные с ног до головы, тихо перешептываясь; князь обратился к народу и начал говорить, казалось, грозил. Подле меня стоял какой-то рослый мужчина; я обратился к нему с просьбой объяснить, что значит это собрание, и вот что узнал я от рослого господина:
– Бегир, сын Доч-Морзей, одного из богатейших жителей аула того же имени, влюбился в хорошенькую Дженнат. Девушка, видно, была также неравнодушна; ветреный Бегир воспользовался слабостью бедной Дженнат и, вместо того чтоб женитьбой загладить свой проступок, бросил ее на произвол судьбы. По окончании известного срока, последствия связи этой обнаружились. Отец под кинжалом заставил ее высказать всю правду, и как миновало уже прежнее вольное время свободной мести, когда обиженный безбоязненно мог всадить клинок в ребра врага, не заботясь о последствиях, то огорченный отец решился просить защиты и правды у своего князя Газия-лезгина, славного своими зверскими правилами, подвигами и глубоким знанием законов мухаммедовых.
Я думал, что несчастным любовникам отсекут головы. Неужели одна смерть только выкупает несколько минут наслаждения, украденных у людей и времени?
А вот и они!..









