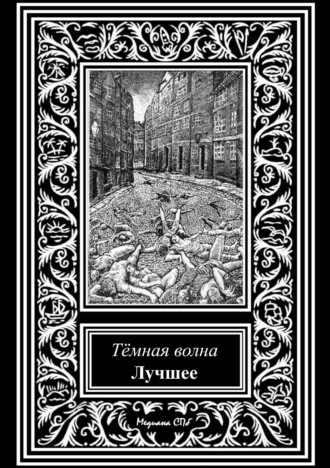
Полная версия
Темная волна. Лучшее
– Конечно… спасибо.
– Тут передачу посмотрел, да вот только что. Мистика, да и только. Какие-то племена в Африке или Америке, – Они остановились в полутенях парадной: один – не решаясь выскользнуть в морозное разочарование, другой – стремясь погреться у углей разговора. – Деревушка бедная, грязные все, полуголые. И мальчуган один приболел, сопли, платки, травы, температура, лихорадка, короче, понимают, что плохо дело. Умрёт скоро. А семья – там у них по-прежнему пережиток этот, мать, отец, дети, все вместе – любит его, аж глаза лопни. И вот отец говорит… он там на своём болтал, на тарабарском, но перевели так: «Моей любви хватит на два сердца. Он не умрёт». Сказал и ударил мальчика в грудь ножом…
– Что? – дёрнулся Дмитрий Эдуардович.
Охранник принял это за одобрение: значит, правильно подал историю, раз собеседник встрепенулся.
– Представляете? Ножом! А потом вырезал сердце и положил в какую-то миску.
– Простите? В миску? Сердце?
– Да! Но это ещё ерунда, это не главное!
– Ерунда… – слабым голосом повторил Дмитрий Эдуардович, ища в карманах пальто кепку.
– Сердце-то билось! Понимаете?
Заговорщицкий тон охранника вызвал у Дмитрия Эдуардовича приступ тошноты. Перед глазами билось что-то алое и липкое.
– Простите…я пойду, душно… простите…
– Да, да. Дверь, осторожно… Но вы понимаете, сердце билось! Вырезанное сердце билось! Всего наилучшего!
– Ага… и вам…
Он оказался на улице. В заговоре снега и ветра: снежинки клеились к лицу, вихрь обстреливал их холодными струями. Луна слитком серебра пряталась в грязных разводах неба.
«Так поздно? Сколько же я провёл…»
Дмитрий Эдуардович понял, что принял за луну какую-то конструкцию на крыше дома, надел кепку, стал поспешно застёгивать пальто.
Девять остановок автобуса.
Следовало поторопиться и набраться терпения.
* * *У подъезда собственного дома его ударил голос соседки.
– Хмурый как лес ночью! Продай новость за американский червонец!
– Что продать?
– Новость продай! – каркнула соседка, «старая, но щиплющая, как девятивольтная батарейка» (это сравнение Дмитрий Эдуардович позаимствовал у полузабытого мэтра фантастики – Алексея Жаркова; люди легко забывали всё, от имён до традиций, словно в потере прошлого нашли новую цель существования). – А лучше подари, потому что червонца всё равно нет. Хмурый, значит, новость в тебе живёт. Подари!
Дмитрий Эдуардович приблизился к лавке.
– А вот и подарю. А вот и мотай на ус. Дети – зло! Дети – боль!
Соседка захлопала глазами, неподвижно засуетилась (эту технику она довела до совершенства, олицетворяя деятельность всего союзного государства России и Белоруссии: видимость движения есть – движения нет).
– Да как, да как можно! При живом-то сыне!..
– Не сын он мне! Реклама! Знаете, что такое реклама?!
– Ходишь, значит, сын. Чё ходить-то, к чужому?
Дмитрий Эдуардович подался вперёд, резко остановился, словно налетел на штык: рот открыт, но пуст на слова, нижняя губа в каплях слюны. Закололо под левой лопаткой; он вяло качнул рукой, дав боли отмашку – криков не будет, пробормотал «хожу» и пошёл прочь.
Дом высился мрачный, блочный, негостеприимный. В квартире пахло гадко – очистные сооружения не преминули надышать в окна, оставленные на проветривание.
Дмитрий Эдуардович скинул туфли, уже в ванной стянул противно-влажные носки (подошвы он менял недавно, но дыры, видимо, перешли в разряд фантомных, пропуская влагу, как ампутированная рука пропускает боль) и включил кран. Вода была едва тёплой, с упрёком-мечтой о настоящем тепле. Дмитрий Эдуардович быстро потёр под струёй ступни, вымыл руки, закрыл кран и сел на плитку.
В дверь тут же застучали.
– Дуардыч! Дуардыч!
Он начал, чертыхаясь, вставать. Его напугал тот факт, что он не мог узнать неумолкающий голос за дверью – Дуардыч! Дуардыч! – словно оказался в чужой квартире, населённой сумасшедшими.
«Так и есть…»
Дмитрий Эдуардович нажал на ручку (защёлка давно не работала, но барабанящий в полотно человек даже не попробовал войти: стучал и голосил) и открыл дверь.
Нечто сгорбленное и морщинистое отскочило в сторону, начало мелко постукивать в провал собственного живота и бормотать:
– Так тож, так тож, то-то, то-то…
– Что вы тут устроили, Валентин Петрович, – сдерживая злобу, сказал Дмитрий Эдуардович. – Один раз постучали и хватит.
– То-то, так тож…
В кухне гремела крышками Ирина Юрьевна, за проклеенным скотчем дверным стеклом мелькал её силуэт – так танцуют грозовые тучи. Валентин Петрович толкнул сожителя острым локтём и проник в ванную, взял нервной осадой. Комната Казимира Иосифовича не подавала признаков жизни, но от этого пугала ещё больше.
Дверь в ванную приоткрылась, и в щель вылезла синяя зубная щётка, на которую щедро выдавили пену для бритья. Дмитрий Эдуардович схватил за головку, рванул, победно вскрикнул и запустил щётку в полумрак коридора. Валентин Петрович пронзительно завыл.
Обтерев руку о штанину, Дмитрий Эдуардович бросился к своей комнатушке и поспешно закрыл дверь. Здесь замки и защёлки работали исправно, уж он позаботился.
Подобные сожительства («доживательства», как говаривал Казимир Иосифович, единственный более-менее адекватный из трёх соседей по квартире Дмитрия Эдуардовича) инициировало государство: группировало несостоятельных пожилых людей по психотипу, трамбовало в общей жилплощади. «Неужели я совместим с этими людьми? Почему мы оказались вместе?» Подобные социальные травеи, ограниченные четырьмя человеческими устоями, стали общественными нормами.
Пародия на семью.
Насмешка реальности.
На растрескавшемся подоконнике стоял стакан с остывшим чаем. Дмитрий Эдуардович опустил в гранёную ёмкость кипятильник, воткнул вилку в розетку и стал ждать.
– Эдуардович, дорогой, – позвали из коридора: Ирина Юрьевна. – Хлеба нажарила. Белого, серого, чёрного. С солью и вареньем. С черникой и грибами. Отведаешь, дорогой?
– Вон! – закричал Дмитрий Эдуардович, распахнул форточку, схватил стакан с кипящей водой и швырнул во двор. В сумерки и пульсирующее отчаяние.
– Сам вон! Сама съем! Сама! А ты – вон! Вон от моего хлеба!
Шаги проклятиями покатились по скрипучим доскам.
Дмитрий Эдуардович упал на узкую кровать, пошарил рукой по одеялу, нашёл и включил ежедневный электронный листок Википедии, который кидали в почтовый ящик для рекламы (трафика хватало на десять минут). Стал лихорадочно читать:
«Фаст-фэмили (англ. Fast «быстрый» + family «семья») – семья с небольшим сроком пребывания в ней, с упрощёнными (сведёнными к минимуму) обязанностями, по сути, ограниченными лишь личными желаниями, вне собственного дома. Отдых в лоне оплаченной почасово семьи.
Для «быстрой семьи» предназначаются заведения: семейные дома и забегаловки (дешёвый, часто нелегальный вариант). […]
Минский психиатрический институт пишет об опасности фаст-фэмили для нервной системы человека: зачастую возникает привязанность, ничем не подкреплённая с другой стороны, ассоциирование себя с купленной семьёй, и как следствие этого – психическая травма ввиду разрушения иллюзий».
Он отложил листок и какое-то время лежал без движения – без движения тела и мысли. А потом внутри него потекло негодование и нахлынули иллюзии прошлого…
Верили, что, несмотря на выкрутасы истории, крепкая нуклеарная семья будет жить. В условиях повышения неопределённости существования, спрос на семью, как на оплот стабильности, должен был расти. Не стал.
В массе открывающихся возможностей и форм сообществ ожидали увидеть победу фундаментальных человеческих ценностей, цементацию базовых консервативных ценностей на новом уровне. Но, к сожалению, не произошло.
Внешняя угроза не консолидировала семью, тревоги не скрепили союз. Рухнуло, всё рухнуло.
За минувшее тысячелетие и ещё горстку десятилетий человеческая еда не претерпела особых изменений. Как и пищу, традиционную семью считали базовой потребностью. Ошибались. Потребность осталась, но появились фаст-фэмили – забежал, поговорил, сделал, что надо, напился бутафорского тепла и убежал. На фоне разнообразия новых форм семьи победил вариант «семейного перекуса».
Ничего страшного (в понимании общественности) не произошло: вспоминали Исландию начала двадцать первого века, где вне брака рождались восемьдесят процентов детей, кивали на однополые семьи, просто жили в новой реальности. Перешли на систему «семьи по потребности»: «ребёнок», от которого можно брать лишь ощущение причастности, «жена», которую можно поменять (детей, как правило, не меняли). Плати – и они всегда тебя ждут.
Люди давно возводили алтари личной свободе и независимости от партнёров. Чему удивляться? Традиционная семья превратилась в мифическое понятие, о котором приятно размышлять, но – боже упаси – примерить на себя. А вот на несколько часов – пожалуйста. Так появились «быстрые семьи». Как фаст-фуд вызывает у некоторых ожирение, так фаст-фэмили стало вызывать «отёчность привязанностей», главу угла заняло само насыщение, единовременный вкус, а не полезность. Под лживой вывеской «семьи» менялись начинки (по желанию, то гамбургер, то роллы) – разные «жёны» и «дети». Главным стало ощущение себя в кругу семьи, а не сама семья, конкретные люди.
Всё текло, всё менялось. Партнёра выбирали по генетической совместимости. Рождение детей перестало быть женской прерогативой. Семейные ценности распродавали на барахолке. Дети воспитывались в «атомизированных» семьях или самим государством. Демографы сообщали о потребности общества в тех или иных работниках, генетики удовлетворяли эти нужды. Старики доживали…
– Дуардыч! Дуардыч! – выл коридор, звала изнанка двери.
Дмитрий Эдуардович заткнул уши и закрыл глаза.
И представил Тёму.
Зима копила силы на Новогоднюю ночь. Морозы были терпимые, но с обещанием: «всё впереди». Дмитрий Эдуардович ездил в издательство через день, в основном работал дома, если квартиру с тремя стариками можно было назвать домом… да и работы было негусто, ложка упадёт.
Дмитрий Эдуардович работал за старым столом у окна. Сделал несколько статей о «клановой» семье прошлого века, но редактор завернул материал: «Кому это интересно?».
Тёма постоянно квартировал в его воображении. Идиллия на съёмочной площадке не выходила из головы. Дмитрий Эдуардович грезил «сыном», даже пробовал занять денег (у знакомой из планового), чтобы отведать «быстрой семьи», побыть с Тёмой. Несколько раз он пытался навестить мальчика, но охранник уже не был столь улыбчив и приветлив: «Артёма Павловича нет», «Просили не беспокоить».
Соседка, поджидающая его после каждого пустого возвращения, часто спрашивала:
– Как ваш сын?
– Болеет, – отвечал Дмитрий Эдуардович и торопливо уходил.
Тёма позвонил однажды и предложил зайти к нему вечером. Валентина Петровича, позвавшего к телефону («Дуардыч! Дуардыч!»), Дмитрий Эдуардович даже удостоил крепкого рукопожатия, от которого сгорбленный старичок бежал, поскуливая, в ванную.
Дмитрий Эдуардович вышел незамедлительно.
Прогуляться. Подышать. Помечтать.
До вечера. До встречи.
«Ад мiнулага – да будучынi» – прочитал он на одной из фасадных табличек. Раритет прошлого, слова из почти забытого языка. «От прошлого к будущему» – перевёл Дмитрий Эдуардович, и понял, что смотрит на первых два слова в жутком контексте, миксе двух языков. Белорусский предлог «ад» звучал в голове русским существительным – именно посмертным местом грешников.
Ад прошлого…
Почему нет? «В нём я и жил… но сейчас, сейчас… когда у меня появился…»
В клетке охранного поста дежурил незнакомый Дмитрию Эдуардовичу здоровяк.
– Я к Тёме.
Охранник без эмоций кивнул и сделал знак рукой. Поднимайтесь. Ожидают-с.
Тёма начал говорить прямо с порога. Он снова не предложил снять пальто, но на этот раз Дмитрий Эдуардович повёл себя по-свойски. Он нагрузил вешалку и потрепал седые волосы перед зеркалом.
– Скоро у меня пенсия, – говорил Тёма. – В сфере фаст-фэмили пятнадцать лет – потолок. Никто не хочет цацкаться со взрослым сыном. Найдётся, конечно, парочка чудаков: мол, передать опыт, наставить, научить какой-нибудь ненужной ерунде. Отругать и воспитать, в конце концов. Но это мелочь. Это одна-две заявки в месяц.
Дмитрий Эдуардович не спрашивал, не перебивал.
– Поэтому я хочу открыть своё дело. Нечто новое, понимаешь?
– Нет, – ответил Дмитрий Эдуардович, раз уж «сын» спросил его. – Вы ведь заработали достаточно, и пока зарабатываете. Разве нет? Не хватит на безбедное взросление?
– Ха! У меня есть амбиции, есть задумки! А эта квартира – это не предел. Всего лишь этап, который надо пройти.
«Ты говоришь, как взрослый… как взрослый, которого не хочется слышать».
– Будешь работать на меня? – в лоб предложил Тёма.
– Работать? На вас? Я думал…
Тёма рассмеялся.
– Что ты думал? Что я приглашу тебя поболтать о проблемах или попрошу сводить с парк? Как отец? Ха! У меня есть идея, и я предлагаю тебе место в этой идее.
– Какая идея? – растерянно спросил Дмитрий Эдуардович. Спокойствие и предвкушение чуда слетали с него мёртвой листвой.
– Аналог клановой семьи. Так жили в деревнях и сёлах. Семья из нескольких поколений, живущих вместе. Это станет аттракционом века. Вот, прочти!
Дмитрию Эдуардовичу что-то сунули в руки, толкнули к дивану, к мягкому свету торшера. Он опустил глаза. Знакомый ридер и липнущий к зрачкам текст:
«…часто рассказывали они о строгом, вспыльчивом, справедливом и добром своём старом барине и никогда без слёз о нём не вспоминали. И этот добрый, благодетельный и даже снисходительный человек омрачался иногда такими вспышками гнева, которые искажали в нём образ человеческий и делали его способным на ту пору к жестоким, отвратительным поступкам.
…Но во вчерашнем диком звере сегодня уже проснулся человек. После чаю и шутливых разговоров свёкор сам пришёл к невестке, которая действительно была нездорова, похудела, переменилась в лице и лежала в постели. Старик присел к ней на кровать, обнял её, поцеловал, назвал красавицей-невестонькой, обласкал внука и, наконец, ушёл, сказавши, что ему «без невестоньки будет скучно». Через полчаса невестка, щёгольски, по-городскому разодетая, в том самом платье, про которое свёкор говорил, что оно особенно идёт ей к лицу, держа сына за руку, вошла к дедушке. Дедушка встретил её почти со слезами. «Вот и больная невестка себя не пожалела, встала, оделась и пришла развеселить старика», – сказал он с нежностью. Закусили губы и потупили глаза свекровь и золовки, все не любившие невестку, которая почтительно и весело отвечала на ласки свёкра, бросая гордые и торжествующие взгляды на своих недоброхоток…»
Тёма выхватил электронную книгу, потряс ей, как весомым доказательством.
– Вот кем ты станешь, вот, чью роль будешь играть! Барина, главы семейства, порой жестокого, порой чуткого и слезливого!
– Но я… – «Я не могу так жить… не хочу… только не так, без любви…»
– Контраст! Людям нужен контраст! Это станет новым слоем в семейной индустрии. Я собираю команду, и, знаешь что? Актёров будет раз-два и обчёлся. Барин да внуки несмышлёные. А вся семья – это клиенты! Понимаешь? Дети, мамки, папки, тётушки… Эй, ты куда?
Тёма проследовал за Дмитрием Эдуардовичем на кухню.
С улицы донеслось эхо преждевременного салюта.
– Что ты здесь забыл? – спросил мальчик, обходя стойку для фруктов.
– Выбираю нож, – ответил Дмитрий Эдуардович.
Ножей на кухне было видимо-невидимо: шеф-нож, универсальный, для чистки, для фигурной нарезки овощей, для лососины, для хлеба, для влажных продуктов, в виде топорика, японские ножи для суши…
– Зачем?
– Ты болен…
– Что?
Дмитрий Эдуардович повернулся к Тёме и ударил его в шею. Лезвие вошло в подключичную ямочку. Мальчик дёрнулся, соскочив с окровавленной стали, его глаза сделались безумными, он попытался поднять к шее руку, но колени подогнулись, словно лишённые костей, и он упал на плитку пола.
Дмитрий Эдуардович опустился на колено рядом с мальчиком и приставил лезвие универсального ножа под бьющийся кадык. Над пульсирующей кровью раной. Провёл по коже обухом, перевернул режущей кромкой…
– Ты болен… ты неизлечимо болен…
Тёма открыл рот, между тонких губ надулся и лопнул алый пузырь.
– Х-хш…
– Ты болен тщеславием… ты болен нелюбовью… ты болен взрослостью…
Дмитрий Эдуардович закончил с шеей, вспорол футболку, раскинул её точно гибкий панцирь, примерился и принялся за дело.
* * *Сердце было красным и горячим. Оно билось, билось, билось…
Дмитрий Эдуардович положил его в прозрачный вакуумный контейнер, принёс домой и устроил на подставке-башне для цветов, на самом верху. Потом лёг на кровать, выудил из-под подушки пульт и погасил крохотную телевизионную панель, которую забыл выключить, в спешке собираясь к сыну. Реклама фаст-фэмили – счастливый мальчик, сообщающий маме, что пришёл папа, – провалилась в эфирную ночь.
Под потолком ритмично сокращалось сердце.
Его сына. Его семьи. Его опоры.
Стенки контейнера покрывала тёмная кровяная пыль.
Дмитрий Эдуардович положил руку на грудь. Робко улыбнулся, когда в пальцы проник сбивчивый пульс. Тук-тук-тук…
Пока жива любовь в старом сердце отца, сил хватит на двоих.
На двоих…
А затем пришла ночь, и пустые сны, и радость совместного утра, и чувство лёгкого голода, который он утолил сладким хворостом, малиновым вареньем и кружкой горячего чая.
Дуэль
Мимо прошёл проводник. Серые брюки, белая рубашка, галстук в красно-чёрно-серую полоску. Поинтересовался у рыжеволосой девушки, разобралась ли та с креслом. Рыженькая кивнула с улыбкой – полулёжа, с наушником в ухе, с пузырьками шампанского в глазах.
Тот, кто сидел позади девушки, через проход, носил терракотовую кофту с капюшоном, синие джинсы и спортивную обувь. Гладко выбритый, он повернулся к окну с сумеречным исподом, несколько секунд рассматривал свой острый подбородок и тонкие губы, рассматривал с каким-то грустным интересом, затем пробил взглядом плёнку отражения, и вот уже сыпались назад домики, вагоны без локомотивов, реденькие рощи. Человека в капюшоне заинтересовали столбы-лестницы с круглыми светильниками на вершине (они напоминали пирамиды с парящим оком), но быстро наскучили.
Тогда он глянул в проход. За стеклянными дверями работал вагон-ресторан. Иногда двери открывались, выпуская официантов, людей в чёрной униформе с тёмно-красным фартуком.
Человек в капюшоне хотел курить, но не мог рисковать. Никакого лишнего внимания. Если вытерпит, обойдётся и без туалета. Каких-то десять часов – и Берлин. Незачем мелькать перед пассажирами, которых потом могут просмотреть те, от кого он бежал. И просмотрят – залезут в хорошенькую головку рыженькой, пролистают, как ленту новостей.
Девушка погрузилась в планшет. На секунду он представил, как её глаза выпучиваются, красный взрыв выдавливает лицевые кости на экран, раскалённая проволока волос разлетается в стороны, и вагон реагирует на это – сначала оцепенением, потом криком.
Кажется, он переборщил. Рыженькая напряглась, тонкие пальцы взметнулись к вискам.
Человек в капюшоне отвернулся к окну: бритые щёки и подбородок, жёлтые огни вдоль колеи. С шумом налетел встречный состав, и пассажир закрыл глаза.
Через несколько минут поезд стал замедляться. Долго и лениво полз, будто разбуженный дождём червь.
Польские пограничники прошлись по вагону чёрными силуэтами – высокий и крепкий прикладывал к чемоданам пикающий прибор, – и осели в вагоне-ресторане.
Лысеющего таможенника интересовали сигареты, колбаса, лекарства, алкоголь. Человек в капюшоне мотал головой: не везу. На полке лежал его рюкзак, других вещей не было. Таможенник поднял сканер.
– Большой палец правой руки, – сказал он по-русски.
Человек в капюшоне медлил. Нашёл взглядом светлые глаза таможенника, наладил с реципиентом связь, пустил по линии мыслеток, и таможенник растерялся, на мгновение поплыл. Глянул на сканер, потом на пассажира, неуверенно улыбнулся, вернул прибор в набедренный чехол и поставил в паспорте печать.
Человек в капюшоне поблагодарил, раскрыл паспорт на последней странице и сразу закрыл. Лицо на фотографии чем-то напоминало его лицо.
Заметят ли они след? Или мыслеформа растворится в переживаниях других пассажиров?
Больше всего нервничала семейная парочка, чьи пухлые чемоданы не влезли на полку, и тучный мужчина, стараниями турфирмы отправившийся в поездку с визой, которая начнёт действовать только на следующие сутки, через три часа.
Человек в капюшоне старался не копаться во всём этом глубоко, чтобы не оставлять новых следов. Почти удавалось.
Когда тронулись (мужчину с недействительной визой сняли с поезда), человек в капюшоне принял две таблетки снотворного и приладил к голове наушники. Показывали фильм о советских полярниках.
Через полчаса он уже спал. Никаких эфирных шумов. Никаких следов.
* * *Старший был пьян. Не прошло и часа, как поезд отчалил от брестского вокзала. Пьян размеренно и умиротворённо, и в этом состоянии напоминал дрейфующую льдину.
Майор поднял фляжку ко рту. Глеб никак это не комментировал. Старший есть старший. Даже со стеклянными глазами. Состояние майора было даже на руку – Глеб надеялся, что старший разговорится под мухой. Но тот лишь хитро щурился и тянул из металлического горлышка. В купе пахло накрахмаленным бельём (постель взял только Глеб) и крепким дыханием старшего.
В Тересполе поезд стоял дольше обычного по их вине. Старший допросил какого-то грузного бедолагу, которого больше суток мариновали на вокзале – держали специально для людей из Группы. На паранормала бедолага не смахивал. Значит, простой свидетель.
Отъехала в сторону дверь. Проводник поинтересовался, не принести ли чего. Глеб заказал чай. В его сумке лежали варёные яйца, сардельки, хлеб и печенье. Жена, Верочка, кинулась запекать курицу, просила подождать (не убежит твоя секретная командировка, а если убежит – и пускай, скатертью дорожка), но тут – красный вызов, вокзал, едем, ищем… Знать бы ещё кого. Информацией владел старший, постоянно на связи с Группой, прикован наушником к аритмичной ситуации.
Майор бегло глянул на проводника, только для того, чтобы убедиться, что услышанное соответствует увиденному, опустил обманчиво-сонные глаза, но тут же вскинул, уцепился за что-то, напрягся. Встал, высокий, статный, с синеватым квадратным подбородком. Произнёс почти стеснительно, с кивком:
– У вас на рубашке…
Только сейчас Глеб понял, что заинтересовало старшего. И проводник понял, и принялся было исправлять послюнявленным пальцем – белую рубашку пятнала кровь. Три или четыре капли, правее пуговичного пунктира. Затем проводник соорудил из пальцев прищепку, защёлкнул на носу, разжал, глянул на розовое и влажное на подушечках…
– Да, спасибо… Извините, давление… Значит, один чай?
– И шоколадку, – сказал майор, ласково взглянув на фляжку; он расслабился, его больше не интересовали красные пятнышки. – Любую. Можно батончик.
Проводник, снова с прищепкой из пальцев на носу, закрыл дверь.
Глеб попытался сложить два и два. Если, конечно, это были двойки, а не сложные дроби, и если было что складывать…
Чего старший так встрепенулся? Ну, дал течь шнобель эржэдэшника – не пулевое ранение ведь. Чего всматривался в жиденькие глазки, будто расспрашивал без слов? У проводника даже рот повело, безвольными сделались губы.
В голове щёлкнуло. Внутренний калькулятор выдал ответ.
И правда – четыре.
Или что-то похожее на четыре? Когда работаешь на подхвате у старшего (Глеб догадывался, что его взяли из-за знания немецкого), будь готов к занимательной арифметике.
За стеклом тянулись привычные виды. Природа, трансформированная близостью железной дороги. На переездах нетерпеливые авто подпирали шлагбаумы. В одноэтажных домиках загорались жёлтые квадраты. На фасадах и вывесках было написано по-польски.
– У фрицев в гостях бывал? – спросил старший, запивая шоколад крепким.
Глеб ответил не сразу: вялость голоса майора отвлекла от смысла вопроса.
– В Баварии проездом. В Гамбурге разок у знакомых.
Старший кивнул. Счистил остатки фольги с батончика. Глотнул из фляги. Укоризненно глянул на каплю сгущёнки на пальце.
Глеб решился:
– Мы ведь нуса ищем?
– Нуса? – Старший хмыкнул. – Быстро же прижилось… Нус, нус, нус, почти «гнус»… Может, в этом дело? Гнусный нус, выходи, подлый трус… Нет, тут старенький фильм Кроненберга больше подходит: «Вы назвали меня нусом. Что это такое?» – Майор замолчал, откинулся на переборку, глянул лукаво на молодого. – Хоть знаешь, что значит нус?
– Ум, – отчеканил Глеб. – Мысль.










