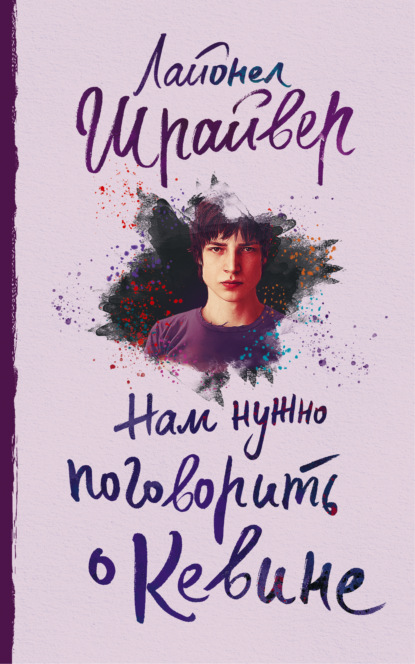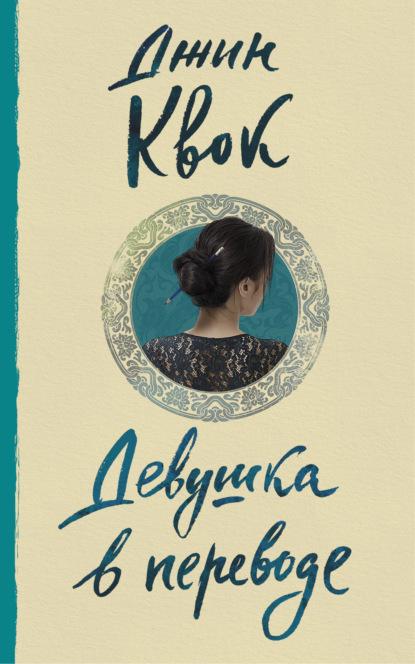Полная версия
Я умею прыгать через лужи
Каждое утро по палате проходила сиделка с миской в руках.
– Давайте яйца. Кому приготовить яйца на завтрак?
Едва заслышав ее голос, больные торопливо садились и тянулись к своим тумбочкам: кто-то медленно, кривясь от боли, другие – мучительно преодолевая слабость. Приоткрыв ящики, они доставали коричневые бумажные пакеты или картонные коробки, в которых лежали яйца. Прежде чем вручить их сиделке, они писали на скорлупе свои имена, а потом усаживались в постели и в сером утреннем свете, нахохлившись, словно печальные птицы в гнездах, пересчитывали оставшиеся яйца.
Подписывать яйца было необходимо, поскольку из-за них нередко возникали споры и владельцу крупных коричневых яиц могло достаться яйцо молодки, когда их сваренными приносили обратно. Некоторые из больных очень гордились свежестью своих яиц. Когда им их возвращали, они подозрительно принюхивались и утверждали, что им отдали лежалое яйцо другого больного.
Те, у кого яиц не было, всегда задумчиво и даже с некоторой неприязнью взирали на эту традиционную утреннюю церемонию. Потом они ложились, вздыхали и, охая, жаловались на минувшую ночь. Многие больные делились яйцами с этими несчастными.
– Так, вот три яйца, – говорил Ангус сиделке. – Одно для Тома, одно для Мика, а третье для меня. Я их все надписал. И скажите поварихе, чтобы не варила вкрутую.
Яйца всегда возвращались крутыми. Рюмочки для них не давали, и приходилось держать горячее яйцо в руке, втыкая туда ложку.
Мать присылала мне дюжину яиц в неделю, и я был счастлив, если мог крикнуть соседу по палате: «Том, сегодня утром я положил яйцо и для тебя». Мне нравилось видеть, как при этих моих словах его лицо расплывалось в улыбке. Моя дюжина яиц быстро кончалась, и тогда Ангус каждое утро давал мне одно из своих запасов.
– Ты слишком щедро разбрасываешься яйцами, – говорил он. – Оставь себе хоть сколько-нибудь. У меня уже тоже заканчиваются.
Я пытался вспомнить, у кого из больных нынче не было яиц, и тут я подумал о новичке, который теперь, при свете дня, уже не казался таким страшным. Я торопливо сел и посмотрел на его кровать, но он с головой спрятался под одеялом.
– Что это он делает? – спросил я Ангуса.
– Ему все еще мерещится какая-то чертовщина, – ответил Макдональд, разворачивая кусочек масла, которое он достал из сундука. – Он провел скверную ночь. Раз даже с постели встал. Мик говорит, сейчас он слаб, как котенок.
Мик сидел и зевал, сопровождая каждый зевок болезненным стоном. Почесав грудь, он поддакнул Ангусу:
– Слаб не то слово. Ничего удивительного… Спать полночи не давал, скотина. А ты-то выспался, Мак?
– Да не особенно. Опять боль замучила. Всю душу вытрясла. Но это не сердце, потому что болит с правой стороны. Я сказал доктору, но он так и не объяснил, что это такое. Они никогда ничего не объясняют.
– Факт, – согласился Мик. – Вот я всегда говорю: кто сам болеет, тот и разумеет. Я вот прошлой ночью навалился себе на руку, и мне было чертовски трудно сдержаться, чтобы не взвыть. Этот малый, – он мотнул головой в сторону закутанного в одеяла новичка, – думает, ему скверно. Неплохо, видимо, время проводил, пока скверно не стало. Я бы не задумываясь променял свою руку на его кишки.
Мне нравилось слушать эти утренние беседы, хотя я часто не понимал, о чем идет речь. Я всегда хотел узнать побольше.
– А зачем вы навалились себе на руку? – спросил я Мика.
– Зачем?! – удивленно воскликнул Мик. – Как это «зачем»? Я-то откуда знал? Навалился, потому что думал, это здоровая рука. Ну и забавный же ты парнишка.
Его сосед застонал. Мик повернулся к вороху постельного белья и сказал:
– Да, брат, плохи твои дела. Завтра будешь червей кормить. Хочешь не хочешь, а все хорошее когда-нибудь заканчивается.
– Не говори так, – одернул его Ангус. – Напугаешь человека до смерти. Будешь сегодня яйцо или нет?
– Давай два, на следующей неделе я верну тебе должок, когда моя старушка придет меня проведать.
– Может, она тебе ничего и не принесет…
– Всякое может быть, – ответил Мик, уныло кивая. – Смешно, но человеку никогда не удается найти жену, которая была бы под стать его матери. Сколько раз уже такое видал. Сейчас все женщины одинаковые. Прямо на глазах портятся, кто угодно тебе скажет. Бывало, зайдешь к моей мамаше в кладовую, а там – эх, черт побери! – мышь, и та не проскочит между банками с соленьями, вареньем, бутылями соусов и солодового пива, и все это она своими руками готовила. А теперь попробуй попроси любую женщину сварить тебе баночку варенья… – Он презрительно махнул рукой и добавил изменившимся тоном: – Она принесет яйца. Дай мне два. Я сегодня прямо-таки умираю с голоду.
Пьянчуга вдруг выпрямился и резко скинул покрывало, будто собрался соскочить с кровати.
– Эй! А ну укройся, – велел Мик. – Вчера уже доигрался. Прекрати. Если сейчас попробуешь сбежать, тебя ремнями пристегнут.
Пьянчуга подтянул одеяло и схватился за голову. Потом сказал Мику:
– До сих пор во рту привкус этого лекарства. Внутри все прям ходуном ходит.
– Хотите яичко? – неуверенно, дрожащим голосом спросил я.
– Мальчишка спрашивает, не хочешь ли ты яйцо на завтрак, – пояснил ему Мик.
– Да, – ответил пьянчуга, не разжимая рук. – Хочу. Хочу. Мне надо восстановить силы.
– Он съест, – передал мне Мик. – Клади.
Я вдруг проникся к этому мужчине симпатией и решил попросить маму принести побольше яиц, чтобы хватило и на его долю.
После завтрака сиделки обычно сновали от кровати к кровати, набрасывая снятые вечером покрывала. Они склонялись над каждой койкой, а больные, лежа на подушках, смотрели на них снизу вверх. Сосредоточенные на своей работе, сиделки не обращали на больных внимания. Они заправляли простыни и одеяла, разглаживали складки, готовя палату к обходу старшей медсестры.
Когда не было особой спешки, некоторые из них были не прочь поболтать с нами. Среди них были милые, приятные женщины, любившие посплетничать, называвшие старшую медсестру «старой наседкой» и загодя предупреждавшие нас о приходе сестер.
Одна из них, сиделка Конрад, молоденькая веселая толстушка, была любимицей Ангуса. Когда ему приносили апельсины, он всегда откладывал один для нее.
– Вот славная девчушка, – сказал он мне как-то, когда она, проходя мимо, улыбнулась ему. – Надо обязательно посоветовать ей сходить на семейство Бланш!
В город как раз приезжала странствующая труппа «Мастеров музыки и развлечений», и больные в нашей палате с азартом обсуждали анонсирующие ее выступление волнующие афиши.
– Про семейство Бланш я только одно могу сказать, – заявил Мик. – Оно стоит уплаченных денег. Есть там один паренек… Он с ними был в прошлом году, и я вам говорю, до чего же хорош… Этот малый играл на пивных бутылках «На ней веночек был из роз» так, что на глаза слезы наворачивались, черт подери. А на вид такой невзрачный, плюгавенький… В пабе встретишь, внимания не обратишь. Эх, как жаль, что я это пропускаю!
На следующее после представления утро, когда на рассвете сиделка Конрад торопливо вошла в палату, ее уже ждал сгоравший от нетерпения Ангус, желавший узнать, как прошло выступление.
– Ну, как сходила? – обратился он к ней.
– Ух, это было чудесно, – воскликнула она. Ее только что умытые пухлые щеки сияли. – Мы сидели во втором ряду.
Она на мгновение умолкла, заглянула в книгу записей на столе у входа и поспешила к Ангусу. Поправляя его постель, она принялась рассказывать.
– Было так замечательно, – восторженно начала она, – а народу сколько! Человек, проверявший у входа билеты, был одет в черный плащ с красной подкладкой.
– Это сам старик Бланш, – вставил Мик с другого конца палаты. – Он всегда там, где денежки.
– И вовсе он не старый, – обиделась за него сиделка Конрад.
– Ну, значит, это был его сын, – сказал Мик. – Невелика разница.
– Рассказывай дальше, – поторопил ее Макдональд.
– А маленький такой паренек играл «На ней веночек был из роз»? – не унимался Мик.
– Да, – нетерпеливо ответила сестра Конрад. – Но на сей раз он играл «Дом, милый дом».
– А певцы какие-нибудь хорошие были? – спросил Ангус. – Пели шотландские песни?
– Нет, вот этого не было. Выступал один мужчина, – со смеху помереть можно! Он пел «Папаша мой носил сапоги на гвоздях». Как же мы хохотали! А еще выступал швейцарец, одетый по-швейцарски и все такое. Он пел йодли на тирольский манер, но…
– А что такое йодли? – спросил я.
Я перегнулся через край кровати, стараясь подобраться как можно ближе к сиделке Конрад, чтобы не упустить ни слова из ее рассказа. Это представление казалось мне не менее волнующим, чем цирк. Даже просто увидеть человека в плаще с красной подкладкой было бы замечательно. Сиделка Конрад теперь казалась мне необычайно интересной, обаятельной личностью, будто сам факт того, что она побывала на этом концерте, наградил ее качествами, которыми ранее она не обладала.
– Йодль – это песня, в которой берешь очень высокие ноты, – быстро ответила она, повернувшись ко мне, а затем продолжила рассказывать Ангусу: – Знавала я одного паренька в Бендиго. Высокий такой был, статный… – Она усмехнулась и заправила выбившуюся из-под чепца прядь волос. – Этот паренек умел петь йодли не хуже любого швейцарца, кто бы что ни говорил. Знаете, мистер Макдональд, мы с ним гуляли, и я могла хоть всю ночь слушать его пение. Я вам вот что скажу: сама-то я петь не умею, так, иногда напеваю что-то для себя, для развлечения, но уж в чем в чем, а в музыке я хорошо разбираюсь, поверьте мне на слово. Семь лет училась, мне ли не знать. Я про музыку все знаю, так что прошлая ночь мне очень понравилась. Но этот исполнитель йодлей Берту и в подметки не годится, кто бы что ни говорил.
– Да, – без выражения сказал Макдональд, – верно.
Он как будто не знал, что говорить дальше. Я хотел, чтобы он продолжал расспрашивать сиделку, но она повернулась и начала поправлять мою постель. Подтыкая края одеяла под матрас, она наклонилась, и ее лицо приблизилось к моему.
– Ты ведь мой мальчик, верно? – спросила она с улыбкой, глядя мне в глаза.
– Да, – напряженно ответил я, не в силах отвести от нее взгляда. Я вдруг почувствовал, что люблю ее. Меня охватило волнение, и больше я ничего не мог из себя выдавить.
Подчиняясь какому-то порыву, она нагнулась, поцеловала меня в лоб и, засмеявшись, отошла к Мику. Тот сказал ей:
– Мне бы это тоже не помешало. Говорят, в душе я ребенок.
– Да что вы такое говорите! А еще женатый человек! Что сказала бы ваша супруга? Дурной вы человек, наверное.
– Есть такое дело! А какой толк в хороших людях? Их и девушки не любят.
– Еще как любят, – возмутилась сиделка Конрад.
– Нет, – возразил Мик. – Они как дети. Когда детишки моей сестры нашкодят, их мать говорит: «Вырастите такими, как ваш дядя Мик». А они считают меня самым лучшим дядюшкой на свете, черт подери!
– Вы не должны так выражаться.
– Конечно, не должен, – согласился Мик. – Это правда.
– Так, не помните покрывало. Сегодня старшая сестра рано будет совершать обход.
Старшая медсестра была полной женщиной с родинкой на подбородке, из которой торчали три черных волоска.
– Давно бы их уже выдернула, – как-то заметил Мик, после того как старшая сестра вышла из палаты. – Но женщины до того странные существа, поди пойми, как устроены их мозги. Небось думают, если выдернуть волоски, придется признать, что они есть. Потому и держатся за них, делая вид, что их нет. Ну да ладно, пускай растит себе на здоровье! Она и так кого хочешь за пояс заткнет.
Старшая сестра быстро переходила от одной кровати к другой. За ней следовала медсестра, которая почтительно докладывала обо всем, что, по ее мнению, матроне нужно было знать о больных.
– Его рана хорошо заживает. Этому больному мы давали змеиный корень.
Старшая сестра считала, что больных нужно подбадривать.
«Доброе слово творит чудеса», – повторяла она, четко выговаривая каждое слово, будто произносила скороговорку.
Жестко накрахмаленная форма вынуждала ее передвигаться особым образом, и скованностью движений иногда она напоминала марионетку, которую дергала за ниточки следовавшая позади сестра.
Когда она наконец появилась в дверях, больные уже закончили утренние разговоры и сидели или лежали в ожидании, подавленные строгостью безупречных постелей и мыслями о своих недугах.
В отсутствие старшей сестры Мик всегда говорил о ней непочтительным тоном, но теперь, когда она приближалась к его постели, он держался в какой-то взволнованно-уважительной манере.
– Как вы сегодня себя чувствуете, Бурк? – нарочито бодрым голосом спросила она.
– Хорошо, сестра, – весело ответил Мик, но сохранить этот тон ему не удалось. – Плечо еще не очень, но, по-моему, становится лучше. А вот руку пока не могу поднять. С ней что-нибудь серьезное?
– Нет, Бурк. Доктор всем доволен.
Одарив его улыбкой, она двинулась дальше.
– Черта с два от нее чего-нибудь добьешься, – кисло пробормотал Мик, когда она отошла достаточно далеко.
Подойдя ко мне, старшая сестра приняла вид человека, который собирается говорить ребенку что-то ободряющее и успокаивающее, чтобы произвести впечатление на взрослых, которые это слышат. Мне в такие минуты всегда становилось не по себе, как будто меня вытащили на сцену и велели дать представление.
– Ну, как сегодня наш храбрый малыш? Сиделка говорит, ты часто поешь по утрам. Не споешь ли мне песенку?
От смущения я не знал, что ответить.
– Он поет «Брысь, брысь, черный кот», – подтвердила выступившая вперед сиделка. – И очень хорошо поет.
– Думаю, когда вырастешь, ты станешь певцом, – сказала старшая сестра. – Хочешь стать певцом? – Не дожидаясь ответа, она повернулась к другой сестре и продолжала: – Большинство детей хотят, когда вырастут, стать машинистами паровоза. Мой племянник как раз из таких. Я купила ему игрушечный поезд, и он так его любит, малыш. – Она снова повернулась ко мне. – Завтра ты уснешь, а когда проснешься, твоя ножка будет завернута в чудесный белый кокон. Замечательно, не правда ли? – И снова сиделке: – Операция назначена на десять тридцать. Сестра подготовит его.
– Что такое операция? – спросил я Ангуса, когда они ушли.
– Да так, ничего особенного. Займутся твоей ногой… починят ее, когда будешь спать.
Я видел, что он не хочет ничего объяснять, и на мгновение меня охватил страх.
Однажды отец не стал распрягать молодую лошадь, а привязал вожжи к ободу колеса и пошел пить чай, а она как рванет! Натянутые вожжи лопнули, и лошадь помчалась к воротам, разбила бричку о столб и – только ее и видели.
Выбежав на шум, отец постоял с минуту, разглядывая обломки, потом повернулся ко мне – я вышел следом за ним, – и сказал: «А, наплевать! Пошли чай допьем».
Почему-то этот случай пришел мне на память, когда Ангус замолчал и не стал ничего объяснять. Мне сразу стало легче дышать.
– А, наплевать! – небрежно воскликнул я.
– Так держать, – сказал Ангус.
Глава пятая
Лечивший меня доктор Робертсон был высоким человеком и всегда носил выходной костюм.
Я подразделял любую одежду на две категории: воскресную и ту, которую можно носить всю остальную неделю. Выходной костюм иногда можно было надевать и в будни, но только по особым случаям.
Мой выходной костюм из грубой синей саржи доставили в коричневой картонной коробке. Он был завернут в тонкую оберточную бумагу и издавал чудесный запах новой вещи.
Но я не любил надевать его, потому что его нельзя было пачкать. Отец тоже не любил свой выходной костюм.
– Давай-ка снимем эту проклятую штуку, – говорил он по возвращении из церкви, куда ходил редко, и то по настоянию матери.
Меня поразило, что доктор Робертсон носил выходной костюм каждый день. Более того, посчитав его праздничные костюмы, я выяснил, что у него их аж четыре, из чего сделал вывод, что он, видимо, очень богат и живет в доме с газоном. Те, кто жил в доме с газоном перед входом или ездил в коляске с резиновыми шинами или в кабриолете, всегда были богачами.
Как-то раз я спросил доктора:
– У вас есть коляска?
– Да, – ответил он, – есть.
– У нее резиновые шины?
– Да, резиновые.
После этого мне стало трудно с ним разговаривать. Все, с кем я был знаком, были бедняками. Я знал богачей по именам и видел, как они проезжали мимо нашего дома, но они никогда не удостаивали бедняков ни взглядом, ни словом.
– Едет миссис Карразерс, – кричала моя сестра, и все мы бросались к воротам, чтобы посмотреть на коляску, запряженную парой серых лошадей и с кучером на козлах.
Как будто ехала сама королева!
Я вполне мог представить, как доктор Робертсон беседует с миссис Карразерс, но никак не мог привыкнуть к тому, что он обращается ко мне.
У него была бледная, не тронутая солнцем кожа, более темная на щеках, где бритва оставила глубокие корешки волос. Мне нравились его светло-голубые глаза, вокруг которых залегали морщины, превращавшиеся в более глубокие складки, когда он смеялся. Длинные, узкие руки его пахли мылом и были прохладными на ощупь.
Он ощупал мою спину и ноги и спросил, больно ли мне, а затем выпрямился, посмотрел на меня и сказал медсестре:
– Искривление весьма значительное. Поражена часть спинных мышц.
Осмотрев мою ногу, он погладил меня по голове и сказал:
– Скоро мы это исправим. – И обращаясь к сестре: – Необходимо выровнять берцовую кость. – Ощупывая мою лодыжку, он продолжал: – Вот здесь придется укоротить сухожилия и поднять стопу. Надрез сделаем в области лодыжки. – Он медленно провел пальцем к моему колену. – Вот здесь надо будет выравнивать.
Я навсегда запомнил движение его пальца, потому что на этом месте теперь шрам.
В то утро, когда он должен был оперировать меня, доктор Робертсон помедлил, проходя мимо моей кровати, и обратился к сопровождавшей его старшей сестре:
– Мальчик вроде бы совсем освоился, уже не грустит.
– Да, он славный мальчуган, – согласилась старшая сестра и добавила тоном, которым обычно подбадривала больных: – Он умеет петь «Брысь, брысь, черный кот», не правда ли, Алан?
– Да, – смущенно подтвердил я; мне всегда становилось не по себе, когда она говорила со мной таким тоном.
Доктор задумчиво посмотрел на меня, а потом внезапно подошел и откинул мое одеяло.
– Повернись, чтобы я мог осмотреть твою спину, – велел он.
Я перевернулся на живот и почувствовал, как его прохладная рука исследует мою искривленную спину.
– Хорошо! – Он встал и приподнял одеяло, чтобы я мог снова лечь на спину.
Когда я повернулся к нему лицом, он взъерошил мне волосы и сказал:
– Завтра мы выпрямим твою ногу. – Потом добавил с улыбкой, которая показалась мне странной: – Ты храбрый мальчик.
Я принял эту похвалу без малейшего чувства гордости, не понимая, что заставило его так сказать. Я вдруг захотел, чтобы он узнал, какой я хороший бегун. Я подумывал о том, чтобы рассказать ему, но он уже повернулся к Папаше, который, сидя в инвалидной коляске, улыбался доктору беззубыми деснами.
Папаша прижился в больнице, как кошка в доме. Это был пожилой пенсионер с парализованными ногами. Он передвигался по палате, а иногда выезжал и на веранду в инвалидном кресле, к колесам которого были приделаны специальные рычаги. Папаша сжимал худосочными руками эти рычаги и быстрыми, резкими движениями вращал колеса. Наклонившись вперед, он гонял по палате, а я завидовал ему и представлял, как сам мчусь по больнице в таком кресле, выигрываю гонки в креслах на спортивных состязаниях и кричу: «Дай дорогу!», как это делают велосипедисты.
Во время посещения врача Папаша всегда занимал место у моей кровати. Он внимательно следил за тем, как доктор обходит палату, и готовился, как только тот остановится перед ним, поразить доктора заранее подготовленной речью. В такие минуты с ним бесполезно было разговаривать, он никого не слышал. Однако в другое время он болтал без умолку.
Этот угрюмый старик постоянно жаловался и терпеть не мог обязательного ежедневного мытья.
– Эскимосы вообще не моются, а их и топором не зарубишь, – говорил он, оправдывая свое предубеждение против воды.
Сестра каждый день заставляла его принимать ванну, а он считал, что это наносит вред его легким.
– Сестра, не сажайте меня опять под эту брызгалку, а не то я подхвачу воспаление легких.
Когда он закрывал рот, морщины на его лице превращались в глубокие складки. На круглой голове торчали тонкие, редкие седые волосы, сквозь которые проглядывала блестящая, испещренная коричневыми пятнами кожа.
Я испытывал к нему легкое отвращение – не из-за внешности, которая казалась мне довольно интересной, просто мне не нравилась его грубая манера поведения, и от того, как он говорил, иногда становилось не по себе. Как-то раз он сказал сестре:
– Сестра, сегодня у меня нет никаких выделений из кишечника. Это важно?
Я быстро посмотрел на сестру – интересно было, что она на это ответит, – но она, оставаясь все такой же спокойной, никак не отреагировала на его заявление.
Его жалобы раздражали меня, и я думал, что иногда ему следовало бы говорить, что он чувствует себя хорошо, вместо того чтобы постоянно ныть, как ему плохо.
– Как дела, Папаша? – иногда спрашивал у него Мик.
– Хуже не бывает.
– Ну, зато ты пока не умер, – весело отвечал Мик.
– Нет, но чувствую себя так, будто вот-вот отдам концы. Вот-вот.
Папаша трагически качал головой и катился к постели какого-нибудь новичка, еще не уставшего от его стонов. Он уважал старшую сестру и всегда следил за тем, чтобы не обидеть ее, главным образом потому, что она в любой момент могла отослать его в какой-нибудь дом престарелых.
– В таких местах долго не протянешь, – говорил он Ангусу, – особенно если ты болен. Раз ты больной и старый, правительство так и норовит поскорее от тебя избавиться.
Поэтому в разговорах со старшей сестрой он всегда проявлял такую вежливость, на какую только был способен, стремясь задобрить ее и убедить, что страдает тяжелым недугом, из-за которого ему просто необходимо оставаться в больнице.
– Сердце у меня тяжелое, будто ломоть баранины, – однажды сказал он ей в ответ на ее вопрос о его самочувствии.
Я тут же представил себе стол мясника, на котором лежало влажное и холодное сердце. Мне стало грустно, и я сказал Ангусу:
– Сегодня я себя хорошо чувствую, очень хорошо.
– Вот молодец, – похвалил он, – так держать.
Мне нравился Ангус.
Тем утром, когда старшая сестра совершала обход, Папаша подъехал к камину, в котором горел обогревавший палату огонь.
– Кто трогал занавески? – спросила она.
Открытое окно, на котором они висели, находилось рядом с камином, и ветерок относил их ближе к огню.
– Это я сделал, сестра, – признался Папаша. – Боялся, как бы они не загорелись.
– У вас, наверное, были грязные руки, – сердито сказала она. – И теперь занавески все в черных пятнах. Впредь всегда просите сиделку передвинуть их.
Папаша заметил, что я прислушиваюсь, и позже сказал мне:
– Знаешь, старшая сестра – прекрасная женщина. Вчера она спасла мне жизнь, и хоть я думаю, что этот случай с занавесками ее расстроил, но будь это моя хибара и мои занавески, я поступил бы точно так же. С огнем нельзя шутить.
– Мой отец однажды видел, как сгорел дом, – сказал я.
– Да, да, – нетерпеливо перебил он. – Еще бы… Судя по тому, как он расхаживает по палате, когда приходит тебя навещать, сразу можно догадаться, что он много чего в жизни перевидал. А с огнем шутки плохи… Стоит ему только разок лизнуть шторку, как она тут же вся займется, вот как это происходит.
Иногда Папашу навещал пресвитерианский священник. Этот одетый в черное человек знал Папашу с тех пор, как тот жил в хижине у реки. Когда Папашу положили в больницу, священник продолжал навещать его и приносил ему табак и газету «Вестник». Это был молодой человек с серьезным голосом, пятившийся, словно пугливая лошадь, когда кто-либо из сиделок намеревался с ним заговорить. Папаша очень хотел его женить и предлагал ему то одну, то другую сиделку. Я всегда скучал, слушая, как Папаша нахваливает священника и как сиделки реагируют на предложение выйти за того замуж, но когда он начал приставать с этим вопросом к сиделке Конрад, я выпрямился на постели, вдруг испугавшись, что она, чего доброго, согласится.
– Хороший, холостой мужчина, – говорил ей Папаша. – И домик у него приличный. Может, не очень чистый, но ничего, ты бы там навела порядок. Ты только скажи. Парень он, разумеется, честный…
– Я подумаю, – обещала ему сиделка Конрад. – Может, и на домик схожу поглядеть. А у него есть двуколка и лошадь?
– Нет, – сказал Папаша. – Ему негде держать лошадь.
– Я хочу двуколку и лошадь, – заметила сиделка Конрад.