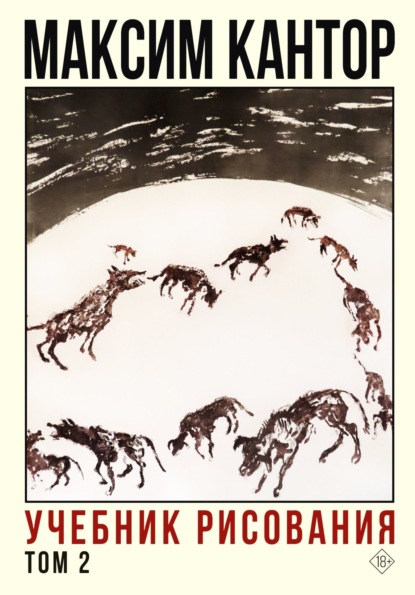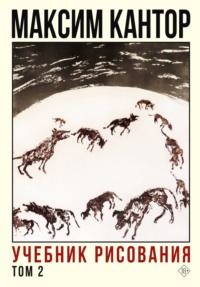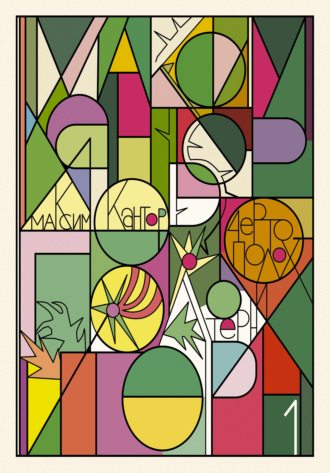
Полная версия
Чертополох и терн. Возрождение веры
Сохранить свободу в том виде, в каком ее воплощала картина утопического Ренессанса – как свободное личное служение христианской парадигме, – оказалось трудно. Прямая перспектива, помимо утверждения личного пространства, освоенного взглядом, создала неизбежные манипуляции с масштабом «другого». Превращение маленького человека на заднем плане в точку, в знак, в стоффаж – соответствует феномену зрения, но заодно и дает основания диктатору (имеющему, как и художник, свой личный взгляд на общество) на унижение тех, кто не вышел на первый план. Случилось так, что в ходе трансформаций социальных – территорией свободы, которую воплощала прямая перспектива, пожертвовали ради идеи государственности. Живопись, понятая как диалог одного с одним, для социальной истории оказалась не особенно нужна.
В ту пору, как Савонарола появляется во Флоренции, репрезентативная значительность прямой перспективы возрастает; возрастает значительность первого плана и усугубляется ничтожество стоффажа, малых сих, помещенных вглубь картины. И происходит это повсеместно, не только в Италии; та наивная искренность, что сопутствует работам кватроченто, сменяется уверенной имперской состоятельностью; уверенность в своей значительности передается и художникам. Автопортрет Синьорелли в капелле Сан Брицио, Орвието (1499–1502) написан с величественной самоуверенностью: мастер буквально принимает участие в Страшном суде, едва ли не на правах архангела. Автопортрет Дюрера, на котором мастер предстает в облике Христа Пантократора («Автопортрет в одежде, отделанной мехом». Мюнхен, Старая Пинакотека), не мог бы возникнуть ранее 1500 г.: требовались отношения с курфюрстом Саксонским Фридрихом, сознание успеха на рынке. Самоидентификация художника меняется разительно, когда он попадает в орбиту внимания императора Максимилиана, но уже в отношениях с Фридрихом Дюрер осознает высокое место в иерархии социума. Художник изобразил себя как «Христа во славе», согласно канонам треченто. Распущенные волосы, рыжеватая бородка, бесстрастное лицо судьи; художник берет на себя роль Иисуса – жест руки, поднесенной к груди, миссию подчеркивает. Поскольку личное пространство художника (перспектива, созданная Дюрером) высушено до состояния гербария, вычищено до хирургической объективности, это не скоропалительное суждение, но обдуманное. Дюрер не может создать мощного оркестра в палитре именно потому, что каждый цвет подчинен дисциплинарной системе, которая вынесла и его, и Максимилиана на первый план. Несомненно, огромную роль играет работа гравера: накладывание сотен тысяч одинаковых штрихов дисциплинирует не только руку, но муштрует сознание. Император Максимилиан заказывает Дюреру триумфальную арку; денег на строительство каменного сооружения нет, желание иметь триумфальную арку имеется. Дюрер выполняет гигантский монумент в виде многочисленных гравюр (192 гравюры), соединенных в единое бумажное прихотливое сооружение, заполненное крохотными персонажами и сценами битв и побед. Потолок Сикстинской капеллы Микеланджело, расписанный несколькими годами ранее, с которым Дюрер познакомился во время путешествия в Италию, служит удачным объектом для сопоставления. Грандиозные фигуры пророков и не менее величественные фигуры грешников (см. героическую фигуру Аммана или тех, кто низвергнут в Страшном суде) создают оркестр равно значимых воль, не авторитарное, но свободно обдуманное определение гармонии, тогда как «Триумфальная арка» Дюрера показывает имперский принцип распределения масштабов.
Важно в этом сопоставлении то, что «Триумфальная арка» Максимилиана и роспись Сикстинской капеллы созданы одновременно – и то, и другое является достижениями Ренессанса. Важно то, что и республиканская, и имперская парадигма представляют Ренессанс одновременно.
Персональная территория прямой перспективы, едва возникнув, присваивается социальной историей. Любопытно, что «восстания» новаторов против искусства живописи затрагивали всегда поверхностный слой культурной амальгамы, лишь то, что социальная история была в состоянии присвоить. К идее картины как к воплощению истории революционные движения отношения иметь не могли: напротив, встраивались в общую цепь исторических мутаций.
10Однажды случается так, что человек решает изменить мир посредством живописи. Живописец возвращается в ту точку ренессансной культуры, когда создавались персональные евангелия в красках. Живописец, как и философ сократического типа, исходит из того, что мир един; явленные нам вещи образованы из единого вещества, из единой для всех философской ртути. Философ убежден, алхимик надеется, странствующий рыцарь знает, что, меняя один элемент мироздания (например, вступая в бой с драконом), ты бросаешь вызов общей несправедливости. По сути дела, живописец – это тот, кто хочет выявить связующую материю мира, – найдя таковую, он может мир изменить.
Манифестом масляной живописи, понятой как философия нравственного действия, является картина Джорджоне да Кастельфранко «Три философа», так же, как и плафон Сикстинской капеллы. На картине Джорджоне изображены три мудреца. Это представители разных конфессий: старик, похожий на пророков Микеланджело, иудей; человек в чалме, возможно, мусульманин; и юноша – христианин. Точнее говоря, он не просто христианин, но христианин новой, ренессансной формации – он поверяет веру знанием: держит в руках измерительные приборы. Если считать мудрецов за иудея, мусульманина и ренессансного христианина, то динамика возрастов понятна. Равно приемлема версия трех наук: астрологии, математики, философии. Юноша занят измерениями природы, старик предъявляет карту Вселенной, человек среднего возраста сосредоточен на скрытой от нас мысли. Говорят также, что изображены Аверроэс, Аристотель и Вергилий. Как ни скажи, верно все: перед нами единство разных философских доктрин (вспомним Пико делла Мирандола, слившего противоречивые учения воедино). В то же время эти три мудреца представляют три различных общественных уклада. Теократиию представляет иудей, монархию – мусульманин и свободную республику – христианин. Мудрецы не беседуют меж собой, точнее сказать, их спор, как у пифагорейцев, происходит в молчании. Спор касается выбора пути – они стоят на распутье, не знают, куда свернуть. Можно увидеть в этих трех мудрецах волхвов на дороге в Вифлеем; перед нами три мага, описанные апостолом Матфеем. Беда Достопочтенный наделил пришедших к Деве мудрецов именами Каспар, Балтазар и Мельхиор; мудрецы эти (их иногда именуют королями) были астрологами, зороастрийцами. Геродот считал, что маги принадлежат к аристократической касте древней Персии, они исследователи небесных светил; впрочем, Джорджоне позаботился о том, чтобы представить три конфессии и три разных происхождения мудрости. Если центрального персонажа, мужчину зрелых лет, легко определить как перса (Мельхиора традиционно изображают в тюрбане), то старик, предъявляющий карту небосклона нетерпеливым жестом, безусловно иудей, судя по нетерпимости: оспаривает утверждения спутников. И младший, конечно же, христианин гуманистической направленности: он желает вычислениями подтвердить или опровергнуть замысел Бога.
Согласно преданию, в начале первого тысячелетия, во время царствия Ирода, было небесное знамение, определяющее начало новой эры – появилась комета. Астрологи, вычислившие по падающей звезде место, на которое траектория падения указывает, отправились искать нового Царя Иудейского, дошли до Вифлеема. Старый Каспар исчисляет путь по заранее составленной карте неба, Мельхиор погружен в себя, вслушивается в пророчество; юный Бальтазар проводит вычисления сам. Любопытно, что маги ищут путь в тот момент, когда уже дошли до цели путешествия. Сцена происходит непосредственно перед входом в пещеру – то есть Мария с младенцем находятся совсем рядом. Остается сделать усилие: увидеть вход, преодолеть слепоту.
Мир духов рядом, дверь не на запоре,Но сам ты слеп, и все в тебе мертво.Умойся в утренней заре, как в море,Очнись, вот этот мир, войди в него, —говорит Гете; именно этот шаг, последний, необходимый для утверждения истины – осуществляет живопись. Живопись воплощает процесс истории, взаимных трансформаций империи и республики, взаимопроникновения перспектив, соседства декоративного и рефлективного, манипулятивного и персонального. Парадокс картины с тремя магами в том, что, коль скоро один из них христианин, то Рождество Христово уже давно состоялось и нужды в поисках пещеры с младенцем нет; но, возможно, описан процесс Возрождения, процесс неустанного открытия истины заново.
Вход совсем рядом, но, не понимая, куда идешь, найти вход невозможно.
Глава 2. Потребность в живописи маслом
1Живопись масляными красками существовала и до ван Эйков, но техника не была разработана. Братья ван Эйк добавили мелочь к имевшимся рецептам: масло, которое они рекомендовали добавлять в пигмент, помогало краске сохнуть чуть дольше. И, соответственно, разрешало вносить исправления в картину, двигать форму. Но главное в ином. Добавленное масло сделало краску прозрачной, и, следовательно, один красочный слой стало возможно класть поверх другого, усложняя цвет. Так возникли цвета, небывалые прежде, невозможные в темперной живописи. Темпера закрашивает поверхность без нюансов – и технику темперы пытались разнообразить. Пробовали, помимо яичного желтка, добавлять вишневый клей, фиговое молоко, мед, все шло в дело, чтобы добиться богатства вариаций. Усложнение техники живописи можно сравнить с обогащением речи: представьте речь без деепричастий, отступлений, тире, кавычек и многоточий. Живопись до изобретения масляной краски была лапидарной, но постепенно становилась сложной, рефлективной. Лессировка (наложение цвета на цвет) есть не что иное, как усложненная лексика.
Всякий цвет делается персонален, всякий цвет есть результат личного решения художника. Художник в буквальном смысле слова «ищет» цвет на палитре. Если прежде заказчик мог оговорить цвет в картине (описывали цвет предельно скрупулезно, особенно когда речь шла о дорогом ультрамарине), то с изобретением масляной краски такого рода условие стало невозможным – нет одинаковых цветов: ночной синий Грюневальда и бархатный синий Мемлинга чем-то схожи, но это два разных цвета, и описывают они разные чувства. И не только чувства описывает цвет, но прежде всего мысли.
Дело в том, что проблему дефиниции чувств решает мысль. Художник именно обдумывает оттенок чувства и решает, почему данное чувство более соответствует замыслу. Анализ чувственной природы собственной души есть не что иное, как философия. В тот момент (непредставимый до изобретения масляной краски), когда художник составляет замесы на палитре, он в буквальном смысле этого слова философствует.
Здесь важно установить различие между «умозрением в красках» (воспользуюсь определением Трубецкого, данным иконописи) и «размышлением с кистью в руке» (как Эмиль Бернар назвал метод Сезанна). Умозрение в красках есть выражение верности идеологии, речь идет о том, чтобы определенную догму (умозрение) передать посредством цвета и линий; умозрение предшествует нанесению краски на поверхность. Размышление с кистью в руке само не знает, что окажется его результатом; философствование не имеет априорного решения и, соответственно, подсказать художнику нужный цвет не может. Судя по контексту его воспоминаний, Бернар не вкладывал в выражение «размышление с кистью в руке» понятие «философствование», в то время как медленное конструирование цветного мира, чем и занимался Поль Сезанн, было абсолютным философствованием в духе Анаксагора. При этом конечный продукт размышлений был Сезанну неведом.
Процесс философствования затруднителен в отсутствие сложной лексики, в отсутствие разнообразия в определениях – бесчисленные оттенки и тона краски и есть повороты мысли, уточнения суждения; техника письма масляными красками дала возможность живописи перейти в качество философского рассуждения. Какого цвета гора Сен-Виктуар на полотне Сезанна? Это невозможно сказать, в ней сочетаются мириады оттенков; оттенки уточняются, переписываются; постепенно, в ходе написания картины, суждение твердеет и каменеет. Мы не знаем, какого цвета тьма Рембрандта. Условно говоря – коричневого. Но это ничего не объясняет, поскольку рембрандтовский коричневый имеет тысячу оттенков: медовый, пепельный, сумрачный. Часто, глядя в вечернее темное небо, мы не знаем, каким цветом его определить: темно-синим, лиловым, черным? Иконописец справлялся с этим просто – иконописец берет тот условный цвет, который характеризует горний мир. Но живописец масляными красками может доискаться до оттенка, которого никогда не существовало. Смешение цветов является усложнением мысли.
В данной связи любопытно высказывание Делакруа о смешении цветов: не следует смешивать больше трех – это ведет к невнятице (не напоминает ли это известный афоризм Оккама).
Время, в которое возникла живопись маслом, то есть время Ренессанса, характеризуется прежде всего самоопределением личности. Нет, человек далеко не чувствует себя центром мироздания (как порой представляют ренессансный дискурс), но гуманист стремится к тому, чтобы всякий религиозный духовный опыт пережить не только экстатически, но разумным сознанием. Данте в Vita Nuova говорит о «второй даме», существующей рядом с Беатриче; эта вторая дама – Философия. Живопись маслом стала наиболее адекватным выражением личной свободы, поверенной разумом. В европейском процессе Возрождения (понятом как новое переживание христианской доктрины) именно живописи выпала роль перевести веру из статуса догмы в акт осознанного разумного персонального переживания.
Живопись масляными красками, таким образом, стала квинтэссенцией европейской свободы, то есть самосознания, основанного на нравственном выборе.
Тотальные государства и авторитарные режимы Европы несколько раз предпринимали попытки вернуть живопись масляными красками из статуса философствования обратно, в качество идеологическое и пропагандистское. Всякий раз живопись – именно в своей философской ипостаси – выживала; но территория ее существования делалась все уже, и требовалась живопись все реже.
Разумеется, для массовой культуры живопись маслом враждебна; в силу этого объявлена анахронизмом. Свобода в массовой культуре понимается иначе. Сегодня победа над живописью практически совершившийся факт. Восстание авангарда против культурных табу, новая языческая эстетика, в первую очередь устранила картину, выполненную масляными красками, – ту, ренессансную, с индивидуальной перспективой и неповторимым цветом.
Чтобы говорить о живописи масляными красками, о технологии, внедренной в изобразительное искусство в XV в., следует исходить из трех пунктов.
1. Нововведение внутри христианской эстетики.
Помимо живописи для храмов, к тому времени существовала и живопись для гражданских собраний: фрески в палаццо и картины, выполненные для ратуш, однако эта живопись находилась внутри христианской эстетики. Групповой портрет семейства Медичи выполнен Беноццо Гоццоли внутри процессии поклонения волхвов. Светская живопись того времени неотторжима от христианской парадигмы – и дополнительная сложность, внесенная в картину, должна учитывать это обстоятельство. Рефлексия – буде таковую позволяет новая техника – относится именно к христианским моральным ценностям, к пониманию и уточнению этических норм. То, что возникла потребность усложнить символику, надо рассматривать внутри христианской парадигмы.
2. Живопись масляными красками вошла в обиход культуры Европы во время войн, церковных расколов и эпидемий. Иными словами, живопись масляными красками и персональное переживание христианской этики возникли тогда, когда культура Европы заглянула в небытие. Европейская церковь переживает схизму; происходит отторжение восточного христианства от западного. Столетняя, крестьянские и религиозные войны уничтожают население с пугающей равномерностью одновременно с чумой, приходившей в Европу дважды и унесшей миллионы жизней, одновременно с пандемией английской потовой горячки, погубившей миллионы. Возникает Реформация, то есть единая христианская вера распадается на десятки конфессий, и трудно не заметить, что если одна из них верна, то, значит, приверженцы прочих не спасутся. Живопись – есть то, что стоит на пути смерти, на пути небытия. Подобно тому, как египетский фаюмский портрет есть память о покойном, так сложное философское рассуждение масляной живописи – есть памятник сознанию, которое бессмертно и перед лицом небытия.
3. Живопись масляными красками возникла параллельно с возникновением гравюры и широким распространением таковой. Живопись масляными красками возникла чуть раньше, и гравюра во многом была ответом на сложность живописи. То есть, иными словами, предельное усложнение высказывания существовало параллельно упрощению и спрямлению высказывания. Живопись масляными красками во многом имманентна католической вере – впрочем, мы знаем и примечательные исключения: Рембрандта и Вермеера, а также ван Гога. Надо принять во внимание, что в тот момент, когда большая часть европейского мира хочет предельной простоты, находятся такие, кому нужна еще большая сложность для определения смысла существования, нужна рефлексия, чтобы осознать себя живым и свободным.
Собственно, открытие новой технологии состояло в том, что пигмент, добытый из камня, растений или земли, смешивался с льняным маслом. Ван Эйки рекомендовали масло ореховое, в частности кедровое. Пигмент перетирали самостоятельно, существует несколько и поныне актуальных рецептов, как добавлять масло.
Полученный красочный материал обладает свойствами прозрачности и разрешает накладывать так много слоев краски, как пожелает мастер. Масло, проникая сквозь все слои, связывает их, образуя единый покров, краска каменеет, и оторвать слой от слоя невозможно. В результате всех этих возможностей, наслоений и перемен возникает небывалый до того эффект: появляется цвет, которого прежде в природе – или в символическом ряду красок – не существовало. Комбинаторика цветов стала бесконечной. Прежде, когда живописец готовил краску (растирал пигмент, смешивал с яичным желтком), он уже готовил элемент картины – и элемент в более общем смысле: элемент мироздания, умозрения, которое он описывал. Но живопись масляными красками принимает первичный цвет лишь как возможность комбинаций, как первый шаг в освоении небывалого. В результате опытов и размышлений получается цвет, которого прежде не было, такой цвет, пигмент которого мы не можем получить физическим путем. Говоря о смешении элементов, как не вспомнить алхимию, и неслучайно алхимия зарождается параллельно масляной живописи.
Австрийский историк искусств Отто Бенеш обронил фразу о родстве мастеров дунайской школы (Donauschule) с Парацельсом (Paracelsus; Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim) и сравнивал сам процесс работы верхненемецких мастеров с алхимией. Но исходил Бенеш в этом сравнении только из того, что мастера (такие, как Альтдорфер или Бальдунг) употребляли, по мнению Бенеша, цвета, соотносимые в понимании с основными элементами. Так в «Битве Александра Македонского с Дарием» кисти Альтдорфера Бенеш различает элементы negredo, albedo, rubedo – соответствующих черной ночи, бледной луне, пылающему солнцу. Но это лишь номинальное указание на конкретный объект или конкретный цвет, который (в том числе и по Парацельсу) несет конкретную символику. Так, в сущности, обстояло дело и до изобретения масляной живописи: в иконах всякий цвет непреложно является символом. Но особенность масляной живописи состоит именно в том, что символ уже не связан с конкретным цветом – но сам процесс живописи, смешивания красок, наслоения одного цвета поверх другого, сделался поиском небывалых символов. Таким образом, набор символов, или таблица элементов, если угодно, расширился невероятно. Кажется, что до бесконечности умножать количество символов невозможно (см. Делакруа и Оккама), но европейская живопись маслом доказала, что существует не просто страдание (красный цвет), но тихое страдание, гордое страдание, мелодраматическое страдание, оскорбленное страдание, возвышенное страдание и т. п. – и эти дефиниции стали возможны благодаря масляной технике. Живописная кухня в целом, все это алхимическое варево в тигле, стала ежесекундным поиском нового сочетания элементов. Если пойти дальше в рассуждении Бенеша, то можно сказать, что процесс масляной живописи есть поиск связи вещей, то есть поиск философского камня – lapis philosophorum. Живопись маслом занимается ровно тем, чем занимается Фауст: ищет то взаимопроникновение смыслов, связь вещей, которую Фауст обозначает целью в первом же монологе: ученый овладел квадривиумом наук, но не понимает связи этих наук меж собой. Фауст полагает, что есть нечто, что связывает все науки, – то, что алхимики называли «философским камнем».
Живопись масляными красками – это поиск философского камня.
Опыты художников длятся бесконечно. В картинах Жоржа Руо наслоения краски напоминают рельефную географическую карту, так долго художник искал нужный цвет. И льняное масло, проникая из верхнего красочного слоя в нижний, связывает все слои в единую субстанцию – тот самый lapis philosophorum.
Не просто усложнение одного цвета; живопись сложными оттенками масляной краски, в отличие от живописи локальными цветами, позволяет вплавлять цвет в цвет, символ в символ, искать общую карнацию, общее равномерное звучание всей колористической гаммы, то, чего не знала иконопись. Иконопись традиционно сочетает контрастные цвета – и колорит новгородской иконы, как бы ни были далеки культурные алгоритмы, не отличается радикально от колорита иконы греческой или итальянской: во всех случаях мы наблюдаем столкновения локальных цветов. Иное дело масляная живопись. Мы знаем, что картины Рембрандта обладают медовой карнацией, то есть все цвета соединились, чтобы произвести оркестровый, полифонический эффект. Возникла симфония. Картины Леонардо обладают серебристо-зеленой карнацией, картины Гойи густо-лилово-черной, а картины Сезанна прохладной фиолетовой. Это тот общий дух, общий цветной воздух, который возникает от вплавления цвета в цвет.
Такого рода работа требовала времени – не закрасить поверхность, но создать поверхность; художники работали над картиной годами. Леонардо возил за собой доску с Моной Лизой и возвращался к работе постоянно. Это длящееся рассуждение изменило не только образ жизни художника, но саму суть искусства. Известны случаи, когда художник переписывал картину по сотне раз, как, например, Пикассо с «Авиньонскими девушками» (Макс Жакоб, свидетель этих перемен, говорил, что однажды друзья найдут Пикассо повесившимся за этой картиной); или Делакруа, который переписал «Резню на острове Хиос» прямо в зале музея за день до открытия выставки – увидев светлые картины Джона Констебля, он захотел изменить свое высказывание. Если внимательно смотреть на картины Домье, мы увидим, что художник даже не старается спрятать процесс перемен – поиск точной линии, точного ракурса стал содержанием работы. То же самое можно сказать о Сезанне и Пикассо – процесс рефлексии и отрицания есть свидетельство свободы. Ничего подобного при работе темперой допустить нельзя, даже технологически невозможно. Желток, который использовали как связующее в темперной живописи, не скрепит один слой краски с другим столь прочно. То же касается и фресковой живописи, мастерам которой приходилось сбивать штукатурку со стены, если требовалось изменить ракурс или цвет.
Добившись свободы в отрицании, живопись масляными красками ушла от стены.
Работа с масляной краской ввела в употребление холст как основу произведения. Холст (и нанесенный на него грунт) принимает в себя краску, образует с ней (при грамотной технологии) единое целое. Тогда как дерево и стена могут воспринять лишь один слой изображения. Холст изменил самосознание художника, изменил даже позу живописца. Художник, стоящий с палитрой и кистью перед холстом, напоминает фехтовальщика, рыцаря с мечом и щитом. Шаг к холсту – и шаг прочь, чтобы посмотреть на результат работы издали; художник движется по мастерской как фехтовальщик. В отличие от стены или деревянной панели холст, этот подвижный материал, как бы резонирует с усилием, отвечает на нажим кисти – ткань вибрирует, трепещет. Холст знаменателен еще и тем, что в буквальном смысле воплощает парус корабля (Гоген, например, использовал в работе и парусину). Холст, натянутый на подрамник и установленный на мольберт, напоминает парус, трепещущий на реях, – и это сходство совсем не случайно. Холст как поверхность для живописи появился в эпоху географических открытий и воплощает парус как знак эпохи. Есть существенное преимущество в работе на холсте, такая работа оставляет простор для переделок: вы не можете достроить стену и увеличить доску. Но история искусств знает многие сотни великих холстов, которые просто надставлены, подшит еще один фрагмент к полотну, если воля художника просит увеличить размер или изменить композицию. Хрестоматийный пример – работа Рембрандта «Борьба Иакова с ангелом» (Берлинская картинная галерея), в которой художнику пришлось надставить холст; или его же «Заговор Юлия Цивилиса» (Национальный музей Швеции); программный холст Курбе «Мастерская» (музей Орсе, Париж) – таких примеров многие сотни.