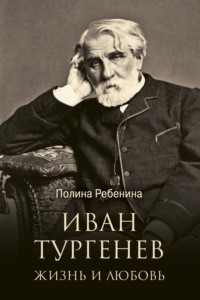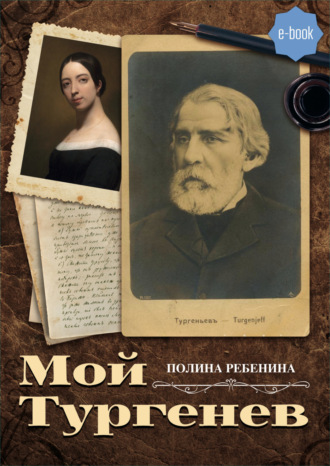
Полная версия
Мой Тургенев
Оправившись от болезни, Тургенев поехал в загородный дом Виардо Куртавнель – он не был злопамятен, да и на то, чтобы снять квартиру в Париже, денег у него не было. Мать Тургенева после 1848 года присылать деньги перестала, считая, что в эти тревожные революционные времена наступила пора ее блудному сыну вернуться домой. Деньги же за издание произведений поступали нерегулярно, российская цензура после революционных событий в Европе свои требования ужесточила, и пьесам Тургенева было отказано в публикации.
Это было их третье, и последнее лето в Куртавнеле. В это время происходило многое, важнейшее в любви Тургенева и Виардо. «Помните ли вы тот день, когда мы смотрели на небо, спокойное, сквозь золотистую листву осин?» Вспоминает о дороге, обсаженной тополями и ведущей вдоль парка в Жарриэль. «Я опять вижу золотистые листвы на светло-голубом небе, красные ягоды шиповника в изгородях, стадо овец, пастуха с собаками и… еще много другого». Неизвестно ничего об этом «другом», но можно догадываться, что здесь сближение произошло полное, о чем говорят строки от 26 июня 1849 года в тургеневском «Мемориале»: «Первый раз с П(олиной)». Постепенно он становится практически членом семьи Виардо, он всегда был рядом, словно верный пес на коротком поводке властной Виардо. Это свое нелегкое положение он описал позднее в повести «Переписка»: «…Я принадлежал ей весь, вот как собака принадлежит своему хозяину…»
В июле Виардо, как обычно, уезжает на гастроли в Англию, а Тургенев остается в Куртавнеле один и ежедневно пишет любимой женщине письма. Чтобы отработать свое скудное пропитание писатель буквально батрачил в Куртавнеле – чистил куртавнельские канавы от густых зарослей («мы работали как негры в продолжение двух дней»), поливал цветы, пропалывал сорную траву в оранжерее. Тетка Полины как-то сжалилась над полуголодным бедным поэтом и дала ему 30 франков. Тургенев тут же на эти деньги купил билет и уехал в Париж, чтобы купить газеты, и прочесть последние новости о выступлениях Виардо.
Много передумал Тургенев в куртавнельском одиночестве, подводя итоги пережитых дней. Вызывало грусть его шаткое положение; в регулярной помощи матери ему теперь было отказано, жить литературой невозможно: шли более или менее свободно только «Записки охотника», драмы натыкались одна за другой на цензурный запрет. Двусмысленным было существование Тургенева в чужом семействе. В письмах к Полине кроме обычных восхищений «любимейшим и благороднейшим существом во всем мире», попадались и тревожные вопросы по-немецки: «Что случилось с Виардо? Может быть, ему неприятно, что я здесь живу?»
А между тем Варвара Петровна летом 1849 года все-таки прислала блудному сыну 600 рублей на дорогу, но этих денег Ивану едва хватило на оплату долгов. Не зная об этих долгах Ивана, Варвара Петровна его ждала, делала в Спасском все необходимые приготовления к приезду сына, и даже пыталась обласкать тех дворовых, к кому он благоволил.
Осенью 1849 года Тургенев вернулся в Париж. Здесь у него установились добрые отношения с французскими литераторами, он подружился с Жорж Санд, познакомился с Мериме, начал выступать в качестве посредника-миссионера, пропагандиста русской литературы в Западной Европе. Благодаря Тургеневу, Мериме прочел Пушкина и Гоголя, с помощью Тургенева переводы русских классиков вышли в Париже на французском языке. 5 октября 1849 года умер Шопен. Отпевание и похороны великого польского композитора состоялись 18 октября. Согласно завещанию, на его заупокойной мессе был исполнен реквием Моцарта в инструментовке Ребера. Сольные партии в парижской церкви святой Мадлены исполняли Виардо, Кастеллан и Лаблаш. В короткой записочке Эмме Гервег Тургенев написал: «Вот Вам билет на отпевание Шопена. Как Вы поживаете? Я по-прежнему очень плохо».
Материальное положение Тургенева было тяжелым. В это время он существовал на литературные заработки в «Современнике», да на редкие авансы у Краевского («Отечественные записки»). Денег заработанных литературным трудом катастрофически не хватало. В ноябре 1849 года он посылает отчаянное письмо Краевскому: «Темные слухи дошли до меня, любезнейший Краевский, что Вы напечатали в «О<течественных> з<аписках>» моего «Холостяка». – Желаю, чтобы он понравился русской публике. Но дело не в том – а вот в чем: я получил от моего брата письмо, в котором, после красноречивого описания расстройства наших дел, благодаря болезни моей маменьки и прочим обстоятельствам – он сообщает мне печальное известие, а именно: я не только не получу от нее должные мне за нынешний год 6000 р., но и вообще не должен надеяться на подмогу из родительского дома. Это известие меня крайне сконфузило – и потому прибегаю к Вам с следующей убедительной просьбой: сколько я Вам должен за вычетом «Холостяка»? Положим: х; прибавьте к этому 300 р. сер., и я Вам буду должен 300 р. сер. + х. Я Вас могу уверить, что я всё это в скорости заработаю (не я же виноват в том, что «Нахлебнику» отсекли голову)».
Вскоре летит его следующее письмо и опять с мольбой о деньгах: «Шесть недель тому назад, любезный Краевский, послал я к Вам письмо, в котором излагал мое печальное положение и просил выслать мне 1000 руб. Ответа я от Вас до сих пор не получил никакого: вероятно, Вы сперва хотели обождать мою присылку. К сожаленью, я до сих пор еще ничего не успел кончить; но вот что я могу Вам предложить. На днях я прочел в одном письме гр<афа> Виельгорского (Матвея) весьма большие похвалы моему «Нахлебнику», которого в одном обществе прочел Щепкин. Граф прибавляет: «Cette piece n›a pas encore ete jouee» (Эта пьеса еще не была сыграна, франц. – П. Р.). Стало быть, есть надежда, что ее дадут – и в таком случае позволят печатать. – Вот Вам и пожива… Если Вы в надежде на эту возможность, а также вообще на мою литературную деятельность, решитесь мне выслать 1000 руб., я очень буду доволен, особенно если Вы не замешкаетесь. Я нахожусь в совершенной крайности. Вместе с высылкою (если Вы решитесь мне выслать деньги) напишите мне аккуратно – сколько я Вам остаюсь должен. Только повторяю – не мешкайте и решитесь тотчас: да или нет».
В декабре 1849 года благодарственное письмо в связи с полученными деньгами:
«Сию минуту получил я Ваше письмо, любезный Краевский, с приложенными 300 р. сер. – и немедленно отвечаю. Эти деньги решительно спасли меня от голодной смерти – и я намерен доказать Вам мою благодарность. – Во-первых, посылаю Вам переписанную треть «Дневника», вещи давно оконченной, но по непростительной моей лени и неряшеству до сих пор не переписанной вполне; я Вам посылаю это для того, чтобы доказать Вам, что этот «Дневник» – не миф; над остальным я буду трудиться денно и нощно…»
Весной 1850 года Варвара Петровна снова выслала сыну деньги на дорогу в Россию при условии безотлагательного возвращения: она чувствовала себя нездоровой. Но и этих денег Тургеневу не хватает и летит новое письмо Краевскому: «Вы, может быть, не забыли, любезный Краевский, что я имел намерение вернуться в Россию в мае месяце; я более, чем когда-нибудь, желаю теперь вернуться; для этого мне недостает одного: денег. Мне совестно говорить об этом Вам, которому я уже без того много должен; но я прошу немного: 200 р. сер.»
Он был вне себя оттого, что просил издателей, чтобы как-то прожить, в то время как мать в России владела тысячами крепостных. Но может быть, и в самом деле не было другого выхода, кроме возвращения на родину? Но он тянет до последнего, ведь оторваться от умной и властной Виардо трудно, почти невозможно. «Россия, – писал он ей, – эта мрачная громада, неподвижная и окутанная облаками, словно Эдипов Сфинкс, – подождет. Она меня проглотит позднее. Мне кажется, что я вижу ее неподвижный взгляд, остановившийся на мне с угрюмой пристальностью, подобающей каменным очам. Будь спокоен, сфинкс, я к тебе еще вернусь, и ты сможешь пожрать меня в свое удовольствие, если я не разгадаю твоей загадки. Оставь меня еще ненадолго в покое! Я возвращусь в твои степи». (4 мая 1850 года.)
* * *Весной 1850 года Тургенев снова отправляется в Куртавнель, но теперь уже не один, а вместе с композитором Шарлем Гуно и его матерью. На душе у Тургенева неспокойно, он страдает, подозревая, что он теперь, возможно, не единственный предмет обожания мадам Виардо, по-видимому, у нее появился новый возлюбленный.
Шарль Гуно был тогда никому не известным начинающим композитором, выбирающим между карьерой священника и музыканта. Когда Полина, тогда уже известная певица, услышала его первые сочинения, то сразу поняла, что перед ней был гений. Она написала с восторгом о Гуно подруге Жорж Санд (10 февраля 1850 г.): «С некоторого времени я очень счастлива. Мы познакомились с одним молодым композитором, который будет великим человеком, как только музыка его станет известна. Он получил римскую премию лет десять тому назад и с того времени уединенно работал в своем кабинете, по-видимому не догадываясь о том, что каждая фраза, выходящая из-под его пера, несет печать гениальности… Помимо гениальности, это человек очень приятный, благородный по природе, воспитанный и простой. Я уверена в том, что он очень вам понравился бы».
Полина Виардо рассчитывала спеть главную партию в его опере «Сафо», над которой в то время упорно трудился Гуно, и тем самым еще выше прославить свое певческое искусство. В свою очередь Жорж Санд пишет с огромным восхищением о Гуно и его опере «Сафо» к П. Бокажу 16 марта 1851 г.: «Гуно, новый Моцарт, первый композитор века, музыкальный гений, который откроет новую эру: я не шучу. Он еще малоизвестен… При первой репетиции певцы, трубачи, суфлеры, распорядители, слуги, стар и млад, все заливались слезами. Я жду эту оперу; он мне пропел ее всю целиком под фортепьяно у Полины. Это шедевр. Это великое, это единственное, самое прекрасное из того, что только может быть. Более того, это очаровательный молодой человек – сердцем, и характером, и взглядами».
Виардо приглашала Гуно и его мать поселиться в доме на улице Дуэ еще зимой 1849 года во время ее гастролей, но они не приняли этого приглашения. Однако согласились провести лето в Куртавнеле. Эта новая любовь певицы разгоралась на глазах у Тургенева, а он тяжко ревновал и страдал. Полина, которая в это время пела в Берлине, писала Гуно, а не Тургеневу, и он мучился и молчал, но иногда все-таки горечь прорывалась в письмах: «…Вы не слишком-то баловали меня письмами этим летом – я знаю кое-кого, кому не раз уже завидовал – он-то их получал! и какие мясистые, плотные, написанные мелким почерком, который к концу становился еще более мелким». Или: «Это чудовище Гуно получает письма на 8 страницах! Ну что же! я не стану завидовать его счастью». Позднее в повести «Вешние воды» Тургенев не удержался и описал пережитое в эти месяцы: душевные терзания Санина, который обнаружил железное кольцо на пальце своего соперника барона Донгофа, а ведь это был знак любви, полученный им самим от мадам Полозовой.
В душе певицы не раз кипели бурные страсти. Она вспоминала в письме: «Я бы совершила великий грех, так как лишилась воли. Я вовремя опомнилась, чтобы с разбитым сердцем, выполнить свой долг. И была вознаграждена позже – о! Мне надо было победить свои цыганские инстинкты – убить страсть – я чуть не умерла от этого. Я хотела убить себя, что было малодушием. Шеффер, который наблюдал за мной как отец, остановил меня. Он привел меня домой – в полусознательном состоянии».
Тургенев чувствовал себя несчастным, лишним и решил вернуться в Россию. Мадам Виардо его отговаривала, но он был непоколебим: «Я в отчаянии – без преувеличения – оттого, что вас огорчаю… вы легко можете представить себе, что во мне происходит: пощадите меня, прошу вас, мои добрые друзья, не делайте моей участи тяжелее; она, поверьте мне, и так уже достаточно тяжела. В будущий понедельник я покину Куртавнель: три дня я проведу в Париже. Из Парижа я уеду 10-го, 20-го буду в Берлине». Он живет под одной крышей со своим счастливым соперником, и это становится невыносимым.
В последнем письме перед отъездом он пишет Виардо: «У нас с Гуно теперь по два ваших дагерротипа. На моем глаза смотрят, как живые. Я очень доволен, что oн y меня есть». В последних письмах перед отъездом в Россию пронзительные слова: «Знаете ли вы, чем я занимаюсь, когда мне очень грустно? Я собираю все свои душевные силы, стараюсь сделаться как можно добрее и чище, благоговейно сосредоточиваюсь, дабы благословить вас, дабы произнести самые нежные вам пожелания… Да будет ваша жизнь счастливой и прекрасной – и я обещаю небу никогда ничего но просить у него для себя… Что до меня, то мне нечего давать вам обещание часто вспоминать о вас; я и не буду заниматься ничем иным; уже отсюда я вижу себя сидящим в одиночестве под старыми липами в моем саду, обратившись лицом к Франции, и тихо шепчущим: где они, что они сейчас делают? Ах! я так чувствую, что оставляю здесь мое сердце. Прощайте; до завтра».
Он понимает, что начинает совсем новую жизнь после трех лет во Франции у ног мадам Виардо, и в глубине души надеется, что сможет освободиться от колдовских чар и уезжает на Родину навсегда. Верил, что наконец-то подошел к концу этот долгий и мучительный роман. Он пишет на прощание теплые письма Полине и ее мужу и уезжает в Россию. Возвращением Тургенева на Родину в июне 1850 года ознаменовался конец первого периода любви к Виардо. Впереди шесть лет жизни в России, вдали от Виардо, которые оказались исключительно плодотворными для его творчества.

Дом В. П. Тургеневой на Остоженке. Известен, как «дом Муму»
14. Возвращение в Россию
Итак, 17 июня 1850 года Тургенев выезжает из Парижа в Штеттин, и дальше на пароходе в С-Петербург. Здесь он останавливается ненадолго и сразу оказывается в потоке бурлящей писательской жизни, которая царит в редакции журнала «Современник». Он отдает в печать новые очерки к «Запискам охотника» и спешит дальше в Москву.
Здесь в большом доме на Остоженке его с нетерпением ожидают мать и брат с женой. Варвара Петровна бесконечно рада возвращению Ивана, однако поведение обоих сыновей ее глубоко огорчало. Старший сын Николай ушел в отставку, увлекся служанкой, жил как попало, младший Иван бросил службу, проводил время за сочинением, ездил по заграницам, волочился за певичкой. Оба ускользнули от ее власти, шли своим путем, в то время как она хотела бы держать в своих руках не только их самих, но и их жен, их детей. Обуреваемая тоской по детям, она еще задолго до приезда Ивана приказала повесить у входа в усадьбу в Спасском табличку с надписью «Они вернутся».
Варвара Петровна, здоровье которой к тому времени улучшилось, была счастлива видеть сыновей в своем доме. Разговоры с матерью, с братом и его женой, с воспитанницей Варенькой отнимали у Ивана все первое время. Хотелось ему встретиться со своими московскими друзьями, но денег не было, мать, хоть и рада приезду сыновей, но щедрее от того не стала. Не было денег даже на извозчика и, чтобы куда-то выехать, вынужден Иван занимать деньги у крепостного слуги Порфирия.
Еще хуже было положение его брата Николая, который женился тайком, против воли матери, и та долгое время не могла этого простить. В конце концов сделала шаг навстречу – предложила Николаю, в семье которого уже появилось на свет двое детей, оставить службу в Петербурге и переехать поближе к ней, в Москву. Дом для сына она присмотрела уже давно, но долгое время тянула с его покупкой, все не желая расставаться с деньгами. Переехать-то семья брата, все-таки, переехала, а вот денег на жизнь мать им не давала. Свой заработок, который Николай имел в Петербурге, он потерял, а нового в Москве пока не подыскал, и нужду они терпели страшную. Когда приехал брат Иван, то Николай сразу поделился с ним своей бедой.
Варвара Петровна была барыней-крепостницей, она привыкла казнить и миловать, в полной мере распоряжаться жизнями окружающих людей. Ощущение власти над другими она ценила высоко. Такой же была она и по отношению к своим сыновьям, их материальная зависимость давала ей возможность удерживать их в своих руках. Обдумав и обсудив сложившуюся ситуацию, решили братья сообща упросить мать назначить им хоть бы небольшое, но постоянное содержание.
Варвара Петровна выслушала их просьбу спокойно и заявила, что подумает. Прошло несколько дней, и она пригласила сыновей подняться в большой зал, где торжественно вручила им два запечатанных конверта. Братья взяли конверты, открыли их и увидели, что в одном из них была дарственная на имение Кадное – для Ивана, в другом на имение Сычево – для Николая. В первый момент они обрадовались, но, рассмотрев повнимательнее содержимое конвертов, опешили – это были две простые записки без всех необходимых печатей и подписей, то есть две ничего незначащие бумажки. Все было ясно – мать в очередной раз обвела их вокруг пальца, уж очень не хотелось ей расставаться со своим имуществом. Позднее управляющий по секрету шепнул Ивану о том, что маменька распорядилась в пожалованных имениях срочно продать весь хлеб на корню и в амбарах, а вырученные деньги положить на ее имя.
Братья ушли страшно обиженные, посовещались, и решили записки эти вернуть матери, а сами отправиться жить в Тургенево, в маленькое имение, которое им по праву принадлежало после смерти отца. Однако уже на следующий день мать подступила к Ивану с возмущенным допросом: «Вы что же недовольны тем подарком, который я вам сделала?» Иван начал объясняться дрожащим голосом: «Но ведь мы ничего от тебя не получили, ты дала нам бумажки не подписанные и не заверенные, и значит, что ничего у нас как не было, так и нет». Но закончил уже смелее, захлестнутый отчаянием от того бедственного положения, в котором они с братом оказались: «Кого ты не мучаешь? Всех! Кто возле тебя свободно дышит? Ты боишься нам дать что-нибудь! Ты боишься утратить свою власть над нами! Мы были тебе всегда почтительными сыновьями, а у тебя в нас веры нет, да и ни в кого и ни во что у тебя веры нет. Ты только веришь в свою власть! А что она тебе дает? Право мучать всех. Вспомни только Полякова, Агафью… (дворовых – П. Р.), всех кого ты преследовала, ссылала, все они могли бы любить тебя, все были готовы жизнь за тебя отдать, если бы… а ты всех делаешь несчастными; – да я сам полжизни бы отдал, чтобы всего этого не знать и всего этого тебе не говорить… Тебя все страшатся, а между тем тебя могли бы любить!»
Услышав эту непочтительную речь, Варвара Петровна впала в безумную ярость, прогнала сына, а затем, в исступлении, схватила его портрет, с силой бросила об пол и разбила. Она до последнего не могла поверить, что ее сыновья посмеют ослушаться, и сделать по-своему – оставить ее и самовольно переселиться в имение Тургенево. Убедившись в этом, она порвала с сыновьями всякую связь, хотя они пытались добиться прощения. Через несколько дней она переехала в Спасское, которое находилось всего в 18 верстах от Тургенева, но встречаться с сыновьями не желала. А между тем здоровье ее становилось все хуже.
* * *Из села Тургенево Иван пишет Полине Виардо: «Боже мой! что за прекрасное солнце – что за сияющее небо! И такое тоже бывает в России – неправдоподобно – но это так. Только подумать, что свету нужна какая-то неуловимая доля секунды, чтобы попасть отсюда в Лондон… с одним из этих великолепных лучей я шлю вам наполняющую мое сердце любовь. Я уже принялся за работу; так надо – теперь, когда мне осталось жить только этим – и потом, я чувствовал в этом потребность».
Наконец-то Иван начинает замечать, что жизнь в России имеет свои преимущества. С каждым прожитым в родных местах днем это чувство становится все сильнее: «Я должен всё же сказать, что в родном воздухе есть почто неуловимое, трогающее нас и хватающее за сердце. Это невольное, скрытое тяготение тела к той земле, на которой оно родилось. И потом, детские воспоминания, эти люди, говорящие на вашем языке и сделанные из одного теста с вами, всё, вплоть до несовершенств окружающей вас природы, несовершенств, которые делаются вам дорогими, как недостатки любимого существа – всё вас волнует и захватывает. Хоть иной раз бывает и очень плохо – зато находишься в родной стихии».
Иван переписал свою долю имения Тургенево брату, а сам стал планировать свой переезд в Любовшу. Это было малодоходное лутовиновское имение в Новосильском уезде, которое мать все-таки подарила Ивану в августе 1850 года. Время от времени Иван Сергеевич тайком приезжал в Спасское и расспрашивал слуг о здоровье матери.
Еще в Москве в материнском доме Иван, к своему великому удивлению, увидел восьмилетнюю девочку, которую все дворовые называли его дочерью. Тут он вспомнил о своей любовной связи со швеей Авдотьей, и о девочке Пелагее, которую та родила в Москве. Оказалось, что Варвара Петровна девочку у Авдотьи забрала, и она жила среди дворовых. Об истории появления девочки на свет Тургенев рассказал в письме к Виардо от 18 сентября 1850 г.: «И раз мы коснулись такой темы, я расскажу вам в двух словах о моем деле с матерью девочки. Я был молод… это было девять лет назад – я скучал в деревне и обратил внимание на довольно хорошенькую швею, нанятую моей матерью, – я ей шепнул два слова – она пришла ко мне – я дал ей денег – а затем уехал – вот и все – как в сказке о волке. Впоследствии эта женщина жила как могла – остальное вы знаете. Все, что я могу делать для нее – это улучшать ее материальное положение – это мой долг и я буду исполнять его – но даже увидеться с ней для меня было бы невозможно».
Однако не все было правдой в этом кратком рассказе. О беременности от него швеи Авдотьи и о предстоящих родах Тургенев узнал еще в 1842 году, о чем сохранилась его запись в Мемориале: «В мае родится Полинька». Теперь Тургенев увидел восьмилетнюю девочку, которая тащила тяжелое ведро с водой, набранной в колодце. Девочка была настолько сильно на него похожа, что не оставалось никакого сомнения в его отцовстве. Маленькая Пелагея сильно тяготилась своей жизнью и жаловалась на то, что никто ее не любит. Ивану Сергеевичу стало стыдно и жалко ребенка, и он поклялся себе, что позаботится о ней, и его дочь никогда не будет знать нужды. Он написал Виардо: «Я почувствовал свои обязанности по отношению к ней, и я их выполню – она никогда не узнает нищеты, я устрою ее жизнь, как можно лучше… Скажите, что вы обо всем этом думаете и что я должен сделать – я собираюсь отдать ее в монастырь, где она останется до 12 лет – там и начну ее воспитание».
Певица быстро отозвалась и распорядилась, чтобы Тургенев отправил девочку к ней, при этом она выговорила очень высокую плату за ее проживание в своем доме. Тургенев ответил без промедления: «Относительно маленькой Полины, вы уже знаете, что я решил следовать вашим приказаниям и думаю лишь о средствах исполнить это быстро и хорошо».
* * *«Удочерение» маленькой Полины в 1850 году – это несомненно был хорошо продуманный и рассчитанный жест со стороны Полины Виардо. Это были не только большие деньги, но и верный способ накрепко привязать к себе ускользнувшего поклонника. Ведь Тургенев уехал в Россию, и неизвестно было вернется ли он обратно. Иван Сергеевич сам признавался в этом: «Покидая вас, я хорошо знал, что расстаюсь надолго, если не навсегда». Однако мадам Виардо из своего «стада» никого просто так не отпускала, это было не в ее правилах. Ведь Тургенев был не только знаменитым писателем, аристократом и красавцем, но в обозримом будущем богатейшим наследником.
Мадам Виардо все рассчитала, она от этого «удочерения» ничего не теряла, лишь выигрывала, ведь Иван Сергеевич готов был выплачивать за дочку крупное содержание. И самое главное, что она становилась приемной матерью его дочери, то есть невенчанной женой Тургенева. Писателя этот поступок певицы несказанно восхитил, с этих пор Полина Виардо стала для него «ангелом» и «святой». Он посылал ей одно за другим самые восторженные письма, полные любви и преданности.
Девочка была переименована в Полинетт, конечно, в честь Полины Виардо, а осенью Тургенев поехал с ней в Петербург и отправил со знакомой француженкой в Париж. Перед отъездом он рассказал растерянной девочке, что ее ждет в Париже необыкновенное счастье, и она должна быть вечно признательна своей благодетельнице. А Полине Виардо он написал: «Не буду говорить вам о моей благодарности: для нас с вами это слово не имеет значения; но вы знаете, что можете рассчитывать на мою полную, совершенную, вечную преданность, вы знаете, что можете потребовать у меня мою жизнь, и я буду счастлив вам ее отдать. Говорю вам так и знаю, что вы этому верите…»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.