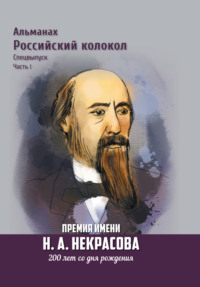Полная версия
Крещатик № 93 (2021)
Вечером, когда я вернулся с греблипсовских съемок, по радио выступала ВЧ. Высокочастотная выспренная чувствительность. Хотя слово «выспренно» к ней не подходит. Читала какую-то новейшую немецкую прозу о России. Мы не виделись дюжину лет. Потом звучал джаз. Как по заказу. Потом Шостакович. Первый концерт для скрипки с оркестром. Исполнение предварили словами: «Шостакович сочинял это произведение в стол (по-немецки фраза звучит еще конкретнее – «для шифлетки»). Поскольку заранее знал, что оно не устроит вождя. Ведь Сталин предписал композиторам создавать музыку, способную воодушевлять народ, звать рабочих и крестьян в мир новых великих свершений». Посвятив слушателей в исторические подробности, ведущий тут же прокомментировал: «Мы ничего не имеем против воодушевления, но считаем, что музыкой, которую вы сейчас услышите, можно окрылить всех». Не знаю, на сколько окрыленным почувствовал себя ведущий, когда из динамика достойной издевкой стала сочиться депрессия первой части, спрыснутая в последующем легким намеком на гротеск. А после скрипичного концерта давали седьмую. «Как открыто, как мягко звучит маршевая тема у дирижера Дрекскерля, это просто восхитительно!» – неистовствовал комментатор.
Полчаса спустя, в поток эфирных блюд, столь странно сервированных, ворвался извне, как водится, Рябчиков. Позвонил на закусь.
– Слушай, Паша, – остервенело гаркнул он в трубку, – вы ждете взрыва?
– То есть? – я попытался уменьшить градус его эмоций.
– Ты в самом деле не понимаешь, или делаешь вид? – Рябчиков принялся хамить. – Повсюду только и говорят о том, что дальнейшая миграционная политика правительства приведет к социальному взрыву. Правые чувствуют себя правыми, или, как минимум, спровоцированными, и используют ситуацию как хороший повод для перехода к активным действиям. Вам мало латентных разборок в саксонской столице ландышей? Теперь еще городок, в котором Иоганн Себастиан долго обитал, подключился.
– Погоди, погоди! При чем здесь я?
– А я разве сказал «ты»? Я говорил «вы»! И вообще дело не в местоимениях, – Рябой на секунду сбавил обороты, даже как будто сник, однако чувствовалось, что в моем лице он опять дорвался до свободных ушей.
Лицо с ушами. Но самостоятельно живут затылки и уши, а лиц не видно – учил Мандельштам. Правда поэт говорил про толпу. А разве мы не толпа? Приохотил я Рябчикова. И что сказать мне этому больному болвану? Какое прописать лекарство? Нетрудно себе представить, что за постулаты возникнут в голове Рябого, посыплются из него, ввяжись я в очередной разговор. И что мне будет, что прилетит за внимание к его рассуждениям. Я решил напялить на себя колпак комика и паяца:
«Еще лучше, Радий Васильевич, еще лучше. Если бы речь шла обо мне, тогда допер бы я, что ты мне опять свою Гельветию впариваешь, предлагаешь в эдем цизальпийских буренок убраться. Но во множественном числе? Так кто, с позволения сказать, имеется в виду? Вы – это кто? И сколько нас? Обратись-ка ты лучше за разъяснениями в ведомство федерального канцлера или в резиденцию президента. Да хоть в Бундестаг. Там помогут».
Эх, Берлин слишком часто похож на безразмерный безалаберный балаган, с этим я готов был согласиться. Да, пресловутая толерантность, торжественно провозглашенная, на поверку оказывается дурно пахнущим фиговым листком. Бессвязные обрывки лозунгов доносятся отовсюду. Но лучше разбираться предметно, повздошно. Вздох первый. В каком бы качестве мы ни прибыли – в роли немецких переселенцев-возвращенцев, по сути – репатриантов, или на правах еврейских контингентных беженцев, на какие корни бы мы не пеняли – все равно мы народ пришлый. Спасибо стране, что рискнула возместить собственные потери. Утраты времен Екатерины или Второй мировой. Кто-то из нас искал историческую родину, кто-то – защиту от бандитов, лучшие социальные рессоры и ресурсы, взамен новых российских. Стремный молодой рынок, воцарившийся на родине, что простилась с последними остатками привычной советской власти, радовал самых отчаянных. А тут и миллениум подоспел. По третьему календарю ХЗ. Хуучина Зальтая. Однако в нулевых и десятых на берлинщине первым делом вовсе не арабские пловцы высадились. Выловленные в Средиземном море. А русские айтишники, по-хозяйски располагающиеся в любом кресле. Для них везде лакомые куски раскиданы. Это вздох второй. Новый виток. Теперь вздох третий. Самодовольные пилигримы разного рода, русские опять же: псевдоэксперты, нежно имитирующие первооткрывателей, цифровые кочевники-фрилансеры, орудующие отовсюду, бизнес-мигранты, ловцы ВНЖ. А еще автономные либералы – им старый Запад как мощный моральный лабаз, роднее по определению.
Теперь все они – в роли гордецов неформальных и победителей независимых, или, якобы, анархистов, бегают по кругу. Будто белка у Саши Черного по карнизу – более или менее жизнерадостным курцгалопом. Кто-то, не пропуская ни одной клубной вечеринки, не брезгуя никакой клубничкой, отвязно и усиленно повышает уровни вибрации и кислотности. В угаре кричит, что кругом абсолютная свобода. Снаружи и внутри. Только празднуют эту свободу уже не дети, а внуки цветов. Пароль: «Мы родом из шестьдесят восьмого». Другие себя альтернативщиками объявляют, кричат «Дом горит!». Кликушествуют, оповещая о своих открытиях. Их Гитлер действовал в интересах «еврейской ставки». Артур Руппин, дескать, направлял, магдебургско-берлинско-тель-авивский проводник Баухауза. А присягать и служить нужно исключительно имперской конституции, поскольку новую не приняли, имеются лишь субституция, эрзацы – Основной закон и Гражданское уложение. Опаньки. Тут бы либеральным цветочникам посерьезнеть. Однако их не сильно заботят альтернативные чудаки. Ведь даже другая белка, отрицаемая, но периодически подступающая, плюс – неизбежная зависимость от определенных правил и регламентов, распорядков и установок (не говоря уже про требования и контроль инстанций, ведомств и контор государства), никого не смущают. Воля! Ренессанс, декаданс. «Художественная гиперплазия и идиосинкразия» – говорит доктор Кислицын. Стряхнув послеугарный сплин, сочиняют, рисуют, танцуют. Поют что-нибудь. Все креативные и искушенные. Все умные и безумные. Стремятся быть на виду. Суррогат на-гора. Качество не в счет. А почему бы и нет? После Бойса и Бреннера. Клоуна да, канонада, преодоление канонов. Каждый стреляет в каком-нибудь тире. С красными глазными белка́ми в глаза третьих белок. Расцвет народного творчества в колхозе «Рассвет». Пора записываться в Антифу. Выходить на маёвку. Ведь в красный день календаря – 1-го – драки по Берлину и загадочный Белтайн. А если Антифа в самом деле состоит из одних провокаторов?
По словам Панталыкина, в конце марта самые продвинутые воспевают Остару, она же Кибела, и, кажется, сосну. Но зря ли поэт задавался вопросом, куда в мае идет тополь. В чем заключается майский механизм деревьев? И только Рябчиков смотрит в воду. И на нее глубокомысленно дует. В этой воде то и дело чувствуешь себя мудаком. Или в этом городе? От неполиткорректных мыслей слегка подташнивает. Сам вроде бы шальные и сальные вечеринки не посещал. Только общался с завсегдатаями. Или они заразны, как вирус? В черепе кружится то страшный зверь-бурундук, то его хвост, то какой-то горно-обогатительный комбинат. Работающий с помощью… (как это называлось?), ах да, экспликации. Хвосты, но другие. Отвалы. Пустая порода. Терриконы. Давайте поговорим не о счастье, а об охвостье. Мой царь, живи один. Как смелый андрогин. Мужчины превращаются в женщин. Или в охвостье женщин. Женщины – в мужчин. Или всегда были ими. В центре – Кибела, а не Афродита. «Она еще не родилась», – утверждает Мандельштам. И, видимо, прав. «Там было три хвоста», – дополняет Соснора. И я согласен, если вы ссылаетесь на поэтов. «Я – твоя вечная провокация», – говорит мне Непостижимка и виляет хвостом. Балансируя на грани ухода. Кислицын-младший, Ким, старый друг, которого русская жена уже бросила, а немецкая пока не нашлась, без задней мысли любуется на лис, осадивших берлинский рефугиум. И не ведает, что в полабской народной песне для церемонии свадьбы предусматривались разные кандидатуры. Самоотвод взяли все, включая сову, которую определили в невесты. Но лишь лисица согласилась с тем, что на ее хвосте будет накрыт свадебный стол. «А Ипполитовкa – печать на хвосте, – умничает Панталыкин. – МУИИ». Что это, звериный возглас? Нет, аббревиатура всего лишь. Обозначающая Музучилище им. Ипполитова-Иванова. Мой случай. Или консерватория – как у Игоря. Выпускники указанных яслей убеждены: если через полчаса после того, как открыл ноты, ты не способен их сыграть наизусть, значит нужно устроиться сантехником. Или газетчиком. Поскольку люди – источники грязи. Необходимо помогать им бороться с нею. Не осилил путь возвышенный? Обратись к бытовой химии! А с газетой можно сходить в туалет. Особенно в ситуации, когда химикаты, а также бумажные бигуди, перфорированные рулоны в связи с очередным вирусом раскупили.
«Ты цел?» – спрашивал меня Рябчиков после того, как исламист устроил теракт в центре Берлина. Нагнетать страсти по все мирному халифату горазды все, видеть угрозу в беженцах. Но из-за вируса они застряли на островах. От ошалевших бацилл вообще бежать некуда. Разве что в Антарктиду. Камин сгорел уже давно. Вместе с порталом. Примеру последовала Аляска, потекла вечная мерзлота с Альп, из Сибири. Юные беспокойные активисты организовали пикеты. Но будет ли толк? Насчет захоронения ядерных отходов немцы тоже давно шумят. Всякий раз, если материал готов к перевозке. Когда-то транспортники-утилизаторы подыскали местечко в краях, где во времена царя Гороха полабские славяне жили. Мотивируя тем, что именно в этом углу медвежьем был обнаружен подземный пласт соли. Пресловутый соляной купол, пригодный для того, чтобы радиоактивную жуть изолировать. Как нарочно, кусочек лесистый вторгался маленьким аппендиксом в тогдашнюю ГДР. К северо-западу от Берлина. Вполне себе провокация, причем двойная. В начале восьмидесятых борцы с такими планами, с намеченным могильником разбили табор в урочище и даже новое государство провозгласили – РСВ, Республику Свободный Вендланд. Дабы отбить у утилизаторов охоту к транспортировке. И где она теперь, эта РСВ? След простыл. Да, неугомонный народ периодически ложится на рельсы, чтобы остановить мусорный экспресс. Однако тут иной тупик получился: атомный дрек везут по-прежнему.
Пора брать пример с певцов, счастливцев, еврейских цадиков и часовщиков. Жить просто. Ориентироваться по звездам. Не наблюдать ни фриков, ни поездов, ни цветочников, ни раздачи булок. На часы смотреть только в случае ремонтной необходимости – когда в Кремль вызовут, чинить куранты. А если очень припечет и приспичит, спич толкнуть, допросить двух кошерных свидетелей в синедрионе, в том самом суде, не начался ли новый месяц. Синедриону кое-что позволяется. Уточнить, как там обстоит с Луной. Вышли ли вовремя на балкон очевидцы, заметили ли ее рождение. Эге-гей, очевидцы! Что скажете? Не рассмотрели, не поняли, темно было? Лилит. Лишь отражает, сама не светит. Так чиркнули бы спичкой, чтобы поджечь пыльную пепельницу. И выяснили, что происходит с календарём. Какие милые у нас? Да вот такие. На базаре не выбирали, но милыми провозгласили. Невзначай подвернулись. Сезоны и лилейные душки – вещи схожие. На выходе из скользкой зимы мы подвернули ногу, не успели оглянуться, а на дворе вирус новоиспеченный. Или безбашенный, бесшабашный и лживый апрель. Хотя почему бесшабашный? Шабаш есть, ночной – в канун маевки. Все тот же Белтайн. Клубы закроют, а на Вальпургиеву, глядишь, разрешение выдадут, чтобы не нарушать право на проведение демонстраций. Пока суть да дело – урочный час для выхода на балкон – поиграть, подудеть для соседей. Потом из Египта. Пока Белтайн не нагрянул. И вирус не обнаглел. Летом слишком жарко, однако нонче – самое то. Егорий главный – тоже весенний. Другие не при делах, обаче нас предупредили.
Перейдем от общего к частному, зададим более легкий вопрос. Что сегодня за день? По календарю Хуучина Зальтая, мастера Нууца. Суббота? Суббота – очаровательное понятие. И относительное. Зависит от того, где находится солнце в тот или иной момент. Умножим же очарование, продлим, превратим субботу в саббатикал. Шабаш поддерживать ни к чему. И не забудем, что другие дни тоже важны. Раньше или позже на нас обрушатся. Улита едет – компенсатор силы у заводной пружины в часах. Развивающейся в оптимальный период. Например, в четверг Моисей поднялся на гору, в понедельник спустился. А для нового дела лучше подходит вторник, ибо господь именно во вторник обнаружил, как прекрасен этот мир. Который мы испоганили, костерим на все лады и не знаем, как исправить. Ждем взрыва.
Ход замедляет только реверсивная защелка. Ослабляет натяжение.
Катя Капович /Нью-Йорк/

Русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Здесь фонари похожи на вопросысреди французских выгнутых оград,у путника очки съезжают с носаи мысли набегают невпопад.От русских узнаваемых фамилийстановится на сердце горячо.Кем они были, где и как служили,что вспоминали, говорили что?Каким их ветром занесло далёко,холодным, тёмным, северным сюда?Фигура чуть растерянного Богаразводит лишь руками у креста.Несли их войны, словно злые крыльябезумных мельниц, разметая всех.А вон Ивана Бунина могилас цветами и колосьями поверх.Видна вдали обычная часовня,деревьев разноцветные верхи —что Бунин так любил немногословнои прятал в суховатые стихи.Он о высоком мог сказать с прохладой,о русского снеге грезил до конца.Храни сент-женевьевская оградав своих объятьях лёгкого жильца!* * *А ведь было на нашем веку это всё-таки:перестроечные и полночный «Агдам»,что-то свежее носится в уличном воздухе,и амнистии множатся по городам.И свобода приходит в расцветшие скверики,и выходит Улисса большой перевод,пароходы плывут по высокой Москве-реке,возвращается Сахаров из несвобод.Возвращаются частная собственность. В частности,возвращаются улицам их имена.Комитет государственной безопасностиобещает, однако, вернуть времена.Почему-то в России всё бедами мазано,всё кончается лесом предательских рук.О свободе в отчизне потомкам расскажем мы:«Это было красиво и кончилось вдруг».Жизнь моего приятеля
О жизни рассказать бы мог пустяк,в альбоме старый снимок – четверть века.Вельветовые брюки и пиджакдают понять нам в целом человека.Его любила женщина одна,весёлый независимый характер,густых волос упрямая волна.Потом её увел один приятель.Просил её вернуться, всё простить,послал письмом два общих снимка даже,ответа ждал. А что простить – спросить?Как возвратиться к прошлому пейзажу?И он, как жил когда-то, так и жил.Жил в городе зимой, с весны – на даче,где пола подгнивающий настилпел что-то на два голоса, чудача.Перемостил простой дощатый пол,покрасил стены и забор наладил,ходил с корзинкой в невысокий бор,и что-то вдруг о радости заладил.С какой, однако, радости бы вдруг,когда он жил один в глухой деревне?О радости, не покладая руксажать кусты, окучивать деревья.Ни женщина призывам не вняла,ни дети, недоверчивые к слову,а радость вот поверила, пришла,ведь кто-то должен приходить по зову.Воспоминание
В пишмашинке стихи, полустёртая лента —было дело, и дело водило студентку,пусть не в ад, а в предбанник его, в кабинеты,чтобы в тех кабинетах продолжить беседы.Мне гэбист на допросе цитировал Бродского.Ничего не видала я более скользкого,чем спокойный гэбист, задушевно и простомне цитировавший: «Ни страны, ни погоста».Дорогие друзья и коллеги-поэты,я бы русский забыла бы только за это,чтоб не знать, как махровый работничек адаувлекается первым пером самиздата.Стол, два стула. Пикирует муха на лысину.Ощущенье, что высекли, близкое к истине.Было мне восемнадцать бессмысленных лет,было радостно выйти оттуда на свет.Счастье
Многие зимы вам, многие лета!Я отвалю на гудящий вокзал,в тамбуре жизни зажгу сигарету —эй, суховей, поворачивай вал.Только однажды случится нежданно —сердце припомнит свои берега?Где-то в Америке у океанавсех-всех окликнет душа-пустельга.Мать и отца возле детства на страже,верных друзей из расплывчатых лет,даже того гармониста на пляжес грудью в медалях и шапкой монет.Многое вспомнится. Ухнем с размахув семидесятые – полный прогон:из сухофруктов компота добавкии потихоньку играет гормон.Вспомнится снежное утро с портфелем,с инициалами торба в руке,ввек не забыть, как заклеила клеембелую стрелку на чёрном чулке.Хлебом единым корми нас, о Боже,старую песню играй, гармонист!Счастье всегда – раздувная гармошка,счастьице, счастье, лирический свист.* * *«Перестаньте, пожалуйста, ныть!Что вы ноете? Слышат вас дети!Потрудитесь вы тут не курить,лучше медикаменты попейте!Что вы, право, лежите весь деньна диване бесформенным теломи с такой головой набекрень,не служа молодежи примером?»Раздаются всё чаще вокругэти возгласы, полны волненья,от коллег, и друзей, и подруг,министерства здравоохраненья.Позитивный сосед-инвалидс половиною мозга Петренкокостылями мне в стенку стучит,а моя на диване лежити рифмует: «Петренко-говненко».* * *Не Герцен ли итог подвёл?Он фразу произнёс чеканно:«Мы вовсе не врачи. Мы – боль!»И умотал в Европу рано.Но слово ведь – не воробей,и на мякине не поймаешь.Глядишь, выходит из дверейнеолитический товарищ.Он исподлобья в мир глядит,как будто в мусорную яму.Так ковыляет инвалидвсегда чуть косо, а не прямо.Ах, Александр Иваныч, гольмы перекатная по свету —стихи, нервишки, алкоголь.Так и живём. Другого нету.* * *Так проснуться, чтоб снова рукою коснутьсядорогого, родного лица!Снова в кухне летают тарелки и блюдца,тостер сушит два белых хлебца.Мелет чушь электрическая кофемолка,кофеварка бурчит. Вьётся дым.Мир задолго до нас и останется долго.Надо жить по законам простым.Повоюем на кухне на полную силу,ты мне слово, а я тебе – дваИ помиримся, кофе попьём. Ну, вспылила.Это счастье и есть? Нет и да.* * *В желтизну эмигрантских газетя внесла свою лепту, ей-богу,на последних страницах тех летвдохновенной статьёй некролога.Там, свои поправляя дела,отпевала я чью-нибудь душу,невесёлую службу несла —cорок баксов, и выйдешь наружу.И ещё сочинишь много строк,даже станешь слегка знаменита,но пределом мечты – некрологи покойник, не вяжущий лыка.Борзописец такой же, как я,как умру, то не надо мне стансов,напиши некролог спохмела,напиши некролог в сорок баксов.* * *Этой ночью кончились сигареты.Вот иду на улицу – может, кто-тос сигаретой пройдет переулком света.И полночи около переходаошиваюсь, каменную скамейкуобживаю. Время плетётся длинно:фонари и звезды, на батарейкетелефон. Апрельская ночь пустынна.Человек из времени, где проулокозначал прохожего с полувзгляда,улыбаюсь – в куртке нашла окурок!Мне так мало ночью для счастья надо.* * *На телеге еду, вверх смотрюсквозь лепные облака на солнцев самом лучшем солнечном краю —может быть, ещё туда вернёмся?Там в большом июне дрозд певучнад зубчатыми колами сада.Память-попрошайка ищет ключ:«Ты не знаешь ли туда возврата?»Хорошо бы провести осмотрогорода, сада старых яблонь,дымом окурить их от щедрот.Ты хоть помнишь запах? Нет, не ладан.От кострища дым валил в луга,дрозд стремглав летел над частоколом.Жизнь прошла, и вся тут недолга —уходя замечу не с укором.Сергей Королёв /Аугсбург/

Четвертый архив
I
Чертенок седьмого порядка Микитка ловко прихватил Сан Саныча за локоть и потащил вдоль унылых коридоров канцелярии. Полы в здании были выложены старым истертым паркетом. Местами плиток недоставало целиком, местами они были сколоты наполовину. Краска служебного светло-зеленого оттенка шелушилась и обнажала реликтовые слои предыдущего колера. Серая от старости штукатурка осыпалась, стыдливо оставляя толстый слой пыли на подоконниках. Адская канцелярия была местом обжитым, по-домашнему уютным, однако здесь добрую тысячу лет шел ремонт, на завершение которого уже никто не надеялся.
Микитка, долговязый черт с облезлым, праздно болтающимся хвостом и прыщавой физиономией, чем-то походил на гимназиста-переростка.
– Какие люди хаживали по этим коридорам, какие люди!.. – тараторил он. – Один Ошо чего стоил!.. Мощный был старик! Направо, пожалуйста.
Сан Саныч повернул направо. Из ближайшего кабинета раздался рык и повалили клубы дыма.
– Фаина Иннокентьевна, сколько раз можно повторять, здесь не институт благородных девиц! На работу будьте любезны являться голой! – ревел демон-полуволк и судорожно чесал задней лапой за ухом. – Вы же не по блату сюда попали! У вас в лучшие времена, помимо мужа, до трех любовников водилось! Это не считая мелких связей без видимой сексуальной ориентации. Кого вы стесняетесь?
– Не могу я, Амон Викторович, не могу. Вас я душой и телом люблю, – голосила Фаина Иннокентьевна и почесывала Амону Вик торовичу хребет, – но посетители ваши – сущий кошмар! Они воняют! Как можно в этой вони голой сидеть! Я женщина! Скажите им, чтобы одеколоном пользовались!
– Вы, Фаина Иннокентьевна, не женщина, а дитя малое! – завыл Амон Викторович и лизнул Фаине Иннокентьевне ногу. – Это же ад! Ад! Понимаете?.. А посетители мои – демоны! Они должны плохо пахнуть. У них работа такая!
Сан Саныч невозмутимо шагал мимо кабинетов, слушая беспечную болтовню Микитки.
– А римских Пап сколько тут побывало? Уж никак не менее двух сотен! И каждый Папа – глыба! История в лицах! Теперь в лифт, будьте любезны.
Сан Саныч вошел в лифт. Настенные канделябры в виде драконов держались на честном слове. Позолота на подсвечниках облетела, лампочки электрических свечей почернели от копоти, но одна всё же горела. Микитка нажал подземный 82-й этаж и продолжил:
– В этом лифте я сопровождал саму Елену Петровну Блаватскую! Какая женщина!.. Её все чины вплоть до второго порядка боялись! А патриархи! Патриархи!.. Грозные люди! Один до того лютый попался, что вот этим канделябром чуть было мне череп не раскроил. Я ему: «Вам к Маммоне Валентиновичу. Он у нас мздоимцами заведует». А он мне: «Изыди, нечисть! Убью!» И за канделябр! Да, вот и приехали. Ваша дверь вторая налево. Всего хорошего.
Слева от лифта находился кабинет номер 666/4. Табличка на обшарпанной темно-коричневой двери гласила «Зав. архивом сектор 4. С.А. Анненберг». Сан Саныч постучал и, не дожидаясь разрешения, вошел. В небогато обставленном кабинете за массивным деревянным столом сидел бес четвертого порядка Самуил Апполионович Анненберг. В бесе не было ничего бесовского. Он был похож на обычного служащего, и разве что копыта, торчавшие из-под стола, выдавали его происхождение.