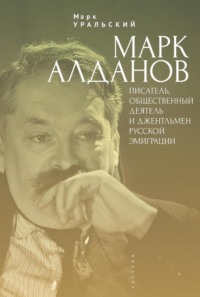Полная версия
Достоевский и евреи
При анализе философских подтекстов в беллетристике Достоевского исследователи особо выделяют в них ситуации, в которых противоречащие друг другу высказывания об одном и том же объекте имеют логически равноправное обоснование, а от оценки их истинности или ложности автор уклоняется, как бы предоставляя это делать читателю. Но и читатель не в силах это сделать, поскольку каждое его умозаключение касательно такого рода сентенций приводит к взаимоисключающим выводам, которые нельзя отнести ни к истинным, ни к ложным. Таким образом, речь идет об антиномиях[11] – философских понятиях учения Иммануила Канта о неразрешимых противоречиях чистого разума, которые он развил в своем одноименном труде [КАНТ].
Знаком ли был Достоевский с «Критикой чистого разума» – с антиномиями Канта, или он вполне самостоятельно поставил те же вопросы, что и Кант, и независимо от доводов и противодоводов Канта ответил на них в романе «Братья Карамазовы»? На это ответ будет дан не антиномический. Достоевский не только был знаком с антитетикой[12]«Критики чистого разума», но и продумал ее[13]. Более того, отчасти сообразуясь с ней, он развивал свои доводы в драматических ситуациях романа. Более того, он сделал Канта, или вернее антитезис его антиномий, символом всего того, против чего он боролся (и в себе мыслитель. Более того, он сам вступил в поединок с Кантом-антитезисом, не брезгая никаким оружием: ни сарказмом, ни риторикой, ни внушением, ни диалектической казуистикой, создавая в этой борьбе гениальные трагедии и фарсы, какими являются главы романа. Читателю незачем даже прибегать к изучению биографии писателя, чтобы убедиться в его знакомстве с Кантом. Текст романа и текст «Критики чистого разума» – здесь свидетели достоверные. Если полагать, что – по Канту, – речь в тезисе антиномий идет о «краеугольных камнях» морали и религии, а в антитезисе о «краеугольных камнях» науки, то о тех же «краеугольных камнях» идет речь и в романе. Стоит только вывести первые две антиномии из космологического плана науки и перевести все положения антиномий на язык морали и религии, чтобы полное совпадение стало очевидным [ГОЛОСКОВЕР С. 37–38], см. также [КАПЕЦ-ШИШХОВА].
Такого рода мыслительные конструкции в прозе Достоевского, имеющие отношении к еврейским персонажам, будут проанализированы отдельно в последней главе нашей книги. Когда же нас интересует не беллетристика, а публицистика Достоевского, главным образом его статьи по «еврейскому вопросу», то рассматриваемые тексты оказываются «площе» и проще. В отличие от художественных текстов, в них нет той многослойности, что позволяет говорить о глубинном или герменевтическом прочтении. Кроме того, горячая пафосность и провокативная актуальность публицистических текстов Достоевского – эта, образно говоря, «активная поверхность», закрывает и затрудняет проникновение вглубь, на те уровни его мысли, где антиномически сталкиваются и пересекаются самые разные субъективные значения. Известный русский мыслитель и литературный критик Федор Степун писал по этому поводу:
Достоевский был не только художником, но и очень страстным, горячим, на все отзывающимся публицистом <…>. Казалось бы, поэтому, что в публицистике Достоевского и надо искать его миросозерцание. Но <…> всякая публицистика, как форма творчества, не может, как бы талантлив не был публицист, дышать на той высоте, на которой дышит художественное произведение. Как не блестящ и умен «Дневник писателя», он все же не дает нам того, что дают «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Вражда к католичеству слышится, конечно, и в «Легенде о Великом инквизиторе», но это не помешало «Легенде» вырасти в одно из самых значительных художественных произведений, рядом с которым так неприятно кустарно звучат рассуждения о том, что коммунизм победит в Европе лишь тогда, когда свергнутый буржуазией со своего престола Папа возглавит коммунистическую революцию.
Не иначе обстоит дело и с национализмом Достоевского. Как ни ложно и опасно убеждение Шатова, что вера в сверхнационального Бога неизбежно ведет за собой духовную смерть народа, оно все же неизмеримо выше публицистического силлогизма: второе пришествие должно произойти в Палестине, но одновременно и в последней христианской стране Европы, которую «Царь небесный исходил, благословляя». Из этого следует, что Палестина должна стать нашей.
Этих двух примеров достаточно, чтобы убедиться в том, до чего опасно превращать публициста Достоевского в истолкователя его миросозерцания. На этом пути можно легко снизить и исказить его глубокие мысли [СТЕПУН].
Уже само происхождение Федора Достоевского по отцовской линии представляется – в свете манифестируемых им русского национализма, истового православия (sic!) и полонофобии – достаточно необычным для «корневого» русского человека. Отец будущего великого русского писателя Михаил Андреевич Достоевский происходил из униатского духовенства. Ныне реконструировано генеалогическое древо рода Достоевских, согласно которому родоначальником фамилии
является Данило (Данилей) Иванович Иртищ (Ртищевич, Иртищевич, Артищевич), боярин Пинского князя Федора Ивановича Ярославича… 6 октября 1506 года князь Пинский… пожаловал своему боярину Даниле Ивановичу Иртищевичу несколько имений, в том числе “Достоев”, расположенный к северо-востоку от Пинска, между реками Пиной и Яцольдой, на границе бывшего Кобринского уезда [САРАСКИНА (II)].
С 1320 г. Пинск, как и все Полесье[14] вошел в состав Великого княжества Литовского, а с 1569–1793 гг. входил в состав Речи Посполитой, после второго раздела которой отошел вместе со всей Восточной Польшей к Российской империи. Впоследствии шляхтичи Достоевские[15] переселились в Малороссию, где перешли в духовное сословие. Михаил Андреевич Достоевский – отец будущего писателя, родился в Малороссии (село Войтовцы Подольской губернии) в семье священника-униата. В 1802 г. он был определен в православную духовную семинарию, а в 1809 г. отправлен, по окончании класса риторики, в московское отделение Медико-хирургической академии на казенное содержание. В августе 1812 г. Михаил Андреевич был командирован в военный госпиталь, с 1813 г. служил в Бородинском пехотном полку, в 1816 г. был удостоен звания штаб-лекаря, в 1819 г. переведен ординатором в Московский военный госпиталь, в январе 1821 г. после увольнения в декабре 1820 г. из военной службы, определен в Московскую больницу для бедных на должность «лекаря при отделении приходящих больных женск<ого> пола».
Таким образом, великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский
был исторически молодым гражданином России. Только одно поколение отделяло его от предков, живших на территории соседнего государства, в перекрестье наречий и вер. Болезненно обостренное отношение к Польше, вдохновенная защита вселенской миссии православия, глубокое недоверие к намерениям римской курии… Все это, помимо прочего, могло быть еще и следствием «отказа от наследства» – тем более мучительного, чем глубже переплелись старые и новые корни… [ВОЛГИН (I). С. 43].
Хотя сам Достоевский явно не имел точного представления об истории своего рода, поляки, отбывавшие каторгу вместе с ним в Омском остроге, полагали, что демонстрируемая их товарищем по несчастью полонофобия, отчасти связана с его польским происхождением [ТОКАРЖЕВСКИЙ], [МАЛЬЦЕВ].
Мать Ф.М. Достоевского – Мария Федоровна (урожд. Нечаева; 1800–1837) являлась дочерью московского купца 3-й гильдии.
На Машу Нечаеву большое культурное влияние оказывала разночинная[16] интеллигентная среда ее матери Варвары Михайловны Котельницкой, отец которой служил корректором в Московской духовной типографии еще во времена знаменитого Н.И. Новикова. Во всяком случае Мария Федоровна была не чужда поэзии, любила музыку, да и сама была достаточно музыкальна, зачитывалась романами[17].
Итак, будущий великий русский писатель родился в разночинной семье, имеющей потомственные – по отцовской линии, корневые связи с униатской церковью[18] и приказавшей к тому времени долго жить Речью Посполитой. Достоевские стали дворянским родом, записанным в третью часть родословной книги московского потомственного дворянства только в 1828 г., когда Федору Михайловичу было неполных семь лет. Это позволило Достоевскому-отцу приобрести пару имений и, выйдя после кончины жены в отставку, стать в одном из них помещиком.
Знаменитые русские писатели, современники Достоевского, как правило, являли собой, говоря его словами, «продукт нашего барства», gentilhomme russe et citoyen du monde[19] [ФМД-ПСС. Т. 21. С. 8], ибо все они – Дмитрий Григорович, Иван Тургенев, Иван Панаев, Алексей Писемский, граф Лев Толстой, Николай Некрасов, Федор Тютчев, Николай Лесков, Александр Герцен, Михаил Салтыков-Щедрин – были представителями родовитых дворянских семей. Деятели позднего славянофильского движения, которым симпатизировал Достоевский с конца 1850-х гг.,
были богатые русские помещики, просвещенные, гуманные, свободолюбивые, но очень вкорененные в почву, очень связанные с бытом и ограниченные этим бытом. Этот бытовой характер славянофильства не мог не ослабить эсхатологической стороны их христианства. При всей вражде их к империи они еще чувствовали твердую почву под ногами и не предчувствовали грядущих катастроф [БЕРДЯЕВ (II)].
В обществе этих литераторов Федор Достоевский, происходивший из разночинцев, несомненно, чувствовал себя некомфортно. Худородность – по тем аристократическим временам, когда разночинная молодежь еще только начинала осваивать русскую литературную сцену, была болезненным для самолюбивого человека фактом его биографии. Сознание своей социальной незначительности – один из психологических парадоксов личности Достоевского. Скорее всего именно это обстоятельство явилось в молодости причиной застенчивости и сопутствующей ей чрезмерной амбициозности молодого писателя. Когда:
Из убогой обстановки Марьинской больницы, из замкнутого мирка Инженерного замка, из бедности и неизвестности, болезненно-самолюбивый литератор вдруг попадает в «высший свет» [МОЧУЛЬСКИЙ. С. 378],
– он буквально опьянен очарованием своих новых друзей. С каким, например, пиететом молодой Достоевский описывает свою первую встречу с Тургеневым:
Но, брат, что это за человек! Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, красавец, богач, умен, образован, 25 лет – я не знаю, в чем природа отказала ему [ФМД-ПСС. Т. 28. С. 115].
Примечательно, что именно богатство и аристократизм Тургенева поражают малообеспеченного разночинца Достоевского[20] в первую очередь. Как начинающий литератор он вдохновлен тем, что его дарование может открыть ему двери в избранные литературные салоны, приобщить к культурной элите. Разочарование, последовавшее за этим, общеизвестно. Достоевскому пришлось жестоко поплатиться за наивную веру в то, что ум и талант позволят обеспечить разночинному литератору почетное место в тогдашнем аристократическом по своему статусному состоянию русском литературном сообществе. Как уже отмечалось, он быстро стал предметом насмешек со стороны собратьев по перу. И если Белинский и Некрасов исходили из чисто человеческого неприятия заносчивости Достоевского, которую он демонстрировал в обществе, то высокомерная ирония Тургенева, Панаева, Сологуба включала в себя, несомненно, еще и сословную неприязнь литературной аристократии к разночинцу, вознамерившемуся занять равноправное с ними положение на российском литературном Олимпе. Урок был жестоким и Достоевский запомнил его на всю жизнь, компенсируя в зрелые годы, когда он уже «достиг апогея своей славы, – славы, может быть, не вполне хвалебной, но очень громкой всероссийской»[21], свои былые унижения жесткой критикой «помещичьей литературы» – см., например, его письмо Н. Страхову от 18/30 мая 1871 г. [ФМД-ПСС. Т.29. С. 216], и злейшей пародией на Тургенева в своем романе «Бесы».
В социально-историческом плане важно отметить, что в то время как Толстой был аристократом и (единственный из своих литературных современников) был культурно укоренен во французской цивилизации и в XVIII-вековой цивилизации русского дворянства, Достоевский был плебеем и демократом до мозга костей. Он принадлежал к той же исторической и общественной формации, что создала Белинского, Некрасова и Григорьева, и отсюда идет, среди прочего, отсутствие всякой грации, всякого изящества, внешнего и внутреннего, характерное для всего его творчества, вместе с отсутствием сдержанности, дисциплины, достоинства и патологическим избытком застенчивости и неловкости[22].
Самым парадоксальным образом в его душе плебейская неприязнь к русским барам из числа своих собратьев по литературному ремеслу:
Писатели-аристократы, писатели-проприетеры. Лев Толстой и Тургенев – проприетеры[23] (1876) [ФМД-ПСС. Т. 245. С. 99].
– одновременно уживалась с тягой к аристократии и мечтой стать помещиком: только ранняя смерть помешала Достоевскому приобрести имение! Пафос Достоевского еще и антиномичен, т. к. из уничижительного в его устах замечания «проприетеры», следует, что эти его коллеги в своем творчестве свободные люди, т. к. материально не зависят от работодателей – редакторов, владельцев журналов и издательств, а он сам, по сути, – «пролетарий литературного труда». Здесь явно борются между собой плебейский гонор и бытийная горечь человека подневольного труда. Для правильной оценки материального положения русских литераторов следует учитывать, что
до середины 1890-х гг. писатели (за немногими исключениями) с трудом обеспечивали себе прожиточный минимум. Как правило, достаточно зарабатывали только литераторы, которым удалось стать редакторами или постоянными сотрудниками журнала или газеты, регулярно получающими жалованье и имеющими гарантированный сбыт своей литературной продукции. Приведем несколько примеров. Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов за редакционную работу в «Современнике» получали в начале 1860-х гг. по 5–6 тыс. р. в год, <…> соредакторы «Отечественных записок» (М.Е. Салтыков-Щедрин, <…> и Н.К. Михайловский) в начале 1880-х г. только за редактуру (не считая гонораров за публикации) – около 10 тыс. р. в год каждый; <…> редактор «Гражданина» Ф.М. Достоевский – 3 тыс. р. в год; А.С. Суворин в 1872 г., работая публицистом и фельетонистом в «Санкт-Петербургских ведомостях», – 4,5 тыс. р. в год и т. п. Авторы, не входившие в состав редакций периодических изданий, зарабатывали меньше. Даже И.С. Тургенев, чьи произведения оплачивались по максимальной ставке, получал за год 4 тыс. р., Н.С. Лесков – 2 тыс. р., А.П. Чехов в конце 1880-х и в 1890-х гг. – 3,5–4 тыс. р. И.А. Гончаров считал (еще в 1858 г.), что женатому человеку «в Петербурге надо получать не менее двух тысяч руб. серебром, чтобы жить безбедно» (Достоевские, например, издерживали в год более 3 тыс. р.), однако средние профессиональные литераторы зарабатывали за год не более 1–1,5 тыс. рублей. Это означает, что писатель, получающий по ставкам 1870-1880-х гг. 60 р. за печатный лист, должен был написать за год 20 печ. л. (то есть целую книгу), чтобы заработать 1200 р.232. Если учесть, что часть его текстов могла не попасть в печать из-за внутриредакционных или цензурных причин, то реально ему приходилось писать еще больше, не говоря уже о том, что периодические издания нередко затягивали выплату гонорара. Для сравнения укажем, что в описываемый период столоначальник (чиновник среднего ранга) получал в год более 1500 р., старший учитель в гимназии – более 1000 р., даже земские врачи и статистики – 1000–1200 р. Невысокие гонорары беллетристов в России можно объяснить тем фактом, что социальная потребность в отечественной литературе была не очень сильной: одни (более 80 % населения) вообще не читали, другие читали иностранную книгу в подлиннике, третьи – в переводе. Читатели русской книги (интеллигенция, чиновничество, купечество, мелкое и среднее провинциальное дворянство) были немногочисленны и не очень платежеспособны. Поскольку беллетристу, исходя из существовавших ставок, трудно было заработать себе на жизнь, он был обречен на многописание и спешку. <…> Н.С. Лесков писал: «В России литературою деньги добываются трудно, и кому надо много – тому приходится и писать много <…>». И даже о периоде конца XIX в. Вас. И. Немирович-Данченко вспоминал в таких выражениях: «Нам, литературному пролетариату, время – деньги, и уж очень-то щедро тратить его не приходилось. Случалось продавать самые дорогие сердцу авторскому произведения на корню, и наша совесть маячила, потому что работалось впроголодь и впрохолодь. Да еще на каждый наш рубль десяток ртов было разинуто» [РЕЙТБЛАТ].
Достоевский жил исключительно литературным трудом (sic!): величина его максимальной гонорарной ставки составляла 125 (1860-е гг.) – 250 (1870-е гг.) рублей печ. лист, тогда как у коллег-проприеторов – Тургенева и Льва Толстого, 300600 рублей печ. лист, соответственно [РЕЙТБЛАТ][24]. Достоевский же только в 1880 г. за «Братьев Карамазовых» стал получать у прижимистого Каткова[25] по 300 рублей за лист.
Ещё в 1877 году Достоевский писал жене: «Мне <он> 250 р. не мог ли сразу решиться дать, а Л. Толстому 500 заплатили с готовностью! <за «Анну Каренину»>. Нет, уж слишком меня низко ценят, а оттого что работой живу» [ДФМ-ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 67]. Очевидно, этот вопрос поднимался Достоевским и раньше. В неопубликованном письме к нему (от 4 мая 1874 года) Н.А. Любимов, говоря о своём и Каткова желании, чтобы Достоевский сохранил связь с «Русским вестником» и на будущее время, как было до сих пор, обещает разрешить денежный вопрос удовлетворительным для автора образом: «Если бы было возможно, сохранив номинальный гонорарий, <…> прибавить Вам круглою суммою столько, чтобы общее получение соответствовало Вашему желанию, то дело уладилось бы <…> Необходимо только это прибавление сохранить в тайне между нами». Боясь, чтобы подобная прибавка «не обратилась бы в общее правило», Любимов <Н.А.>, по сути дела, предлагает Достоевскому негласную сделку, довольно для того унизительную [ВОЛГИН (II). С. 320].
Всю свою жизнь Федор Достоевский, будучи ко всем своим обременительным в материальном отношении семейным проблемам еще и азартным неудачливым игроком, постоянно нуждался в деньгах, а значит – опять-таки зависел от щедрот сильных мира сего. В профессионально-бытовом плане он, как беллетрист, оставался обреченным «на многописание и спешку», а на стезе общественно-политической публицистики являлся, конечно, «не продажным писакой», но, несомненно, сугубо ангажированным власть имущими литератором. Его охранительская риторика, ура-патриотизм и монархизм во многом определялись требованиями вельможного «социального заказа»[26], по сути, он стал к концу жизни, так сказать «идейным рупором и символом» царского правительства. На сей счет имеется такой, например, интересный мемуарный сюжет, записанный со слов близкого друга семьи Достоевских поэта Алексея Плещеева:
H.M. Безобразов, по распоряжению графа Лорис-Меликова, тотчас же после смерти писателя, ездил к вдове его выразить соболезнование и пожелание, чтобы похороны происходили на государственный счет. Вдова писателя, по словам Безобразова, возмутилась и категорически протестовала против этого. Безобразов уговаривал ее, прося исполнить желание графа Лорис-Меликова, со свойственным ему умом и тактом желавшего показать обществу, как правительство относилось к Достоевскому. Правительство, как говорили тогда, дипломатично желало использовать кончину Достоевского как симпатичный жест со своей стороны по адресу общественности. Чем все это кончилось – мне неизвестно [ПЛЕЩЕЕВ].
При всем этом существует общее мнение, что в своем верно-падданическом рвении Достоевский отнюдь не угодничал, а был совершенно искренен:
Чему он верил, он верил со страстью, он весь отдавался своим мыслям; чего он не признавал, то он часто ненавидел. Он был последователен и, раз вышедши на известный путь, мог воротиться с него только после тяжелой, упорной борьбы и нравственной ломки[27].
Высказывается также предположение, что, являясь ангажированным писателем, Достоевский вместе с тем
предпринял последнюю в русской литературе попытку осуществить «идейное опекунство» над властью. Но почему сама тенденция оказалась столь живучей? Русское самодержавие, как это ни странно, на протяжении веков так и не выработало своей собственной, адекватной себе и закреплённой «литературно» идеологии. Оно строит свою моральную деятельность на традиции и предании, на силе исторической инерции или, в лучшем случае, на эффектных формулах вроде уваровской[28]. Как историческая данность оно вовсе не совпадает с тем, что «предлагали» ему – в разное время – <…> Карамзин, Пушкин, Гоголь и Достоевский. В момент кризиса (а именно такой момент имеет место в 1880 году) могло казаться, что в силу собственной «безыдейности» власть примет и санкционирует одну из предлагаемых ей «чужих» идеологических доктрин. И славянофилы вроде Ивана Аксакова, и либералы «тургеневского» типа могли надеяться (и надеялись), что выбор падёт именно на них. Мог надеяться на это и Достоевский. Он предлагает свою собственную «подстановку». Но всерьёз принять идеал<ы Достоевского, высказанные им в частности в > Пушкинской речи, означало бы для самодержавия изменить свою собственную историческую природу [ВОЛГИН (II). С. 363][29].
Однако сановная элита и не собиралась опираться в своей практике на проекты Достоевского. Для нее он был не политик, а, что называется, «политический мыслитель». В этом качестве Достоевский оперировал представлениями, по большей части являвшимися плодами его богатой писательской фантазии, а его футуристические идеи носили чисто визионерский характер. Поэтому никакого влияния на государственную политику Достоевский не оказывал и, пребывая в мире своего артистического воображения, не мог оказывать.
Успешную «попытку осуществить “идейное опекунство” над властью» реализовали в эпоху царствования Александра III друзья-покровители Достоевского – политики из консервативно-охранительного лагеря, такие, в частности, как Катков[30], кн. Мещерский и Победоносцев. Для придания особого идейного содержания своим политическим амбициям они умело использовали и гениальное перо Достоевского-публициста, и его имидж «христианского мыслителя». Катков, например, щедро оплачивает его наиболее резонансное публицистическое выступление – знаменитую Пушкинскую речь, немало не смущаясь несовпадением ряда выказанных в ней концептуальных идей с пропагандируемым им и Победоносцевым политическим курсом[31]. Для его партии эта речь Достоевского была нужна
только как временное подспорье, как идущая в руки карта в их тактической игре. <А вот сам Достоевский> нужен Победоносцеву и нужен Каткову. Он – их формальный союзник, единственная серьёзная литературная сила с их стороны. Они ни в коем случае не желают обострять разномыслие. <…> Появление Речи в газете Каткова воспринималось как политический жест, как акт идейной солидарности. <…>
Охранительная пресса настойчиво сопрягает <их> имена [ВОЛГИН (II). С. 364, 363 и 725].
Естественно, что как писатель Достоевский завидовал творческой свободе и финансовой независимости собратьев по перу из числа проприеторов. Об этом, в частности, свидетельствует Всеволод Соловьев:
Скажите мне, скажите прямо – как вы думаете: завидую ли я Льву Толстому? <…> обвиняют в зависти… И кто же? старые друзья, которые знают меня лет двадцать… <…> Эта мысль так в них засела, что они даже не могут скрыть ее – проговариваются в каждом слове. <…> И знаете ли, ведь я действительно завидую, но только не так, о, совсем не так, как они думают! Я завидую его обстоятельствам, и именно вот теперь… Мне тяжело так работать, как я работаю, тяжело спешить… Господи, и всю-то жизнь!.. <…> Я не говорю об этом никогда, не признаюсь; но это меня очень мучит. Ну, а он обеспечен, ему нечего о завтрашнем дне думать, он может отделывать каждую свою вещь, а это большая штука – когда вещь полежит уже готовая и потом перечтешь ее и исправишь. Вот и завидую… завидую, голубчик! [СОЛОВЬЕВ Вс. С.].
В свете вышеприведенного свидетельства Вс. Соловьева особо интересна запись Достоевского в «Рабочих тетрадях 18751877 гг.» [ФМД-ПСС.Т. 24. С. 109–110], касающаяся сатирической поэмы Д.М. Аверкиева[32] – популярного в то время литератора, сотрудничавшего когда-то с его журналом «Эпоха». В частности, писатель выделяет в ней «Два чрезвычайно странных стиха»:
У нас сейчас есть Лев ТолстойСей Лев породы царской[33],– определяя их как «чрезвычайно глупые» и полагая восхваление гр. Толстого в той форме, что использовал для них его бывший сотрудник и единомышленник[34], отнюдь не «рекламой», а «наивностью». Свои рассуждения о ляпсусе Аверкиева Достоевский заканчивает парадоксальным высказыванием:
Граф Лев Толстой – конфетный талант и всем по плечу,
– не сопровождая его каким-либо комментарием. Можно полагать, что таким образом Достоевский, обладавший, как литератор, незаурядным чувством юмора, маскирует свое раздражение восхвалением собрата по перу – пусть и в форме «чрезвычайно глупого стиха», придумывая другую «типовую глупость». Тем самым он явно пародирует бытовавшую со времен Гомера в критике манеру хамски-оскорбительного подтрунивания над писателями[35]. Как ни парадоксально, но именно Виктор Буренин, ставший на русской литературной сцене символом «беспардонного зоила» и «охотника до журнальной драки», пользовался симпатией Достоевского[36]. Писатель дорожил его мнением о своих произведениях и поддерживал с ним личные отношения. Об этом, в частности, свидетельствуют слова А.Г. Достоевской в ее письме Буренину от 15 мая 1888 г.: