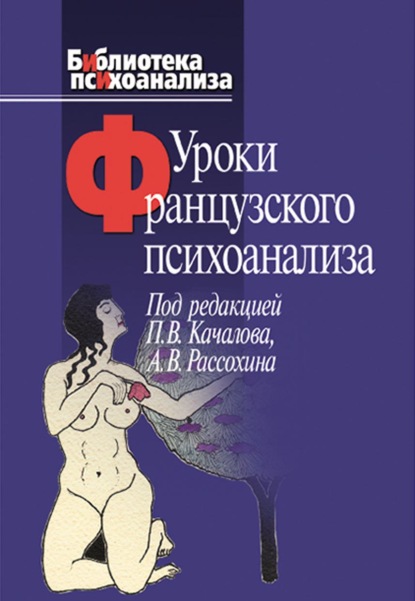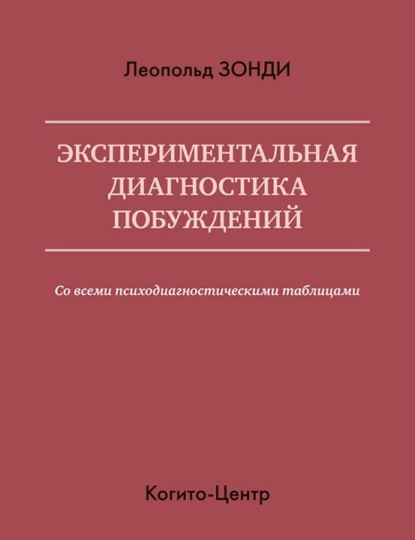Полная версия
Черное солнце. Депрессия и меланхолия
Глава 2
Жизнь и смерть речи
Вспомним о речи депрессивного человека: она монотонна и повторяема. Фраза, не способная связаться в единое целое, прерывается, истощается, останавливается. Даже синтагмам не удается выстроиться. Повторяемый ритм, монотонная мелодия все больше завладевают разорванными логическими последовательностями, превращая их в возвращающиеся, навязчивые литании. Наконец, когда эта скудная музыкальность тоже истощается или когда ей просто не удается сложиться из-за молчания, меланхолик, похоже, вместе с высказыванием приостанавливает всякую идеацию, погружаясь в белизну асимволии или в чрезмерную полноту идеационного неупорядоченного хаоса.
Разорванное сцепление: биологическая гипотезаЭта безутешная печаль часто скрывает реальную предрасположенность к отчаянию. Частично она, возможно, является биологической – слишком большая скорость или слишком сильное замедление передачи нервных сигналов, несомненно, зависят от некоторых химических субстанций, которые у разных индивидуумов присутствуют в разных соотношениях42.
В медицинском дискурсе предполагается, что следование друг за другом эмоций, движений, действий или речей, признанное за норму в силу статистического преобладания, при депрессии оказывается заторможенным – общий ритм поведения разорван, у действия и его развития нет больше ни места, ни времени для осуществления. Если недепрессивное состояние означало способность сцеплять («логически связывать»), то, напротив, больной депрессией, прикованный к своему страданию, больше ничего не связывает и, как следствие, не действует и не говорит.
«Замедления»: две моделиМножество авторов обращали особое внимание на двигательную, аффективную и идеаторную заторможенность как характерные признаки депрессивно-меланхолического комплекса43. Даже психомоторное возбуждение и сопровождаемая бредом депрессия или, в более общем случае, депрессивное настроение кажутся неотделимыми от заторможенности44. Элементом той же картины является и речевая заторможенность – достаточно медленная манера высказывания, с длинными и частыми паузами, ритм речи замедляется, интонации становятся монотонными, а синтаксические структуры, не выказывая тех искажений и смещений, которые обнаруживаются при разных случаях шизофрении, зачастую характеризуются невосполнимыми пропусками (пропуск дополнения или глаголов, которые невозможно восстановить исходя из контекста).
Одна из моделей, предложенных для осмысления процессов, поддерживающих состояние депрессивной заторможенности, а именно модель «learned helplessness» («приобретенной беспомощности») исходит из наблюдения, что в случае, когда все выходы закрыты, животное, как и человек, учится самоустраняться, не пытаясь бежать или драться. Заторможенность или бездействие, которые можно было бы назвать депрессивными, оказываются, таким образом, приобретенной защитной реакцией на безысходную ситуацию и на неизбежный шок. Трициклические антидепрессанты, по видимости, восстанавливают способность к бегству, что позволяет предположить, что приобретенное бездействие связано с ослаблением норадренергической системы или же с холинергической гиперактивностью.
Согласно другой модели, любое поведение должно управляться системой аутостимуляции, основанной на компенсации, которая обусловливает запуск реакций. Тогда мы приходим к понятию «систем положительного или отрицательного закрепления», а если предположить, что в депрессивном состоянии эти системы работают неправильно, следует перейти к изучению связанных с ними структур и медиаторов. Можно дать двойное объяснение такому нарушению. Поскольку структура закрепления, медиальная поверхность конечного мозга, зависимая от норадренергических медиаторов, отвечает за реакцию, заторможенность и депрессивное замыкание должны быть связаны с ее дисфункциями. С другой стороны, в основе тревоги может лежать гиперактивность «наказывающих» систем предохранения, управляемых холинергическими медиаторами45. Роль locus cœruleus [голубого пятна] в медиальной поверхности конечного мозга, по существу, сводится к аутостимулированию и норадренергической передаче. В опытах по подавлению реакции посредством ожидания наказания, напротив, повышается уровень серотонина. Лечение депрессии, таким образом, должно приводить к повышению уровня норадреналина и понижения серотонина.
Эта существенная роль locus cœruleus отмечается многими авторами, которые говорят о нем как «передаточном центре „системы оповещения“, провоцирующей нормальный страх или тревогу <…> LC имеет нервные окончания, отходящие непосредственно от путей передачи болевых сигналов от тела, и проявляет устойчивые реакции на повторные вредные стимулы даже у животных, лишенных органов чувств. <…> Кроме того, существуют нервные пути, идущие от коры головного мозга и к ней, которые формируют петли обратной связи, объясняющие, как смысл и значение стимулов могли бы оказывать воздействие на реакции. Именно эти петли обратной связи указывают на зоны, которые, возможно, отвечают за когнитивный опыт того или иного эмоционального состояния»46.
Язык как «стимулирование» и «закрепление»Достигнув этой стадии современных попыток продумать два пути – психический и биологический – эмоций, мы можем заново поставить вопрос о ключевом значении языка для человеческого существа.
В опыте неотвратимого отлучения или же неизбежного шока (а также безысходного преследования) ребенок – в противоположность животному, которое способно отвечать лишь своим поведением – может найти какой-то вариант борьбы или бегства посредством психического представления или в языке. Он воображает, мыслит, проговаривает борьбу или побег, так же как и всю гамму промежуточных элементов, что позволяет ему не замыкаться в бездействии и не изображать смерть, когда он травмирован некоей фрустрацией или когда ему причинен непоправимый ущерб. Однако, чтобы это недепрессивное решение меланхолической дилеммы бежать–драться / притворяться мертвым (flight–fight / learned helplessness) было разработано, ребенку требуется устойчивое включение в символический и воображаемый код, который только при этом условии становится стимулированием и подкреплением. Тогда он запускает реакции на определенное действие, которое неявным образом тоже оказывается символическим, оформленным языком или осуществляемым только благодаря языку. Если же, напротив, символического измерения оказывается недостаточно, субъект попадает в безысходную ситуацию отчаяния, которая приводит его к бездействию и смерти. Другими словами, язык в своей разнородности (первичные и вторичные процессы, идеаторный и эмоциональный вектор желания, ненависти, конфликтов) является мощным фактором, который через неизвестные системы опосредования оказывает действие активации (как и, наоборот, торможения) на нейробиологические контуры. Эта оптика, однако, оставляет многие вопросы нерешенными.
Является ли та символическая недостаточность, которая обнаруживается у больного депрессией, всего лишь одним из клинически фиксируемых элементов заторможенности, или же она образует их существенное условие? Обусловлена ли она дисфункцией нервной или эндокринной систем, которые поддерживают (но каким образом?) психические и, в частности, словесные представления, так же как пути, связывающие их с ядрами гипоталамуса? Или же речь идет о недостаточности символического импульса, которое обусловлено только лишь семейной и социальной средой?
Не исключая первую гипотезу, психоанализ прилагает свои силы к прояснению второй. Поэтому мы будем спрашивать себя о том, каковы механизмы, которые снижают символический импульс у того субъекта, который, однако, приобрел адекватную символическую способность, зачастую соответствующую (по крайней мере, внешне) социальной норме, а иногда и чрезвычайно развитую. Мы попытаемся через динамику лечения и особую экономию интерпретаций восстановить ту ее силу, которая оптимальна для воображаемого и символического измерения гетерогенного комплекса, которым является говорящий организм. Это приведет нас к вопросу об отказе от означающего, наблюдаемого у депрессивного человека, а также о роли первичных процессов в депрессивной речи, как и в интерпретативной речи в качестве «воображаемой и символической прививки», осуществляемой посредством первичных процессов. Наконец, мы зададимся вопросом о важности нарциссического признания и идеализации для облегчения закрепления пациента в символическом измерении, которое зачастую означает новое освоение навыка коммуникации в качестве параметра желания и конфликта или даже ненависти.
Чтобы в последний раз коснуться проблемы «биологического предела», к которой затем мы уже не будем обращаться, скажем, что уровень психического представления и, в частности, лингвистического представления в нейробиологическом отношении транспонируется в физиологические события мозга и, в конечном счете, – в многочисленные сети гипоталамуса (ядра гипоталамуса соединены с корой головного мозга, функционирование которой поддерживает – но каким именно образом? – смысл, так же как с лимбической системой ствола мозга, функционирование которого обеспечивает аффекты). Сегодня нам неизвестно, как осуществляется подобное транспонирование, однако клинический опыт дает нам основание думать, что оно действительно имеет место (например, можно вспомнить о возбуждающем или, напротив, успокоительном, опиатном, воздействии некоторых слов). Наконец, определенное число заболеваний (и депрессий), происхождение которых можно отнести к нейрофизиологическим нарушениям, запущенным символическими недостаточностями, остаются привязанными к уровням, недоступными для воздействия языка. В таком случае необходима помощь со стороны антидепрессанта, который способен восстановить минимальный нейрофизиологический базис, от которого может отталкиваться психотерапевтическая работа, анализирующая символические хитросплетения и связки с целью восстановления новой символичности.
Другие формы возможного транспонирования между уровнями смысла и функционирования мозгаРазрывы в лингвистической непрерывности или, тем более, их восполнение сверхсегментными операциями (ритмами, мелодиями) в речи депрессивного человека могут интерпретироваться как следствие нарушения работы левого полушария, которое управляет лингвистической деятельностью, передающего в таком случае – пусть даже временно – управление правому полушарию, заведующему аффектами и эмоциями, а также их «первичными», «музыкальными», а не лингвистическими вписываниями47. Впрочем, к этим наблюдениям можно добавить модель двойного функционирования мозга: с одной стороны, нейронного, электрического, кабельного или цифрового, а с другой – эндокринного, гуморального, флуктуирующего и аналогового48. Похоже, что некоторые химические вещества мозга и даже некоторые нейротрансмиттеры могут обладать двойной функцией – в одних случаях «нейронной», а в других – «эндокринной». В общем, если учесть этот дуализм мозга, благодаря которому страсти привязаны главным образом к гуморальной системе, можно говорить о «флуктуирующем центральном состоянии». Если допустить, что язык должен на своем собственном уровне выражать это «флуктуирующее состояние», в функционировании самого языка необходимо будет выделить одни регистры, которые ближе к «нейронному мозгу» (например, грамматическая и логическая непрерывность), и другие регистры, более близкие к «мозгу-железé» (сверхсегментные компоненты речи). Таким образом, можно было бы продумать отношение «символической модальности» означивания к левому полушарию и к нейронному мозгу и, обратно, отношение «семиотической модальности» к правому полушарию и к мозгу-железé.
Однако сегодня ничто не позволяет установить какое-либо соответствие – если только это не разрыв – между биологическим субстратом и уровнем представлений, будь они тональными или синтаксическими, эмотивными или когнитивными, семиотическими или символическими. Однако нельзя пренебрегать возможными соотнесениями двух этих уровней, – напротив, нужно попытаться вызвать резонанс действия одного уровня в другом: резонанс, конечно, случайный и непредвиденный, а также определить преобразования одного уровня за счет другого.
В заключение скажем, что, если дисфункция норадреналина и серотонина или же соответствующих им рецепторов снижает проводимость синапсов и может вызвать депрессивное состояние, роль данных синапсов в звездчатой структуре мозга все равно не может быть абсолютной49. Недостаток в подобных элементах может быть возмещен другими химическими феноменами, а также иными внешними воздействиями (включая и символические) на мозг, который приспосабливается к ним посредством биологического изменения. В самом деле, опыт отношения к другому, его страсти и его радости в конечном счете оставляют свой отпечаток на биологической почве и завершают хорошо известную картину депрессивного поведения. Не отказываясь в борьбе против меланхолии от химического воздействия, психоаналитик располагает (или может располагать) расширенной гаммой вербализаций этого состояния и способов его преодоления. Сохраняя внимание к этим взаимодействиям, он будет ограничиваться специфическими изменениями депрессивного дискурса, а также проистекающей из них конструкцией его собственной интерпретативной речи.
Столкновение психоанализа с депрессией приводит его поэтому к вопросу о позиции субъекта по отношению к смыслу, а также о гетерогенных измерениях языка, позволяющих осуществлять различные психические вписывания, которые именно в силу этого разнообразия должны иметь большее число возможностей влиять на разные аспекты функционирования мозга и, соответственно, на деятельность организма в целом. Наконец, с этой точки зрения, воображаемый опыт предстанет перед нами одновременно как свидетельство битвы, которую человек ведет против символической капитуляции, внутренне обусловленной депрессией, и как определенный набор средств, способных обогатить интерпретативный дискурс.
Психоаналитический прыжок: связывать и перемещатьС точки зрения психоаналитика, способность связывать означающие (речи и акты), видимо, зависит от завершения траура по архаичному необходимому объекту, а также от эмоций, которые с ним связаны. Траур по Вещи – сама его возможность происходит из (осуществляемого по ту сторону потери и в регистре воображаемого или символического) перемещения мет взаимодействия с другим, артикулирующихся в определенном порядке.
Освобожденные от изначального объекта семиотические меты сначала упорядочиваются в серии в соответствии с первичными процессами (смещение и сгущение), затем – синтагмами и фразами, то есть в соответствии со вторичными процессами грамматики и логики. Сегодня все науки о языке признают, что дискурс является диалогом – его упорядочивание (как ритмическое, так и интонационное или синтаксическое) требует наличия двух собеседников. Однако к этому фундаментальному условию, которое уже предполагает необходимое разделение одного субъекта и другого, необходимо добавить тот факт, что вербальные последовательности осуществляются лишь при условии замены более или менее симбиотического изначального объекта пере-мещением [trans-position], которое является действительным вос-становлением [re-constitution], в ретроактивном порядке наделяющем смыслом и формой мираж изначальной Вещи. Это решающее движение перемещения включает две составляющие: во-первых, завершение траура по объекту (а в его тени – траура по архаичной Вещи), а во-вторых – присоединение субъекта к регистру знаков (означающих именно в силу отсутствия объекта), только таким образом получающего способность упорядочиваться в серии. Свидетельство этому обнаруживается в том, как выучивает язык ребенок, в своих бесстрашных скитаниях покидающий колыбель для того, чтобы обрести мать в царстве представлений. Другим свидетельством – свидетельством от противного – является депрессивный человек, когда он отказывается наделять что-либо значением и погружается в молчание боли или в спазм слез, которые служат поминовением о воссоединении с Вещью.
Пере-мещать, по-гречески – metaphorein, перевозить: язык изначально является переводом, но именно в регистре, гетерогенном тому, в котором осуществляется аффективная потеря, отказ, разлом. Если я не согласен потерять маму, я не смогу ее ни воображать, ни именовать. Психотическому ребенку эта драма известна – он оказывается неспособным переводчиком, ему неведома метафора. Что же до дискурса в депрессии, он является «нормальной» поверхностью психотического риска: печаль, затопляющая нас, заторможенность, парализующая нас, суть еще и заслон – порой последний – от безумия.
Не состоит ли в таком случае судьба говорящего существа в том, чтобы беспрестанно все дальше и все больше в сторону перемещать это сериальное или фразовое перемещение, свидетельствующее о нашей способности проработать фундаментальный траур и все последующие трауры? Наш дар речи, то есть дар, позволяющий располагаться во времени по отношению к другому, не мог бы существовать иначе, как по ту сторону пропасти. Говорящее существо, начиная с его способности длиться во времени и заканчивая его воодушевленными, научными или попросту забавными конструкциями, требует разрыва в своем собственном основании, некого забвения, беспокойства.
Отрицание этой фундаментальной потери открывает нам страну знаков, однако часто траур остается незавершенным. Он сокрушает отрицание и оживляет память знаков, выводя их из их означающей нейтральности. Он нагружает их аффектами, что в результате делает их двусмысленными, повторяющимися, просто аллитеративными, музыкальными, а порой бессмысленными. В таком случае перевод – то есть наша судьба говорящих существ – прерывает свой головокружительный бег к метаязыкам или к иностранным языкам, которые суть именно знаковые системы, удаленные от места страдания. Он пытается сделать себя чуждым самому себе, дабы в родном языке найти «полное, новое, чуждое языку слово» (Малларме) и схватить само неименуемое. Соответственно, избыток аффекта может проявляться только посредством производства новых языков – странных сцеплений, идиолектов, поэтики. Пока вес первичной Вещи не раздавит его, когда перевод станет вообще невозможным. Меланхолия завершается в асимволии, в потере смысла – если я не способен переводить и метафоризировать, я умолкаю и умираю.
Отказ от отрицанияПослушайте снова несколько мгновений депрессивную речь – повторяющуюся, монотонную или лишенную смысла, неслышимую даже для того, кто ее произносит, прежде чем он замкнется в собственной немоте. Вы заметите, что смысл у меланхолика представляется… произвольным или что он выстраивается при помощи умения и желания сохранять выдержку, но кажется при этом вторичным, словно бы оседающим в стороне от головы и тела человека, который говорит с вами. Или вы отметите, что этот смысл тут же ускользает, оказываясь неопределенным, лакунарным, почти немым – с вами «говорят»50 будто бы в убеждении, что речь ложна, то есть с вами «говорят» небрежно, «говорят», не веря в собственную речь.
Но произвольность смысла лингвистика утверждает в отношении всех вербальных знаков и всех видов дискурса вообще. Разве означающее «смех» как-то обусловлено отношением к смыслу «смеха» или, тем более, к акту смеха, к его физическому осуществлению, к его внутрипсихическому и интеракционному значению? Доказательство: я называю один и тот же смысл и один и тот же акт по-английски «to laugh», по-французски «rire» и т. д. То есть любой «нормальный» говорящий человек научается принимать эту искусственность всерьез, инвестировать ее или же забывать о ней.
Знаки произвольны, поскольку язык начинается с отрицания (Verneinung) потери – в то самое время, что и депрессия, обусловленная трауром. «Я потерял необходимый объект, который, в конечном счете, оказывается моей матерью» – вот что, похоже, говорит говорящее существо. «Но нет, я обрел ее в знаках или, скорее, поскольку я соглашаюсь ее потерять, я ее не потерял (вот отрицание), я могу восстановить ее в языке».
Депрессивный человек, напротив, отказывается от отрицания: он аннулирует его, его подвешивает и в ностальгии замыкается на реальном объекте (Вещи) своей потери, который ему как раз не удается потерять и к которому он остается мучительно прикованным. Отказ (Verleugnung) от отрицания оказывается, таким образом, механизмом невозможного траура, учреждением фундаментальной печали и искусственного, ненадежного языка, выкроенного из того болезненного фона, которого не может достигнуть никакое означающее и который может модулироваться лишь интонацией, прерыванием речи.
Что понимать под «отказом» и «отрицанием»?Под «отказом» мы будем понимать отказ как от означающего, так и от семиотических репрезентантов влечений и аффектов. Термин «отрицание» будет пониматься как обозначение интеллектуальной операции, которая приводит вытесненное к представлению при условии отрицания этого вытесненного и в силу этого факта участвует в пришествии означающего.
По Фрейду, отказ, или отпирательство (Verleugnung), относится к психической реальности, которую он считал относящейся к порядку восприятия. Этот отказ обыкновенен для ребенка, однако у взрослого он становится отправной точкой для психоза, поскольку начинает распространяться на внешнюю реальность51. Однако, в конечном счете, отказ находит свой прообраз в отказе от кастрации и специфицируется в качестве основного фактора, определяющего фетишизм52.
Наше расширение поля фрейдовского Verleugnung не изменяет его функции, которая заключается в производстве расщепления в субъекте: с одной стороны, субъект отказывается от архаических репрезентаций травматических представлений, с другой – он символически признает их влияние и пытается извлечь из них следствия.
Однако в нашей концепции видоизменяется объект отказа. Отказ действует на внутрипсихическое (семиотическое и символическое) вписывание нехватки, которая может на фундаментальном уровне быть нехваткой объекта или подвергаться предельной эротизации в виде кастрации женщины. Другими словами, отказ действует на означающие, способные вписывать семиотические следы и перемещать их, дабы создавать в субъекте смысл для другого субъекта.
Можно отметить, что эта отвергаемая ценность депрессивного означающего выражает ту невозможность завершить траур по объекту, которая часто сопровождается фантазмом фаллической матери. Фетишизм представляется решением для депрессии и ее отказа от означающего: фетишист замещает фантазмом и отыгрыванием отказ от психической боли (от психических репрезентантов боли), следующей за потерей биопсихического равновесия в результате потери объекта.
Отказ от означающего подкрепляется отказом от отцовской функции, которая как раз и гарантирует установление означающего. Отец депрессивного человека, сохраняемый в своей функции идеального или воображаемого отца, лишается фаллической силы, приписываемой матери. Этот отец, соблазнительный или соблазняющий, хрупкий и притягательный, поддерживает субъекта в его страсти, но не обеспечивает его возможностью найти выход посредством идеализации символического. Когда такая идеализация вступает в права, она опирается на отца, выполняющего материнские функции, и идет по пути сублимации.
Отрицание (Verneinung), двусмысленности которого развертываются и утверждаются Фрейдом в его исследовании «Die Verneinung»53 – это процесс, который вводит в сознание определенный аспект желания и бессознательной идеи. «Отсюда проистекает определенное интеллектуальное принятие вытесненного, тогда как главный момент вытеснения сохраняется»54. «При помощи символа отрицания мышление освобождается от ограничений вытеснения»55. Благодаря отрицанию «вытесненное содержание представления или мысли может дойти до сознания»56. Этот психический процесс, встречающийся в случаях защиты пациентов от собственных бессознательных желаний (высказывание «Нет, я его не люблю» должно в таком случае обозначать как раз признание этой любви в форме ее отрицания), совпадает, таким образом, с процессом, который производит логический и лингвистический символ.
Мы предполагаем, что негативность охватывает всю психическую деятельность говорящего существа. Ее различные модальности, которые суть отрицание, отказ и отвергание [forclusion] (они могут производить или видоизменять вытеснение, сопротивление, защиту или цензуру), как бы они ни отличались друг от друга, влияют и взаимно обуславливают друг друга. Не существует «символического дара» без расщепления, а способность к речи потенциально всегда несет с собой фетишизм (пусть даже фетишизм самих символов), как и психоз (пусть и в стадии ремиссии).
Однако разные психические структуры по-разному управляются этим процессом негативности. Если отвергание (Verwerfung) одерживает верх над отрицанием, символическая ткань рвется, стирая самую реальность – такова экономия психоза. Меланхолик, способный дойти до отвергания (меланхолический психоз), при благоприятном развитии его болезни характеризуется однако же господством отказа над отрицанием. Семиотические субстраты (аффективные или определяемые влечениями репрезентанты потери и кастрации), скрывающиеся за лингвистическими знаками, подвергаются отрицанию, и, соответственно, упраздняется внутрипсихическая способность этих знаков производить для субъекта смысл. В результате травматические воспоминания (потеря любимого родителя в детстве, какая-то более актуальная травма) не вытесняются, но постоянно поминаются, поскольку отказ от отрицания мешает работе вытеснения или, по крайней мере, той ее части, которая связана с представлением. Так что это поминание, это представление вытесненного не достигает символической проработки потери, поскольку знаки оказываются неспособными схватить первичные внутрипсихические вписывания и покончить с этой потерей благодаря такой проработке – напротив, в бессилии они воспроизводятся снова и снова. Человек в депрессии знает, что он полностью определяется своими настроениями, но он не пропускает их в свою речь. Он знает, что страдает по причине отделения от нарциссической материнской оболочки, но постоянно удерживает свою власть над этим адом, который нельзя потерять. Он знает, что у его матери нет пениса, но при этом постоянно представляет его – не только в снах, но и в своем «освобожденном», «бесстыдном» фактически нейтральном дискурсе, вступая в соревнование, зачастую грозящее смертью, с этой фаллической властью.