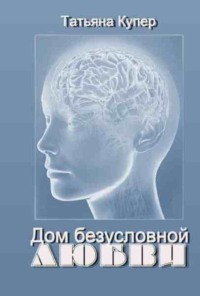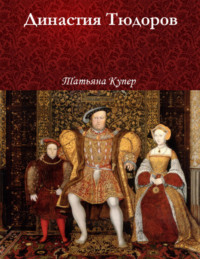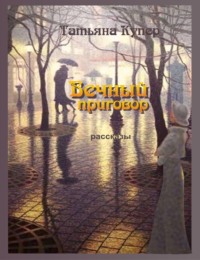Полная версия
РУССКАЯ ЖЕНА
В комнату зашла очень приятная, средних лет, женщина. Она села напротив, посмотрела мне прямо в глаза и спросила ласковым тоном: «Танечка! С кем ты хочешь жить?». Впервые в жизни кто-то посмотрел мне в глаза и спросил, чего же я хочу. Как я могла упустить такую роскошнейшую возможность?! Поэтому повторить приготовленную ложь для меня было выше всяких сил. Я полностью забыла про написанный для меня сценарий и выпалила правду, известную только мне одной: «Я хочу жить с папой и мамой», чем сорвала все планы моего папы наказать маму и заставить ее платить алименты. Бабушка и папа остались очень недовольны и строго отчитали меня за такую строптивость и непослушание. Моим вторым жизненным уроком стало новое убеждение, что высказывать свои истинные желания – совсем небезопасное дело. Первое семя вины было посеяно…
Потерпев полное фиаско в лесу, и испугавшись, что ей придется платить алименты в течение последующих десяти лет, мама наконец-то сложила оружие и больше никогда не претендовала на роль матери. Правда, убедив себя при этом, что «эти ужасные люди» отняли у неё дочь, что помогло ей надолго и полностью избавиться даже от самых крохотных угрызений совести. Война между двумя враждующими лагерями закончилась, что принесло мне огромное, хотя и временное, облегчение.
Так как маме больше ничего не надо было доказывать, она ударилась в еще больший разгул, меняя мужчин чуть ли не каждый день. По какой-то совершенно необъяснимой причине она делала это совершенно открыто, я бы сказала, даже демонстративно и вызывающе. Эта демонстративность постепенно вылилась в такое бесстыдство, что соседей по квартире, у которых тоже были дети, начал возмущать этот полный и неприкрытый разврат. Они не стеснялись заявить свой протест прямо в лицо разгульной соседки, обзывая ее при этом всевозможными нецензурными словами. Мама не молчала в ответ и всегда с готовностью подхватывала вызов, бросая фразы, услышанные в каком-то дешевом спектакле, которые она любила посещать: «Я совершенно свободная женщина и могу делать всё, что я хочу! А вы мещане и обыватели, и никогда не поймёте, что такое настоящая любовь!»
Уходя на очередную охоту за любовником, мама обычно считала своим долгом заглянуть в нашу комнату – всегда весёлая, счастливая, нарядная, с уложенными перманентом волосами, ярко накрашенными бровями и губами, и непременно надушенная. Она пользовалась таким количеством духов, что после ее минутного пребывания запах в комнате оставался на целый вечер. Этот удушающий запах дешевых парфюмов запомнился мне надолго, и с тех пор я просто возненавидела духи.
Мама всегда весело сообщала, куда она идет – обычно это было кино, концерт или лекция, – и затем беззаботно исчезала в отвратительном шлейфе духов. Возвращалась она очень поздно, когда я уже была в постели. И еще долго за полночь мне мешали уснуть ее громкий, счастливый хохот и низкий баритон ее очередного спутника. Утром она обычно провожала его до входной двери – для этого она должна была пройти по длинному коридору, затем через общую кухню, где соседи готовили в это время завтрак. Она гордо шла впереди мужчины, мимо возмущенных соседей, и во весь голос пела свою любимую оперную арию, что-то вроде «Сердце красавицы…» Зрелище было таким абсурдным, постыдным и трагикомичным, что мне хотелось провалиться сквозь половицы паркета на нижние этажи и очутиться где-то в тёмном подвале.
Однажды вечером мне было особенно одиноко, и меня потянуло к двери маминой комнаты. По её счастливому смеху я сразу поняла, что она была не одна. Я тихо стояла у запертой двери – за ней была моя мама, которая не хотела быть моей мамой. Вместо этого она предпочитала развлекать незнакомцев. Я нерешительно постучалась. Она долго не открывала, нетерпеливо спрашивая: «Что тебе надо?». Я ответила, что мне нужна какая-то книга, и продолжала стоять в ожидании, пока не услышала поворот ключа в замке. Дверь открылась, и на пороге тёмной комнаты я увидела обнаженную фигуру – мама даже не удосужилась накинуть на себя халат, и это полное бесстыдство опять обожгло меня, как горячим кипятком. Она сунула мне в руку книгу и быстро закрыла дверь, а я продолжала стоять перед закрытой дверью, с глупой книгой в руках.
В тот день я похоронила последнюю надежду на нормальные отношения с матерью. В свои девять лет я приняла безоговорочное решение, что никогда не буду такой, как она. Мало того, она стала для меня такой неприятной, что каждый раз, когда она пыталась дотронуться до меня или даже обнять, я отстранялась или брезгливо отдёргивала руку. Я не чувствовала ничего, кроме омерзения и отвращения, как будто боялась, что она может запачкать и меня… Мне всегда было грустно, что у всех детей есть мамы, и у них есть такая обольстительная возможность получать родительскую ласку, любовь и заботу. Я даже мечтала, чтобы меня отдали в детский дом, чтобы кто-нибудь меня смог удочерить. И тогда у меня тоже были бы нормальные родители, как у всех…
Когда мне исполнилось шестнадцать лет, папе всё же удалось заставить маму платить алименты, так как она до сих пор не принимала никакого участия в содержании её дочери. К тому времени наши отношения с матерью начали принимать странную форму – она пыталась быть моей подружкой. Она любила мне рассказывать о своих любовных похождениях и даже делилась довольно интимными проблемами, совершенно не задумываясь, какой эффект это может оказать на меня. Иногда она приглашала меня пойти с ней в кино или театр, и я соглашалась, но только из любви к кинематографу и театру. Мне не нужна была еще одна подружка, мне нужна была мать, но это была единственно важная для меня роль, которую она отказывалась играть.
Так я познала первый из семи кругов ада, который можно назвать «Ненужность». Основные вехи и образы этого круга – белые стены больницы, блуждание в лесу и закрытая дверь – остались в моем подсознании надолго, пустив глубокие корни в последующее восприятие окружающего мира.
Глава 2. Вина
Два враждующих лагеря по-прежнему жили на разных территориях, и нас отделяла от мамы всего лишь тонкая стена. В новой комнате было еще более тесно, и радость переселения длилась совсем недолго. Особенно недолго она длилась у папы – он по-прежнему был вынужден наблюдать фривольность бывшей жены. Я думаю, что этот немаловажный фактор повлиял на его решение вернуться в Москву и начать там всё сначала. Быстро был найден удобный предлог – его русскоязычные стихи трудно было опубликовать на Украине. Он просто сбежал, оставив меня в коммунальной квартире с двумя женщинами, ненавидевшими друг друга.
Теперь моим воспитателем была только бабушка. Бабушка была необразованной безграмотной женщиной – единственное, что она знала, это тяжелый труд с утра до вечера, – она всю жизнь ухаживала за чьими-то детьми, кого-то обстирывала или обшивала. У неё так же, как и у моей мамы, рано умер отец – ей было всего семь лет, и ее воспитывал отчим. Бабушка вышла из семьи, состоящей из двенадцати детей, и в шестнадцать лет она убежала из дома, потому что не выдержала методов домостроевского воспитания. Ее детство прошло в дореволюционной России, когда главным орудием воспитания за столом была деревянная ложка – дети больно получали ею по лбу, если не вовремя открывали рот или брали еду без разрешения. По каким-то причинам, о которых она никогда не рассказывала, бабушка была сильно обижена на свою мать, и они всю жизнь не разговаривали. Впрочем, она не разговаривала и с остальными членами своей семьи – многочисленными братьями и сёстрами. Несмотря на это, она назвала меня в честь своей матери – Татьяной. Я не помню, чтобы бабушка проявила какие-либо эмоции при получении письма от своей сестры Ираиды, в котором та извещала, что в возрасте 96 лет их мать скончалась.
Бабушка была замужем два раза, но, по ее же словам, не любила ни одного из своих мужей. От первого мужа она сбежала после первого года замужества, а второй – отец моего папы – не вернулся с войны. Вернее он вернулся, но не к ней. Он привез с фронта другую женщину и даже женился на ней, не разведясь с бабушкой. Так что дедушка был еще тот гуляка. У них родился сын Сергей, и они прожили вместе 25 лет, пока он не умер от рака желудка. Обе жены дедушки подали заявление в отдел соцобеспечения на его военную пенсию, но обе получили отказ, причем на вполне законных основаниях – с первой женой он не жил многие годы, а второй брак был объявлен недействительным. Я видела дедушку только один раз – он приехал как-то навестить нас в Киеве. Мне было всего шесть лет, и он был еще одним случайным незнакомцем в моей маленькой жизни.
Больше мужчинами бабушка не интересовалась, и эта тема осталась для нее закрытой навсегда. Ни один мужчина не смог покорить ее суровое женское сердце – втайне она их всех презирала, причем с каким-то фанатичным, не терпящим никаких компромиссов упрямством. Исключением был только один мужчина, и только он один был дорог и мил ее огрубевшему сердцу – она инстинктивно направила на него все свои нерастраченные чувства. Это был её драгоценный сын. Она готова была положить в жертву себя и всех окружающих – лишь бы её сын «выбился в люди». Во имя этой святой цели она освободила его от всех обременительных обязанностей, включая даже бремя отцовства. При этом ему позволялось и сходило с рук буквально всё – любые вспышки гнева и оскорбления со стороны молодого дарования воспринимались ею как подарки свыше. Он был постоянным источником её гордости – у неё, у неграмотной женщины, сын стал членом Союза Писателей! Ничто не должно было стоять на его пути!
Она любила его так преданно и самозабвенно, как только может любить простая русская женщина, не знающая в жизни ничего другого. Иногда бабушка плакала, увидев своего любимого сына по телевизору, или умилялась от одного звука его голоса, когда он читал свои стихи, хотя сама она в них ничего не понимала. Наша комната всегда была открыта для его собратьев по перу, а также для вдохновлявших его «нимф». Бабушка щедро ставила на стол домашние угощения, которые она беспрерывно готовила на большой кухне. Вино и водка лились рекой, всё это попеременно закусывалось, а затем друзья-поэты начинали читать стихи и хвалить себя и друг друга за редчайшие поэтические шедевры.
Я любила эти домашние пиршества. Во-первых, потому что я могла вкусно покушать, а во-вторых, потому что никто меня не отчитывал и не ругал, и я могла просто тихо сидеть и слушать, поддавшись плавной мелодии стихов. С годами, особенно когда папа уехал в Москву, эти поэтические вечеринки устраивались в нашей квартире всё реже и реже.
После папиного отъезда в лагере бабушки и папы наступило временное затишье. Громкие скандалы с мамой перешли в холодную войну, где главным оружием стали мораль, шпионаж и пропаганда. Бабушка неусыпно следила за действиями мамы, показывая пальцем в ее сторону и неустанно повторяя: «Посмотри на неё! Совсем стыд потеряла. Проститутка последняя». Как будто было недостаточно того, что при живых родителях я осталась практически сиротой. Как будто было недостаточно, что на протяжении многих лет я наблюдала за низким падением моей матери. Нет, бабушка почему-то считала своим долгом напоминать мне об этом, призывая в немые свидетели.
Каждый день она проповедовала ненависть, и мне приходилось выслушивать бесконечный поток недовольства и злобы. Она обычно говорила без остановки, монотонным ворчащим голосом, и в этой монотонности мне чудилась какая-то ужасающая безысходность. Это был даже не яд – это было больше похоже на бесконечный поток липкого гноя, который просачивался в уши, мозг, душу и душил каждую клетку моего организма. Так шли дни, месяцы и годы, а этот поток всё лился и лился, без остановки…
Я могу с достаточной уверенностью предположить, что только из-за любви к своему сыну бабушка взвалила на себя ношу моего воспитания. Она пожертвовала собой ради его карьеры, но теперь это самопожертвование явно оказалось для неё непосильной ношей, которую она продолжала нести, несмотря ни на что, наказывая меня за тяжесть этой ноши и заставляя слушать ее громкие стенания. Много позже я поняла – щедрый подарок любви предназначался совсем не мне…
Это была суровая, холодная женщина, не испытывающая сострадания ни к одному живому существу. В детстве я очень любила животных, и однажды принесла в дом бездомного котёнка. Бабушка разрешила мне оставить его в квартире, но при условии, что он не будет переступать порог нашей комнаты. Когда Мурка подросла, она стала частенько приносить котят, которых бабушка с такой же регулярностью топила в ведре с водой. Меня поражало, с какой бессердечностью она проделывала эту жестокую процедуру, и даже посмеивалась, когда один из котят не хотел захлёбываться и цеплялся за жизнь. Она потом рассказывала своим монотонным голосом, что она «помогла» ему веником или палкой, как будто речь шла о засолке огурцов или капусты. Бедная Мурка потом долго еще бродила в полной растерянности по квартире, в поиске своих котят, и эхо её бесконечного «Мяу» еще долго отдавалось в моих ушах.
Муркины котята были не единственными жертвами бабушки. Дело в том, что бабушка любила побаловать свою семью свежей курятиной, и поэтому частенько покупала на базаре живых кур. Притащив домой очередную клушу, она без промедления, прямо у меня на глазах, перерезала ей горло ножом в кухонной раковине, при этом тоже посмеиваясь, если та сопротивлялась и пыталась избежать своей кровавой участи. Но от бабушки убежать было невозможно! Куриные котлеты были несомненно очень вкусными, но душераздирающие крики бедных кур и вид крови тоже преследовали меня долгое время. Обезглавленные куры попадали не только на наш стол. Еще она резала кур для соседей – никто в доме не мог это сделать лучше неё.
Бабушка не была верующей, никогда не ходила в церковь, не знала ни одной молитвы и слыхом не слыхала о щедрости Господней, которая учит доброте и прощению. Она вспоминала о Боге только в контексте наказания ближних за их смертные грехи, и на этом её религиозность заканчивалась. Наша комнатка превратилась в пуританскую келью, полностью позабытую Господом Богом, где от меня требовалось только одно – полное послушание. Бабушка воспитывала меня в большой строгости и любила поговаривать: «Тебя надо держать в ежовых рукавицах».
Именно «ежовые рукавицы» были главным инструментом её любви. Мне не разрешалось стричь волосы, и каждый день она заплетала мне длинные тугие косы, которые я просто ненавидела. Ее грубые неласковые руки делали мне больно, и у меня было ощущение, что на меня надевают смирительную рубашку. Моя одежда полностью состояла из перешитых старых тряпок, оставленных ей соседями, или из старых папиных вещей. Еда подавалась на стол более чем скромная, никаких излишеств – это было привилегией папы и его поэтов-собратьев. Чаще всего она варила какую-то бурду, напоминающую русские щи, и заставляла меня кушать их каждый день с большим количеством хлеба, на который впоследствии у меня была обнаружена аллергия.
Когда мне исполнилось одиннадцать лет, бабушка начала запрещать мне выходить на улицу и встречаться со сверстниками. Пуританская келья превратилась в настоящую тюрьму, где я чувствовала себя в глубоком заточении – теперь мне разрешалось ходить только в школу. Мне позволялось выходить на улицу только в редких случаях, но за это нужно было дорого платить – бабушка приказывала мне встать на колени и просить разрешения. Я все еще была послушной и тихой девочкой и поэтому безоговорочно подчинялась – я опускалась на колени и со слезами на глазах умоляла её отпустить меня на улицу, или дать мелочь на каток, кино или мороженое.
В какой-то момент я уже не представляла, как можно выйти на улицу или получить карманные деньги просто так, без всяких усилий и унижений. Иногда я делала это недостаточно усердно, и тогда бабушка осыпала меня упреками: «Упрямая! Вся в мать!». Идеальным примером мог служить только её сын: «Вот он всегда становился на колени и вымаливал у меня прощения, и всегда целовал мне руки». Мой самый страшный грех состоял в том, что я не похожа была на её любимого сына, а больше напоминала ненавистную невестку. Для меня так и осталось непонятным, какие внутренние мотивы могли заставить эту женщину ставить беззащитного, осиротевшего и обделённого ребенка на колени и обвинятьего в неблагодарности! Это был мой первый урок, полученный от бабушки – если хочешь получить что-то в жизни, ползай и умоляй…
«Неблагодарная» стало моим вторым именем. Бабушка всё делала по дому сама, и когда я проявляла инициативу, пытаясь ей помочь, она всегда отмахивалась: «Иди и делай уроки! Я сама!». Она не позволяла мне ничего делать, ревниво оберегая свои домашние дела, как будто я могла отнять у нее очередную возможность обвинить меня в неблагодарности. Ведь если я буду делать всё сама, как она сможет поддерживать моё чувство вины?
Мы жили в квартире без горячей воды, и раз в неделю бабушка водила меня в общественную баню. Там она снимала банный номер, где мы обычно вместе мылись. Я ненавидела эти походы, хотя баня была не так далеко – всего в десяти минутах от дома. Причиной этой ненависти был обжигающий мои внутренности стыд – мне было стыдно идти с бабушкой по улице. Я испытывала острую душевную пытку от одной только мысли, что кто-нибудь из знакомых или одноклассников увидит нас вместе! А вдруг люди догадаются о жестком контроле и о том, что она заставляет меня становиться на колени? А вдруг они заметят, что мы живем в нищете? А я стыдилась этой нищеты, как символа своего рабства.
Две самые главные женщины в моей жизни учили меня совершенно противоположному, показав мне не самый лучший пример проявления истинного женского начала, и тем самым полностью сбив меня с толку. Они были как два противоположных полюса – южный и северный. Мама была горячей, страстной, открытой до наивности женщиной, любящей всех и вся. Она любила мужчин, друзей, свои многочисленные хобби, путешествия и многое другое. Но в её любви было столько чувственности и жадности к удовольствиям, что она отдавалась этим удовольствиям без всякого стыда и укоров совести, начисто позабыв о близких людях. В её любви было столько эгоизма, что, в сущности, ничего весомого не досталось ни одному человеку – она распылила её на миллион частей, от которых, подобно крохотным каплям дождя, высушенным солнцем, не осталось даже и следа…
Бабушка была полной противоположностью. Это была ледяная, холодная женщина, окружившая себя забором ненависти. Остатки её доброты и нежности, похороненные на дне огрубевшей души, достались только одному человеку – ее единственному, ненаглядному сыну. Она тихо и молча провозгласила эту любовь, пожертвовав собой и посвятив свою жизнь только этому одному человеку. Она готова была платить за эту любовь страданиями и унижениями, и нести свою ношу мужественно, с чувством долга и даже гордости, не позволяя себе никаких удовольствий или излишеств. Её истинное «Я» стало символом и выражением полного самопожертвования.
Одна женщина учила меня, как безответственно любить, другая – как с чувством долга ненавидеть. Это было мое наследие, моё жизненное пособие, которое в будущем должно было определить мою женскую судьбу.
В лагере папы и бабушки давно уже пахло жареным. Папа хотел забыть прошлое, как страшный сон, а бабушке всё еще хотелось поддерживать пламя холодной войны. Ведь она всегда была его верным союзником – во время войны и голодовки, во время домашней войны – сначала с тетей Леной, а затем с моей мамой. Эти войны и связанные с ними трудности были единственными вехами их совместного пути, единственной ниточкой, которая их связывала. А теперь он начал новую жизнь, стал большим человеком. А что досталось ей? Жизнь в чужом городе, в квартире с бывшей невесткой и внучкой на руках. Во время папиных приездов бабушка продолжала жаловаться на мою маму, пытаясь вызвать в нём жалость к ее незавидной участи – жалость сына и была той благодарностью, которую она так ждала. Она нажимала все возможные кнопки, но они почему-то больше не работали – папа отчаянно сопротивлялся и не желал ничего слышать. Бабушка не сдавалась и чем больше она настаивала, тем папа всё больше раздражался. Постепенно его раздражение начало переходить в бурный гнев – с битьём посуды и стёкол в серванте. Он кричал и оскорблял свою мать, бегал по комнате как разъярённое животное, попавшее в клетку, а мне только оставалось тихо сидеть и смотреть на него испуганными глазами.
Такова была сыновья благодарность за всю её многолетнюю заботу! А что хуже всего – он больше не хотел быть её верным союзником. Он принимал позу «Как ты посмела нарушить мое счастье и покой?», никогда не извинялся за свою грубость, потом уезжал в Москву совершенно обиженный, каждый раз при этом сообщая, что больше никогда не приедет, и денег давать не будет. Его мать молчала в ответ, и когда он уезжал, она, убитая горем, вымещала всё своё невысказанное возмущение на мне. Ей хотелось разделить свою тяжкую ношу со мной, и даже сделать меня ответственной за эту ношу. Каждый день она третировала меня своим недовольством, которое походило на китайскую пытку, и эта пытка сводила меня с ума – капля за каплей, каждый день. Затем дни превращались в долгие месяцы, а месяцы – в долгие годы.
Теперь мир был не только жестоким и бездушным местом, он также стал длинной дорогой, по которой ты бредешь, еле передвигая ноги, потому что твоя ноша слишком тяжела. Я несла ношу вины за свою воспитательницу – за все ее чувства и страдания, за ее здоровье и благополучие, и даже за ее место жительства – ведь это из-за меня она приехала в Киев, оставив родную Россию.
Апогеем бабушкиного недовольства стал день, когда папа со своей новой московской женой Юлей решили произвести чистку в бабушкиных шкафах. Я уверена, что папа никогда не додумался бы до этого сам – ведь все его мысли были посвящены только поэзии. Но Юля невзначай упомянула, что, мол, у матери слишком много хлама и тряпок, и пора вынести это всё на помойку. Бабушка была в это время на даче у знакомых, как всегда ухаживая за чьими-то детьми. К своему несчастью я была совершенно свободна в тот день, и когда папа с Юлей попросили меня помочь, я без раздумий согласилась – мне самой не нравились эти забитые тряпками затхлые шкафы. Если честно, то в глубине души я их даже ненавидела – ведь бабушка шила мне из этих тряпок одежду. После нескольких часов усердного труда и насмешек над старой женщиной содержимое двух шкафов было успешно вынесено на помойку.
По возвращении бабушка получила самую большую душевную травму в своей жизни. Все её «богатства», включая закройки для знакомых, которым она пообещала что-то пошить, исчезли в одно мгновение ока. Сразу после ее возвращения папа с Юлей укатили обратно в Москву, и всё возмущение, прорывающееся из ран оскорблённой души, досталось только мне одной. Бабушка говорила об этом, по крайней мере, месяцев шесть – каждый день, изо дня в день, с утра до вечера. Ее сокрушению не было предела, и, конечно же, я опять была самым неблагодарным существом на этой планете. К моему блюду, которое и так становилось несъедобным, был добавлен еще один ингредиент – вина за предательство.
Наверно, именно тогда в уголках её подсознания возник смутный коварный план. Её любимый сын и союзник во всех жизненных передрягах теперь ускользал от нее – у него была отличная карьера и новая женщина, которую он любил, слушал и обожал. А ей, его родной матери, приходилось терпеть его гнев, крики и оскорбления, а теперь вот еще и выброшенные вещи. Ей нельзя было даже пожаловаться на бывшую невестку!
Только отчаяние убитой горем матери могло подсказать ей такое черствое и по своей сути жестокое решение. Решение всех ее проблем с сыном было более чем очевидным, это решение сидело прямо перед ней – в виде тихой, невинной внучки, которая так всем напоминала свою мать… Эту девочку легко поставить на колени, ею легко манипулировать. Пришла ее очередьпринять эстафету своей матери, которую так все ненавидели. В этот момент женщина, которая пыталась заменить мне мать, вдруг отреклась от этой роли навсегда, отправив меня на мучительное заклание. В ее глазах, несколько минут сыновней благодарности с лихвой окупало любое жертвоприношение.
Итак, после нескольких лет затишья началась новая война – на этот раз против меня. Мама, представлявшая бывший оппозиционный лагерь, давно сложила оружие и жила своей жизнью. Ей и в голову не приходило, что настанет день, когда ее дочери придется расплачиваться за все её грехи и ошибки, и она ничего не предпримет, чтобы уберечь или защитить меня. Вместо этого она будет злорадно повторять: «Надеюсь, ты убедилась, что это за люди. Теперь ты понимаешь, как я с ними намучалась?».
После двух кругов Ада – Ненужностии Вины, мне предстояла новая война и новый круг испытаний. Но на этот раз война была только моей – я была маленьким одиноким воином, безоружным оловянным солдатиком, сражавшимся в долгой тени своей матери! И эту войну я сокрушительно проиграла…