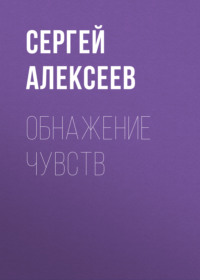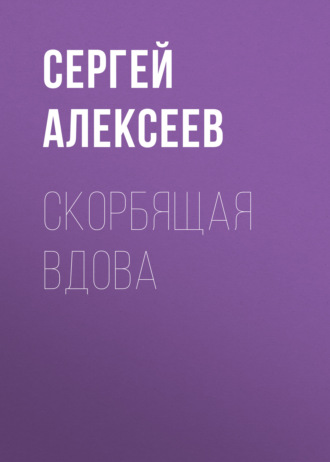
Полная версия
Скорбящая вдова
Теперь душой водил Господь и собственная воля, но небеса молчали, а дух растерзан был под волчьим взором.
Не в силах совладать с собою, она велела ехать вперед, сама же склонялась к мысли вспять повернуть. Коль грех такой творится, коль всю дорогу блазнится и сил нет помолиться – скорей назад, домой и к матери Меланье, под сень обители домашней, под крепость духа и ясный ум сестер. Недобрый путь, не в добрый час, так лучше уж оборотиться в Москву и в другой раз когда-нибудь позреть свои владения. А то и вовсе махнуть рукой на костромские земли, на промыслы, на сорок деревень, на тыщу душ, доставшихся в наследство по смерти мужа. Взять все и отписать страдальцам старой веры или отцу духовному, который прозябает в гонении и скудости…
И возвратилась бы, пожалуй, и отписала, да сквозь туманный взор и разум замутненный о сыне вспомнила. Как вырастет, что скажет? Именья промотала, чем стану жить?.. А может, ничего не скажет. Да все одно, покуда не матерый, не женатый, самой придется управлять, судить, распоряжаться…
Боярыч занемог и на Москве остался под попеченьем нянек и с матерью в дорогу не просился, хоть отпускал с великой жалостью. Имея юношеский возраст, наученный господству и боярству, Иван не по годам был равнодушен ко всем имениям, будь то отцовские иль дядькины. Ему бы уж людишек учить кнутами за ослушание, нрав пылкий свой являть пред дворней, чтоб славу разносили по владениям о строгости боярыча… Он норовил уединиться в покоях детских иль обитал с юродивыми, что толклись у терема на Разгуляе, бывало, на конюшню брел, но не седлал коня, а гладил гриву и кормил с ладони. Не хворый был, не малахольный, однако не имел азарта ни к светской жизни, ни к духовной и при сем неведомо по чьей науке или уж волей Божьей умом и сметкой владел невиданной для юных лет. Иной раз Феодосье от слов его то дивно становилось, то чудно или вовсе жутко.
– Тебе служить царю, – она внушала, – отцом завещано… Твой род от веку к царям приближен был. А посему как оженю, так ко двору отправлю. Служа, не потрафляй подобострастием и прочим униженьем. Ты суть боярин, сын государев, не раб ему, и он не господин.
– Убогие кругом, – казалось, невпопад ей отвечал Иван, – куда ни глянь… Вчера дрались за корку, кровь пустили, сегодня же с огнем побаловали… Ой, маменька, сожгут наш дом.
А при дворе боярском их жило до ста, зимою и того поболее: с первым зазимком на Разгуляй тащился нищий люд, прослыша о сердобольном нраве вдовы Скорбящей. Так нарекли ее в Москве, ибо седьмой уж год по смерти мужа носила траур и всюду появлялась в одеждах черных и украшении единственном – колечке обручальном. Всех привечала без разбора и скоро заселила все людские избы, конюшню, поварню; велела выстроить странноприимный дом, но когда и там недоставало места, пустила в терем, в нижние палаты. Однако же убогие – вся эта голь срамная, сор людской – подобно тлену, ползли все выше, выше, покуда не заполнили мужскую часть дворца и не достигли женской – суть вдовских покоев.
Особо приближенный Федор, духовный брат, любимчик Аввакума, и два юродивых Афоня с Киприаном, чтобы гонять чертей в ночную пору, ложились под порог…
– Всяк нищий ближе к Богу, – Скорбящая вздыхала. – Не ведает ни суеты мирской, ни хлопот живота – святые люди…
– Святые, маменька, святые, – соглашался сын. – Куда ни глянь – повсюду. И у престола все святые. От них уж места нет…
А государь не забывал руки кормильца своего, Бориса, и брата его, Глеба, – ныне покойных, и помнил их наследника, того, кто был обязан продлить боярский род, – Ивана. Велел однажды привести и, по-отечески позрев на отрока, промолвил тихо:
– Вижу… Весь в отца… Оженишь – присылай, пусть служит.
К исходу дня увалы укачали, и Феодосья забылась на подушках; в сиюминутном сне себя позрела – будто стоит на берегу в малиновых одеждах с серебряным шитьем, а под ногами вода течет. Как в зеркало, в нее и посмотрелась.
– Да я ли это?! – с испугом отшатнулась и в тот же миг взглянула воровато. – А я еще красна… И младость, и румянец, и губы алые…
Тем часом переполох возник, боярыня очнулась и услыхала голоса, свист громкий, ухнула пищаль.
– Ату его! Ату!
Карета и две повозки стояли на дороге, в плотном кругу из конной стражи – шум, шевеленье, крики, гнус реет плотною завесой.
– Что там стряслось?
И стражник, стоящий на запятках, к окну прильнул.
– А то, госпожа, – разбой!
– И много лиходеев?
– Один был, конный! Из лесу выехал и прям к карете! Другие, верно, по деревам сидят! Погоню выслали…
Спустя минуту вернулся сотник – лошадь в пене, глаза блистают, – застрожился на стражу:
– Почто стоите? Рысью ехать! Эй, кучера, гони!
Феодосья отворила дверцу, знак подала – ко мне. Сотник не спешился, а лишь склонился к седлу, тревогою дохнул:
– Смеркается, боярыня! А место тут худое!..
– Настиг ли конного?
– Да ни! Утек! Коли не шапка, следа бы не оставил…
– Он шапку обронил?
Удалый сотник чуть смутился, добычу из сумы извлек.
– Не то, что обронил… В карету бросил. И ускакал…
Соболья оторочка и верх малиновый, тончайшего сукна, подбита шелком… Боярыня в руках ту шапку повертела и обронила с леностью, дабы не выдать чувств:
– Убор богатый… Чего же бросил?
– И я подумал, госпожа! На что бросать?
– Какой кафтан на всаднике? Такого ж цвета и серебром расшит?
– Да вроде бы такой…
– И конь буланой масти? Тут сотник взволновался.
– Но ты же, матушка, спала… Когда разбойник сей из лесу выскочил! И чуть в карету не ворвался! Какой он умысел имел?!.. Не стрель я из пищали…
– Должно быть, умысел злодейский, – чуть усмехнулась Феодосья. – Зачем вот шапку бросил? Не знак ли подавал?
– Сдается, знак. Коль его люди на деревах сидят…
– А ну-ка, трогай! Не рысью токмо, а в галоп. Поедем быстро, с ветром. Сколь верст осталось до моих владений?
– Все двадцать будет, – сотник не коней жалел, а шапки отнятой. – Да госпожа, ведь лошади устали! Нам бы сие глухое место перескочить… Далее спокойно, тихо, не шалит никто, и на ночлег не грех остановиться, и стан там есть… С твоим покойным деверем однажды ехали…
– Гони! Хочу в свое поместье, в покоях ночевать. И не в карете спать – на пуховых перинах. К тому же я жена, в лесу мне страшно…
Соболий мех на шапке казался колким, знобким, ровно узор морозный, он щекотал ладони и ланиты, но отчего-то становилось жарко…
Взбеленные от пены кони домчали лишь к полуночи, и дальний сродник Феодосьи, Офелий Бородин, поместьем управляющий, сам распахнул тесовые ворота, низко поклонился:
– Добро пожаловать, боярыня! Добро пожаловать, сестрица! Ужо не ждали в поздний час…
Однако же при этом вся челядь летала по двору, подобострастно суетилась подле кареты и коней, мелькали светочи окрест и свечи в окнах терема. Земля качнулась под ногами от долгого пути и поплыла, служанки подхватили и повели к крыльцу. Офелий кланялся, бежал чуть сбоку и впереди – дорогу освещал и лебезил при сем:
– Ах, матушка! И как решилась нас навестить? Путь-от не близок! Да и шалят!.. Коль известила бы, людей послал навстречу! И слава Богу – пронесло! На милость Божью уповаем – ей-ей… Жива-здорова! Пожалуй-ка в хоромы, преблагая! Там уж и стол накрыт. С устатку да с дороги…
Знал, пес, кто едет во владенья, с каким задельем и по нужде какой. Задолго знал, поди-ка, и душа сидела в пятках от одной мысли, что грядет ему, коль госпожа отважится сама сюда явиться. И лучше бы не пресмыкался, не гнул спины и не стрелял очами, взор норовя поймать. Молчал бы лучше или уж винился с достоинством, как подобает мужу…
– Спать хочется с дороги, – проворчала, не в силах ни пир пировать, ни суд рядить, тем паче скорый. – Где тут мои покои?
– Не смею возражать, Скорбящая! – Офелий пятился и двери отворял спиной. – Пожалуй почивать! Перины взбиты, а покои сам ладаном дымил. Велел иконостас поставить! Я слышал, ты, благодетельница, весьма старательна в молитвах и молишься по старому обряду. В народе бают – истинно святая!
– Изыди с глаз моих, – боярыня шагнула за порог, но сродник вороватый застыл, как стражник, у дверей, возвысив над главою светоч.
Поместье в землях костромских досталось по наследству от Бориса, и все здесь было, как при девере. Кормилец государев любил богатство, пышность, и по его приказу опочивальню нарядили по-царски: ковры персидские, парча, шелка, а ложе все во злате, и на резных столбах узорный кров – суть, балдахин. За ним иконостас с лампадами и множество свечей пылающих – Офелий расстарался, того гляди, дом загорится… Боярыня служанок оттолкнула, присела на постель. В сей час бы суд свершить! За косы оттаскать и плетью по хребтам, чтоб не творили срама! Ишь, что удумали – над страстотерпцем надсмехаться, позор чинить убогому. Но вспомнила, как Федор рубаху задирал, показывал святые мощи – и уняла свой пыл.
– Ступайте спать… Сама…
Они в тот час же удалились, и лишь Офелий все еще бдил у двери, сопел и что-то бормотал – возможно, и молился, окаянный… К имению он был приставлен еще покойным мужем и вроде бы служил исправно, а умер Глеб, вмиг разнуздался и, видимо, решил, он господин здесь. Дойдут ли руки у вдовы Скорбящей? Таких поместий у нее чуть ли не дюжина, где ей поспеть, а Глебович так мал еще и, слышно, не жаждет управлять…
В опочивальне стало душно, жар от свечей клубился и колыхал парчу – где тут уснуть? Сбирая огоньки, как мотыльков, боярыня все свечи погасила, оставила одну и окна отворила. Мгла ворвалась в покои вкупе со звездами и криком птиц полуночных. Она вздохнула облегченно, после чего толкнула дверь.
– Иди-ка с Богом, басурман…
– Не погуби, сестрица! – Сродник на колена пал и от волненья коснулся бороды огнем – запахло мерзко. – Детей двенадцать душ!..
– Все от одной жены?
– Меня оговорили! Ей-ей же, чист душой и нрава кроткого! По-христиански жил, с одной женой, она и деток нарожала. Коль наболтали, с вдовицами блудил, и понесли они, а дабы грех укрыть, детей жене отдали – ложь несусветная!
– Завтра мне ответишь, – рукой махнула. – Ступай и помолись.
Послушавшись, побрел к двери, однако спохватился, десницу вскинул с двоеперстьем.
– А ежели сказали, что я по новому обряду… И кукишем крещусь, то лгут!
– И не гневи меня!
Офелий сник, обвял и, за порог шагнув, дверь притворил смиренно, однако ветер вновь распахнул ее и загасил свечу. Скорбящей стало страшно.
– Постой, Офелий!.. Пришли мне няню! Тот вмиг вернулся, осветил ее и выпучил глаза.
– Кого прислать?
– Да нянюшку мою, Агнею! Жива она?
– Жива-то вроде бы жива, – замялся сродник. – Но больно уж стара и разумом… Ну, истинно, дитя. Не ест уж и не пьет…
– А кормишь ли ее?
– Не то! Как ты велела, госпожа! Но видит Бог, за стол с собой сажу – не прикоснется к пище. Все просится домой…
– Домой?.. Куда ж домой, коль родом из сих мест?
Офелий ожил и бородой паленой затряс, и будто засмеялся:
– О том и речь! Что малое дитя!.. Нарядится, косу сплетет, подвяжет ленты и ходит простоволосой, словно бы девица. Эк срам какой! Уж я и под замок сажал… в ее светлице! И в храм силком тянул, чтоб исповедать и причастить – куда там…
– Она и в храм не ходит?
– Помилуй, благодетельница! – Он окончательно воспрял и стал как будто сердобольным, загоревал. – Ведь я ей не указчик, не воспитатель, а волею твоей всего слуга. В храм ни ногой, даже в Великую седмицу, и дома – лба не перекрестит. Не знал бы ранее, подумал – басурманка…
– Лжешь, окаянный! – Скорбящая свечу затеплила и поднесла огонь к лицу Офелия. – Молва была, ты нянюшку мою в храм не пускал и голодом морил…
– Да ей-же-ей! – тот устрашился и закрестился крупно, ровно дрова рубил. – Я пред тобою ныне, как пред иконой!..
– Довольно, плут! Ступай и позови Агнею!
Домой, в родные костромские земли, кормилица давно просилась, еще при Глебе, мол, отпусти ко правнукам, коль не понянчу, то хоть взгляну на них, а там и умирать пора. На что старуха, когда младых служанок вокруг полно, кухарок, подавальщиц и прочей челяди? Тебе уж нянька не нужна, сама боярыня, достойный муж и сына пестуешь… Ведь я теперь что старая трава: засохла, пожелтела, уронила семя и ныне лишь ноги путаю. Чуть дунет ветерок – и полегла… Негоже зреть на немощь и скудоумие, когда кругом весна и зелень свежая, и цвет искрится… Не отпустила бы, но стала замечать, как Ванечка – боярский сын и в скором стольник царский, опора государя, заместо воинских забав, ученья книжного и прочих дел мужских, к старухе начал льнуть. Как почивать, так кличет и сказы слушает, словно дитя. Однажды вечером вошла и, затаившись у порога, послушала Агнею и опечалилась – так детством напахнуло. А няня сказ вела про Рай земной, про Беловодье. Де, мол, в далеком далеке, за реками большими и лесами, за волоками и горами есть чудная страна – суть остров, омытый водами, кои светлее хрусталя и чище света. Там, на восьми столбах железных, стоит Сура – суть чаша, куда по вечерам ложится солнце. Когда же утром встанет, на тепленькое место слетают звездочки с небес – насыплются доверху, с горкой, и так весь день лежат, сверкая, как алмазы. И токмо месяц вольный: захочет – сядет в чашу, а нет, так в небе остается. Сей остров, Беловодье, страна покоя, благодати, суть Рай земной, где люди отдыхают. Не ведают они ни ночи, ни тьмы, ни Бога и ни сатаны, не молятся, не бьют поклоны, а токмо утром провожают солнце да вечером встречают с песней. Земли не пашут и хлебов не сеют, поелику на деревах растут плоды, в долинах виноград и овощ всякий – всего обильно. Но сложа руки не сидят. Мужи там – златокузнецы иль камнерезы, покуда солнце отдыхает, они скребут его и трут, и пыль сметают, чтоб днем сияло ярче.
Из пыли сей, суть злата, куют оправы, а из звезд погасших, кои остаются в чаше, суть самоцветов, режут камни и вставляют – творят очелья, ожерелья и перстни, и подвески красы невиданной. А жены их огромными гребнями расчесывают волосы светилу и, начесав куделек, прядут потом и ткут паволоки из солнечного злата. Коль месяцу расчешут голову, прядут серебряную нить. Из полотна сего сошьют рубахи: ткань тонкая, в кольцо проходит, а когда наденешь – и носко, и не марко, и зимой тепло.
Послушав притчу, боярыня смолчала, но Ванечка на исповеди – безгрешная душа! – поведал сам все Аввакуму, и осерчавший духовник велел услать Агнею прочь от себя, мол, сказки нянькины – скверна и ересь, и крамола. К Ивану след не бабок приставлять с их притчами дурными, а матушку Меланью, чтоб укрепила дух, молиться научила.
Пришлось услать…
Час минул, прежде чем за дверью, в переходе, раздался стук клюки. Агнею привели вдовицы – суть приживалки, коих приютил и принял на прокорм еще покойный деверь. На лавку няню усадив, они в тот миг же повалились в ноги.
– Кормилица! Помилуй! Все злые языки! И годы уж не те, чтоб приживать детишек!..
Агнея не состарилась, поелику у старости тоже был край. Разве что суше стала, костистей и, показалось в первый миг, слепой. Взор мимо проскользил и замер на огоньке свечи…
– Храни Господь, – боярыня склонилась. – Здорова ль, нянюшка? Я тосковала…
Она молчала, зато вдовицы суетились и били лбы.
– Помилуй, государыня! Не виноваты! Офелий же, Григорьев сын, к нам ласков был, не обижал! Ну, было иногда, щипнет или подол поднимет… Не для греха – потехи ради!
– Ступайте, будет! – застрожилась она. – И не трещите тут! Завтра ответите… Прочь от меня, лукавые!
Перед отсылкой нянюшки, Скорбящая ей воздала с лихвой – на двух подводах уезжала, везла подарки для детей, внуков и правнуков. Самой же наложила большой сундук добра, чтобы нужды не знала до самой смерти. Все со своего плеча дала, рубахи, платья, платки и шали, и обувь разную – в боярские одежды нарядила. Должно быть, сродник все отнял и рухлядью сей одарил вдовиц, а те не ведали, откуда есть добро и заявились в сарафанах няни. Зато саму одели в тряпье, лежалое и тронутое тленом, разве что лапти новые, немятые, со скрипом…
Прогнав распутниц, боярыня пред няней на колени, облобызала руки, к ланитам их прижала.
– Ужель не зришь, кто я? Или забыла?.. Взгляни же, нянюшка! Не чаяла уж свидеться… Узнала?
Едва вдовицы за порог, Агнея плат сняла, кокошник золоченый и, распустив власы, стала плести косу. Взор потеплел, очистился, и слепота сошла.
– Да как же не узнала?..
– Поклон тебе от Евдокии. Ты помнишь Дунюшку? Обеих нас кормила…
– Как же не помнить? Помню!.. А кто она?
– Сестра моя!.. Ну, Евдокия? Да замуж вышла за Петра? Урусова? Ты ж еще ругалась: почто татарину отдали красу сию – Дуняшу?
– Ах да, ну, помню, – как будто спохватилась няня. – И верно, почто татарину отдали? Погубит он ее, живой посадит в яму.
– Постой, кормилица… Как страшна речь твоя! Сдается, не признала… Позри, позри – кто я?
– Сестреница моя.
Скорбящая чуть отстранилась и нянюшкины руки отпустила.
– Агнея, Бог с тобой… Я Феодосья! Ты нянчила меня и Евдокию, вскормила нас… Ужель не помнишь?
Она главою покачала, вздохнула тяжко:
– Совсем плохая стала… Я много старше, а в уме. Какая Феодосья, коль Федора? Федорой от рожденья звали, с сим именем умрешь… Ну да, а грудью я кормила, и посему в душе твоей частица моей плоти. И коль ее не растеряла, послушаешь меня и так поступишь, как я скажу. Не то ведь смерть тебе придет… Да не печалься! Сие не скоро будет. Ты мыслишь над людьми своими суд учинить, а того не знаешь, что завтра приключится.
– И что же приключится? – с опаскою спросила и поднялась с колен.
– Сосватают тебя. Эвон как расцвела, да и летами вышла – пора!
– Ах, нянюшка… Ужели ты не помнишь мою свадьбу? Я ныне уж вдова, мой государь-свет Глеб Иванович семь лет тому почил…
– Довольно уж болтать, октись! – Чело нахмурила. – Невеста уж, а как дитя… Сегодня же смотрины были! Ты жениху понравилась, инно бы знак не подал. Коль приняла сей знак, знать и тебе пришелся…
– Знак? – Скорбящей стало знобко. – О, Боже Правый… Не принимала знака. И смотрин…
– Ну, девушка! Да ты вконец ослепла и разум растеряла! А шапка? Соболья, с красным верхом да шелковым подкладом?
Боярыня сломалась.
– О, Господи! Святая Матерь!.. Я шапку приняла.
– Вот и добро. Как завтра обручитесь, так я домой пойду. – Агнея встала. – Давно домой пора, но с миром сим все как-то не сочтусь. Покуда прощевай. Не думай боле, не терзайся, а почивать ложись.
– Кто мой жених? Кто всадник тот?
– А князь, сестреница. Боярин Вячеславов.
– Как его имя?
– В миру Василий, – и дверь клюкой толкнула. – Послушай мой совет. Какой бы ни был дар, уйми и норов свой, и предрассудки – прими, не прекословь. Инно ведь кровь прольется!
Свеча пред образами полыхнула, и огонек ей поклонился вслед…
6
Хоть привели, как вора, на веревках, однако на подворье сняли железа и не под землю сунули– в палаты посадили и принесли еды. Тишайший помнил протопопа и благоволил, не то б Елагин показал свой нрав. Всех беглых сразу при поимке пороли насмерть, а кто выживал, много недель держали в яме, клеймили щеки, лоб и отправляли в монастырь, на цепь. Царь же щадил его и не затем, чтоб вразумить иль милостью своею приручить, заставить кукишем молиться. Давно Пилат изведал, что жаждет Аввакум – каленого железа, встряски, пыток, мук принародных и смерти на миру. Дабы была причина крикнуть:
– Позрите, православные! Да разве се по-христиански – так человека мучить?
Он жаждал мук и потому бежал и много хитростей придумал, чтоб разозлить царя и его придворных – суть, палачей. Теперь же, по воле Божьей получив Евангелие Матфея, крупицу от Приданого, он путь позрел, указанный Всевышним – лишить антихриста святыни! Отнять источник животворный, чтобы спасти его, надежно спрятать и уберечь до тех времен, когда на Русь вернется православный царь, а с ним и право называться Третий Рим. Но чтоб пройти сей путь, нужны были иные и подвиги, и жертвы: супротив них каленое железо и дыба – сущий пустяк. От телесной боли страдает плоть, а от притворства, фарисейства, змейства душа изъязвится.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Отай – тайно.
2
Зрак– вид.