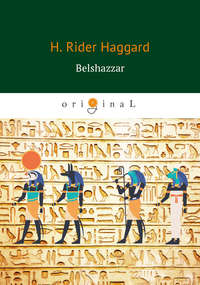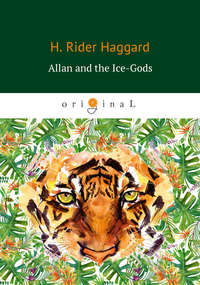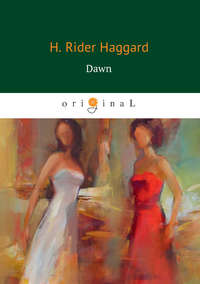Полная версия
Чудовище

Генри Райдер Хаггард
Чудовище
Глава I
Буря[1]
Мне, издателю этих записок, выпало на долю, в качестве душеприказчика покойного, познакомить мир с приключениями моего дорогого друга Аллана Квотермейна, Бодрствующего В Ночи, как называли его туземцы Африки; ныне я приступаю к самому любопытному и необычайному из этих приключений. Аллан рассказал мне о нем много лет тому назад, когда я гостил в его доме в Йоркшире, незадолго до его отъезда с сэром Генри Куртисом и капитаном Гудом в его последнюю экспедицию в сердце Африки, откуда он больше не вернулся.
В свое время я подробно записал поразивший меня рассказ, но должен сознаться, что впоследствии я потерял свои заметки и, не доверяя своей памяти, не мог восстановить хотя бы их сущности с точностью, желательной моему усопшему другу.
Но вот на днях, роясь у себя в кладовой, я наткнулся на портфель, сохранившийся от моего далекого прошлого, когда я практиковался в качестве юриста. С некоторым волнением, какое охватывает нас, когда на склоне лет мы вдруг соприкасаемся с предметами, напоминающими нам о давно минувших событиях юности, поднес я его к окну и не без труда отпер ржавый замочек. В портфеле оказалась небольшая коллекция всякого хлама: бумаги, относящиеся к одному процессу, на котором я некогда работал, как черт, для одного своего друга – выдающегося ученого, ставшего впоследствии судьей, синий карандаш со сломанным грифелем и тому подобное.
Я просмотрел бумаги, перечел мои собственные пометки на полях и со вздохом разорвал их и бросил на пол. Затем вывернул портфель, чтобы выколотить из него пыль, и при этом из внутреннего кармана выскользнула очень толстая записная книжка в черном клеенчатом переплете. Я открыл ее, и в глаза мне бросился подзаголовок:
Конспект необычайного рассказа Ал, К-на о боге-чудовище, или фетише, Хоу-Хоу, которого он и готтентот Ханс открыли в центральных областях Южной Африки.
Мгновенно все всплыло в моей памяти. Я увидел себя, в те дни еще юношу, наскоро составляющим эти заметки под свежим впечатлением рассказа Аллана – поздно ночью в его доме и потом на утро в поезде, чтобы после, на досуге, связно и подробно их переложить в своем кабинете на Ильм Корт в Темпле[2].
Вспомнил я также свое огорчение при открытии, что записная книжка бесследно пропала, хотя я отлично знал, что спрятал ее в надежном месте. Еще вижу себя мечущимся в поисках ее по своей комнате в предместье Лондона; наконец, отчаявшись разыскать, я примирился с пропажей. Годы шли, и новые события стерли из моей памяти и записки, и самый рассказ. И вот теперь они всплыли из пыли минувшего, всколыхнули ожившие воспоминания, и ныне я приступаю к изложению этой замечательной главы из столь богатой приключениями жизни моего возлюбленного друга Аллана Квотермейна, который так давно ждет меня в царстве теней.
Однажды вечером мы, то есть старик Аллан, сэр Генри Куртис, капитан Гуд и я, собрались в кабинете в домике у Квотермейна, куря и беседуя о различных вещах.
Я упомянул в разговоре, что как-то мне попалась на глаза перепечатка из американской газеты о том, что в бассейне Замбези какие-то охотники видели будто бы огромное допотопное пресмыкающееся, и спросил у Аллана, можно ли этому верить. Аллан покачал головой и осторожно ответил, что Африка велика – возможно, что в ее глубинах еще водятся доисторические животные.
– Я столкнулся однажды, – поспешно прибавил он, уклоняясь от более широкого обсуждения этой темы, – с огромной змеей, величиной с южноамериканскую анаконду[3], которая, говорят, достигает шестидесяти футов в длину. Мы ее убили, то есть не я, а мой слуга, готтентот Ханс. Туземцы почитали эту змею как божество. Она могла дать повод к разговорам о допотопных пресмыкающихся. А раз я вид ел слона, настолько превышавшего обычные размеры, что, вероятно, он принадлежал к доисторической эре. Он был известен несколько столетий и звался Джаной.
– Вы его убили? – поинтересовался Гуд.
У Аллана краска выступила на лице сквозь загар и морщины, и он ответил резко, изменяя своему обычному добродушию:
– У охотника не спрашивают об исходе охоты, раз он сам не рассказывает. Но, если вам угодно знать, – нет, я не убил этого слона.
А убил его Ханс и этим спас мне жизнь. Я же промахнулся в него обоими зарядами с расстояния нескольких шагов.
– Ну, Квотермейн! – воскликнул неугомонный Гуд. – Это вы-то промахнулись в большого слона с расстояния в несколько шагов? Значит, вы были уж очень перепуганы.
– Разве я не сказал, что промахнулся, Гуд? Впрочем, вы, может быть, правы, и я был испуган – ибо, как вы знаете, я никогда не мог похвастаться особенной храбростью. При встрече с этим Джаной каждый бы струсил – даже вы, Гуд. Однако, при некотором великодушии, вы согласились бы, что у меня имеются и другие причины, по которым я не могу равнодушно вспоминать об этом гнусном – да, именно гнусном – зрелище: встреча с Джаной привела к смерти старого Ханса, которого я любил.
Гуд опять приготовился возражать, но сэр Генри протянул свою длинную ногу и пнул его, после чего капитан замолчал.
– Зато, – поспешно прибавил Аллан, меняя неприятную тему, – я встретился раз, правда, не с допотопным пресмыкающимся, но с племенем, поклонявшимся богу-чудовищу, или фетишу, который являлся, вероятно, пережитком древнего мира.
Он замолчал, показывая, что вопрос исчерпан, но я жадно спросил:
– Что же это был за фетиш, Аллан?
– Это длинная история, друг мой, – возразил он, – и такая, что если ее рассказать, то Гуд, конечно, не поверит. К тому же поздно, и я боюсь вам надоесть. Я и в правду бы не кончил рассказ за одну ночь.
– Для Гуда и Куртиса тут имеются виски, сода и табак; я же займу пост между вами и дверьми и не сойду с места, пока вы мне всего не расскажете, Аллан. Невежливо идти спать раньше своих гостей, так что, пожалуйста, начинайте, – прибавил я со смехом.
Старик заворчал, но мы в торжественном молчании сгрудились вокруг него, и он наконец начал свой рассказ:
– Ладно, если вам непременно хочется. Много лет тому назад, когда я был сравнительно молодым человеком, я однажды остановился на привал в Драконовых горах[4]. Ехал я в Преторию с товаром, который надеялся распродать среди туземцев, чтобы потом отправиться к северу поохотиться за крупной дичью. В широкой долине, между двух гор, нас настигла сильнейшая гроза. Если не ошибаюсь, дело было в январе, а вы, мои друзья, знаете, что такое натальские грозы в жаркое время года. Гроза надвигалась на нас сразу с двух противоположных сторон.
Воздух словно сгустился, потом налетел ледяной ветер и стало почти темно, хотя было около часу дня. Над вершинами окружающих гор стали загораться молнии. Кроме возчика и погонщика, со мной был Ханс, о котором я только что говорил, – маленький сморщенный готтентот, мой верный товарищ по путешествиям и по приключениям, неопределенного возраста и в своем роде один из умнейших людей в Африке. В преследовании дичи ему не было равных, однако у него, как у всякого готтентота, были свои недостатки, – при каждом удобном случае он напивался, как выдра. Были у него и свои готтентотские добродетели – ибо он был верен, как пес, – да, он любил меня, как собака любит своего хозяина, который взял ее слепым щенком и вырастил при себе. Для меня он сделал бы все: солгал, украл, убил бы – и счел бы это своим священным долгом. Да, в любой день он был готов умереть за меня, как это и случилось в конце концов.
Аллан замолчал, делая вид, что выколачивает трубку, в чем совершенно не представлялось надобности, так как он ее только что набил. Я думаю, он просто хотел стать спиной к свету, чтобы скрыть свое волнение. Затем своим характерным легким движением он быстро повернулся на каблуках и продолжал:
– Я шел перед фургоном, высматривая ухабы и камни, по горной тропинке, из приличия называвшейся дорогой, а за мной, как тень, верный своему посту, шел Ханс. И вот я услышал его глухое покашливание, означавшее, что он хочет привлечь мое внимание, и спросил через плечо:
– Что такое, Ханс?
– Ничего, баас, – ответил готтентот. – Вот разве что большая буря надвигается. Две бури, баас, не одна. А когда они столкнутся, произойдет битва – по небу будут летать копья, и обе тучи будут плакать дождем и градом.
– Да, – сказал я. – Но я не вижу никакой возможности укрыться, значит, ничего не поделаешь.
Ханс поравнялся со мной и опять кашлянул, комкая в костлявых пальцах грязную тряпку, которую он величал шляпой.
– Много лет тому назад, баас, – сказал он, указывая подбородком на груду камней под склоном горы в миле от нас, – там была пещера. Мальчиком я в ней укрывался с несколькими бушменами. Это было после набега зулусов, когда в Натале нечего стало есть и люди пожирали друг друга.
– А чем жили твои бушмены?
– По большей части слизняками и кузнечиками, баас, а иногда удавалось подстрелить отравленной стрелой антилопу. За неимением лучшего, баас, жареные гусеницы бывают очень недурны – и саранча тоже. Помню, я умирал с голоду, а на них я разжирел.
– Итак, Ханс, ты считаешь, что нам лучше укрыться в этой пещере, если только она там есть?
– Да, баас, пещера не может убежать, а я не забыл места, где прожил два месяца.
Я взглянул на тучи – они были необычайно черны. Собиралась дьявольская гроза. Положение было тем более неприятно, что под нашими ногами простирались пласты железной руды, привлекающей электричество.
Пока я раздумывал, нас догнала толпа кафров, бежавших со всех ног, по-видимому в надежде найти убежище от грозы. Судя по наряду, они, вероятно, отправлялись на свадьбу. Пробегая мимо нас, один из них крикнул мне:
– Скорей, скорей, Макумазан, молнии любят это место.
Это разрешило мои колебания. Я велел возчику погонять быков, а погонщику следовать за Хансом, который в совершенстве помнил местность.
В воздухе стояла великая тишина, а мрак так сгустился, что передний вол казался призраком. Вдобавок стало очень холодно, над гребнями гор плясали зарницы, но грома еще не было слышно. В природе творилось нечто странное и неестественное – даже волы это чувствовали и рвались из упряжи, так что их не приходилось подгонять. Нервы мои были натянуты. Я с нетерпением ждал, когда же мы наконец достигнем пещеры.
Моя тревога усилилась, когда тучи встретились и края их, соприкоснувшись как бы в поцелуе, вспыхнули огнем, и земля затряслась – должно быть, от громового удара. Молния ударила в пятидесяти ярдах от фургона – как раз в то место, где мы находились за минуту перед тем. Одновременно разразившийся раскат грома показывал, что гроза висит над самой головой.
Это было открытие бала – первый неожиданный гром оркестра. Потом начался танец; огненные ленты и полотнища плясали по паркету неба.
Трудно описать эту адскую бурю. Но вы, мои друзья, видели натальские грозы и знаете, что они сильнее всяких описаний. Молнии, всюду молнии, самых различных видов. Одна, я помню, была похожа на огненную корону, венчающую чело гигантской тучи. Казалось, они не только падают с неба, но и прыгают в небо с земли под непрерывный аккомпанемент сплошного громового раската.
– Да где же, черт возьми, твоя пещера? – проревел я в ухо Хансу.
Он что-то крикнул в ответ, чего я не мог расслышать за грохотом грозы, и указал на подножие горного склона, теперь находившегося уже в двухстах ярдах от нас. Волы понеслись вскачь, едва не опрокидывая фургон. К счастью, они бежали в нужном направлении.
Погонщик работал бичом, не давая волам разбегаться в стороны, и, судя по движениям губ, бешено ругался по-голландски и по-зулусски. Наконец у крутого склона горы животные остановились и сбились в кучу, как обычно и поступают перепуганные волы, которые почему-либо не могут везти вперед свою поклажу.
Мы выскочили из фургона и принялись как можно скорее их распрягать – не легкая, доложу вам, работа, тем более что ее приходилось исполнять буквально под огнем. Молнии так и падали вокруг нас, и каждую секунду я ждал, что одна из них ударит в фургон и положит конец нашему приключению. Я так трусил, что испытывал сильнейшее искушение бросить волов на произвол судьбы и бежать к пещере, если там таковая имелась – ибо я никакой пещеры не видел.
Однако гордость удержала меня от бегства. Бойтесь сколько вам угодно, но не показывайте своего страха туземцу. Иначе конец вашему влиянию на него. Тогда вы уже не Великий Белый Вождь некоей высшей породы; вы такой же простой смертный, как и он, – даже, может быть, ниже его, если он случайно выделяется смелостью среди этого и вообще-то смелого народа.
Итак, я делал вид, что молнии мне нипочем – даже тогда, когда одна из них ударила в терновый куст в тридцати шагах от нас. Куст вспыхнул, и через минуту на его месте стоял только столб пыли. Одна щепка попала мне в лицо.
Наконец упряжь была распутана и волы пущены на волю. Они разбежались, ища инстинктивно укрытия среди окрестных скал. Двух последних, очень ценных дышловых волов было особенно трудно выпрячь, так как они рвались за другими, и пришлось в конце концов обрезать постромки. Тогда они помчались за остальными, но слишком поздно: у меня на глазах оба вола грохнулись наземь, точно подстреленные. Один не двигался. Другой некоторое время брыкался, лежа на спине, и наконец затих, как и его товарищ.
– Что же вы на это сказали? – недоверчиво спросил Гуд.
– А что бы вы, Гуд, сказали на моем месте? – сердито ответил Аллан. – Все мы знаем, как крепко вы умеете выражаться, а посему, думается, я не нуждаюсь в ответе.
– Я сказал бы… – начал Гуд, обрадовавшись подвернувшемуся случаю, но Аллан жестом остановил его и продолжал:
– Без сомнения, что-нибудь о Юпитере-Громовержце. Ну, а мои слова услышал разве что какой-нибудь досужий ангел, хотя Ханс, вероятно, угадал их, ибо он заворчал на меня и заметил:
– Могло бы ударить в нас, баас. Когда небо сердится, ему надо сорвать на ком-нибудь свой гнев. Лучше на быках, чем на нас, баас.
– В пещеру, идиот! – заорал я. – Заткни глотку и веди нас в пещеру. Начинается град!
Ханс усмехнулся и, подгоняемый градом, с изумительной быстротой полез по склону, приглашая нас за собой. Ощупью пробирались мы за ним в сгустившейся темноте. Вдруг за огромным утесом он нырнул в кусты и протащил меня между двух камней, образующих нечто вроде естественных ворот, в открывшееся за ними углубление.
– Сюда, баас, – сказал он, отирая кровь, струившуюся по его лбу из ранки, нанесенной крупной градиной.
Яркая вспышка молнии осветила зев пещеры неопределенных размеров. Однако о большой ее величине можно было догадаться по длительному эху, многократно повторившему последовавший за молнией раскат грома. Казалось, на него отозвались неизмеримые недра гор.
Глава II
Изображение в пещере
Мы достигли пещеры как раз вовремя. Не успели мои зулусы войти в «ворота» вслед за мной и Хансом, как град зарядил всерьез – а вы, друзья мои, знаете, что такое африканский град, в особенности же в Драконовых горах. Мне случалось видеть, как градины, словно пули, пробивали листы гальванизированного железа. Если попадешь под такой град среди открытого поля, не имея ни фургона, под который можно бы заползти; ни седла, чтобы прикрыть голову, то уже никогда не увидишь вновь ясного неба.
Погонщик, и так уже чуть не плакавший над потерей Капитана и Немца (так звали дышловых быков), совсем обезумел, опасаясь, что град убьет остальных, и собирался выбежать из пещеры в нелепой надежде загнать животных в какое-нибудь защищенное место. Я приказал ему сидеть тихо и не быть дураком – все равно беде не поможешь. Ханс, становившийся во время грозы религиозным, поучительно заметил, что «Великий-Великий» в небесах, несомненно, позаботится о скоте, ибо «преподобный отец бааса» (обративший его в некую смешанную веру, которая у Ханса сходила за христианство) говорил ему, что у Господа скот пасется на тысяче холмов – а не по тысяче ли холмов разбрелись наши волы? Но погонщик-зулус, который еще не «обрел истины» и был простым дикарем, язвительно возразил, что в таком случае «Великому-Великому» не мешало бы оказать свое высокое покровительство Капитану и Немцу, чего он, однако, не сделал. Потом, чтобы отвести душу, зулус, как вздорная шавка, накинулся на Ханса. Он назвал его желтым шакалом и прибавил, что готтентот со всеми своими потрохами не стоит бычьего хвоста и что лучше бы град пробил его никчемную шкуру вместо кожи благородных животных.
Этот дерзкий намек на его внешность рассердил Ханса. Он оскалил зубы, точно злая собака, и в не совсем почтительных выражениях отозвался о родне зулуса, в частности же о его мамаше. Не вмешайся я в эту ссору, дело дошло бы до ножей. Но я решительно заявил, что тот, кто скажет еще хоть одно слово, будет вышвырнут из пещеры под град и молнии, и после этого заявления воцарился мир.
Долго длилась гроза. Град сменился ливнем. Было ясно, что придется заночевать в пещере, тем более что ребята, отправленные разыскивать волов, вернулись ни с чем. Это было весьма неутешительно, так как в пещере было очень холодно, а ночевать в насквозь промокшем фургоне нечего было и думать.
Но опять нас выручила память Ханса. Одолжив у меня спички, он пополз в глубь пещеры и вернулся, волоча за собой несколько поленьев – пыльных, источенных червями, но вполне пригодных для костра.
– Где ты раздобыл дрова? – спросил я.
– Баас, – ответил готтентот, – давным-давно, когда я тут жил с бушменами, а эти чернокожие мальчишки (сие оскорбление относилось к моим зулусам, Мавуну и Индуке) даже еще не были зачаты своими неизвестными отцами, я заготовил большой запас дров. Думал, пригодится на зиму или же на тот случай, если опять когда-нибудь придется поселиться в этой пещере. И вот запас этот уцелел под камнями и песком. Так муравьи, ползающие по земле, запасают пищу для своего потомства. Так что теперь, если эти кафры помогут мне притащить дрова, у нас будет огонь и мы согреемся.
Поражаясь предусмотрительности мальчика-готтентота, я приказал зулусам пойти с Хансом в «погреб», на что они охотно согласились, согретые мыслью о костре. Затем я достал из фургона бутылку грога и кусок свежей баранины, который мы поджарили на угольях и вскоре занялись уничтожением превосходного обеда. Многие восстают против спаивания туземцев спиртными напитками, но лично я нахожу, что, если зулус замерз и устал, глоток джина не принесет ему вреда и даже, напротив, удивительно поднимет настроение. Но чтобы Ханс не выпил лишнего, мне пришлось лечь спать с бутылкой.
Насытившись, я закурил трубку и начал беседу с Хансом, который после грога сделался очень разговорчивым и, тем самым, интересным. Он спросил меня, много ли лет нашей пещере, и я ответил, что она так же стара, как Драконовы горы. Ханс сказал, что он и сам того же мнения, так как видел в глубине пещеры отпечатки следов, которые не могло оставить ни одно известное ему животное. Кроме того, там валяются странные окаменелые кости, принадлежавшие, вероятно, великанам. Ханс полагал, что рано утром, когда солнце заглянет в пещеру, он сумеет их найти.
Тогда я объяснил Хансу и кафрам, что тысячи тысяч лет тому назад, когда людей еще не было на свете, Земля была заселена крупными тварями – огромными слонами и гадами, такими большими, как сто крокодилов вместе, а также, по мнению некоторых ученых, громадными обезьянами – гораздо крупнее гориллы. Дикари внимательно слушали, а Ханс заявил, что насчет обезьян он готов поверить, так как сам видел такое изображение – не то гигантская обезьяна, не то обезьяноподобный великан.
– Где, – спросил я, – в книге?
– Нет, баас, здесь, в пещере. Его сделали бушмены десять тысяч лет тому назад. – (На языке Ханса это означало неопределенно давнее прошлое).
Я вспомнил о легендарном животном по имени Нголоко, которое будто бы водится где-то в болотах Восточного Берега[5]. Это животное, в существование которого я, кстати сказать, не верил, обладает ростом в восемь футов, покрыто серыми волосами и вместо пальцев имеет когти. Один мой знакомый португалец, старый чудак, охотник, клялся, что видел на иле следы этого животного и что оно свернуло голову одному его спутнику. Я спросил Ханса, слышал ли он о Нголоко. Ханс ответил, что слышал, только под другим именем – Мульхоу, – но что бес, нарисованный в пещере, гораздо больше.
Решив, что Ханс, по обыкновению туземцев, кормит меня баснями, я предложил немедленно показать мне картину.
– Лучше подождать до восхода солнца, баас, – возразил тот. – Когда будет хороший свет. К тому же на этого дьявола не годится смотреть перед сном.
– Покажи мне его сейчас, – строго сказал я. – У нас есть фонари от фургона.
Ханс неохотно пошел вперед с фонарем в руках; я взял второй фонарь, а зулусы вооружились свечами. По пути я замечал на стенах много бушменских рисунков, а также рельефы, принадлежавшие резцу мастеров этого любопытного народа. Некоторые рисунки казались совсем свежими, другие уже выцвели, или, может быть, стерлась охра, употребляемая первобытными художниками. Рисунки большей частью изображали охоту.
Один, сохранившийся, как ни странно, чрезвычайно взволновал меня. На нем изображены были белолицые люди в чем-то вроде панцирей и в остроконечных головных уборах, кажется, известных под названием фригийского колпака; воины нападали на туземный крааль; тростниковый забор и круглые хижины за ним были тщательно вырисованы. Слева несколько человек тащили женщин – по-видимому, к морю, которое было грубо обозначено рядом волнистых линий.
Я замер от удивления: передо мной было, несомненно, изображение финикийцев, совершающих один из тех набегов с целью похищения женщин, о которых мы читаем у древних авторов. Рисунок был сделан бушменом, жившим две тысячи лет тому назад, а может быть, и раньше. Было чему изумляться. Но Ханс торопился вперед, словно желая поскорее покончить с неприятным поручением, и я из опасения заблудиться был вынужден последовать за ним.
Вдруг Ханс остановился перед одной расселиной, ничем не отличавшейся от многих других.
– Сюда, баас, следуйте за мной, – сказал он, – смотрите под ноги, тут есть трещины в полу.
Я протиснулся в узенький проход, в котором человек потолще не смог бы пройти. Это был тесный туннель высотою в восемь – девять футов, может быть, промытый водой, но скорее образовавшийся вследствие взрыва газов сотни лет тому назад. Пол был совершенно гладкий, словно в течение многих поколений его утаптывали человеческие ноги, в чем я нисколько не сомневался.
Не прошли мы и двадцати шагов по туннелю, как Ханс приказал мне остановиться и ни в коем случае не двигаться. Я в недоумении повиновался, а мой проводник, повесив фонарь на шею, за спину, прижался к каменной стене прохода, словно не желая видеть, что делается за ним, и осторожно, боком, стал пробираться вперед, цепляясь за выступы. Проползши таким способом двадцать или тридцать футов, он обернулся и сказал:
– Теперь, баас, сделайте то же, что я.
– Зачем? – спросил я.
– Опустите фонарь, и вы увидите, баас.
В двухстах шагах передо мной зияла пропасть неведомой глубины – свет фонаря не достигал ее дна. Ширина выступа, послужившего Хансу мостом, не превышала двенадцати дюймов, а местами не достигала и шести.
– Здесь глубоко? – спросил я.
Вместо ответа Ханс бросил в пропасть осколок камня. Я долго прислушивался, пока до меня не донесся звук его удара о дно.
– Я говорил баасу, – заметил Ханс наставительным тоном, – что лучше ему подождать до рассвета, но баас не стал меня слушать, и, несомненно, ему виднее. Не угодно ли теперь баасу пойти спать, а сюда вернуться наутро, что я считаю самым мудрым?
По правде сказать, это было моим сильнейшим желанием, ибо место было весьма непривлекательное. Но я был так зол на Ханса, разыгравшего со мной комедию, что скорее готов был сломать себе шею, чем доставить ему удовольствие посмеяться надо мной.
– Нет, – спокойно ответил я. – Я пойду спать, когда увижу твою картину, и никак не раньше.
Тут Ханс не на шутку встревожился и начал меня упрашивать не переходить через пропасть.
– Как я понимаю, – возразил я ему, – никакой картины здесь нет, и это просто твоя обезьянья выходка. Хорошо, я пойду посмотрю, и если окажется, что ты солгал, ты у меня пожалеешь, что родился.
– Картина есть – или, по крайней мере, была в дни моей молодости, – упрямо сказал Ханс, – а насчет остального баасу лучше знать. Если он переломает все кости, пусть на меня не пеняет и пусть расскажет правду своему преподобному отцу на небесах, который оставил бааса на мое попечение. Пусть баас расскажет ему, что Ханс просил бааса не ходить, а баас назло не послушался. Кстати, лучше пусть баас снимет сапоги, так как дорога очень скользкая. Бушмены много ходили по ней.
Я молча сел и снял сапоги, думая про себя, что я с радостью отдал бы все свои сбережения в Дурбанском банке, лишь бы избавиться от предстоящего испытания. Странная вещь – самолюбие белого человека, в особенности же англосакса! Что заставляло меня подвергать свою жизнь такому риску? Только боязнь насмешек Ханса и двух моих кафров. В глубине души я проклинал и готтентота, и пещеру, и яму, и картину, и грозу, которая завела меня сюда, и все, что только мог припомнить. Однако, взяв в зубы оловянную ручку своего фонаря, я пошел по мостику, словно мне очень нравилась моя затея.