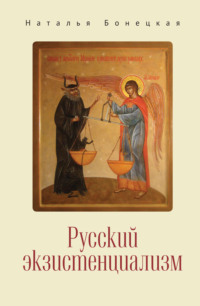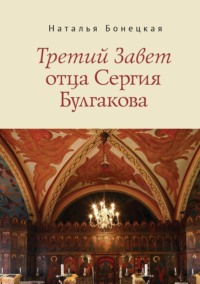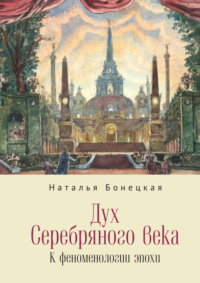Полная версия
Письма о русском экзистенциализме

Н. К. Бонецкая
Письма о русском экзистенциализме
© Н. К. Бонецкая, 2021
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021
Предисловие: преодоление философии
Тезис о действительном конце философии, особенно в ситуации нынешнего тотального кризиса, едва ли не покажется трюизмом. Сами философы почувствовали свою обреченность давно, но позиций сдавать не спешили: Хайдеггер, к примеру, объявил Ницше последним европейским метафизиком, но разработал и собственное метафизическое учение. Вершиной философского подъема в Новое время был Кант, – затем наметился спуск: великие идеалисты Гегель, Фихте и Шеллинг были уже реакцией на Канта. Ориентированная на естественные науки, философская мысль XIX в. следовала руслу теории познания; безысходность усилий многочисленных гносеологов спровоцировала возврат к бытию, – рассуждать о бытии после Канта считалось не совсем приличным. На этой волне в последней трети XIX в. поднялась, в лице Вл. Соловьёва, и русская философия, еще до того робко, в спорах западников и славянофилов, выразившая конфликт позитивного и духовного мироощущений.
Философия исходит всегда из опыта бытия, – опыта естественнонаучного, религиозного или какого – то иного. Философия русского Серебряного века опиралась на разнообразный религиозный опыт – отнюдь не на легальный опыт Церкви, но на опыт индивидуальный, непременно духовный и иногда оккультный. Среди мыслителей Серебряного века были настоящие визионеры и мистики; свои личные сверхъестественные переживания они пытались осознать, привлекая для этого древние учения – гностицизм и Каббалу, старую теософию, а также новейший западный оккультизм. Так, Соловьёв пытался понять свои эротические видения с помощью иконописного образа Софии Премудрости Божией, смысл которого искал не столько в Библии, сколько в разного рода оккультной письменности. – Но экзистенциализм – как раз то направление русской мысли, которое противопоставляло себя софиологии, соловьвского опыта в расчет не принимавшее и концепта Софии отнюдь не развивавшее. Не был ли в таком случае русский экзистенциализм чистой философией типа позднейших учений Сартра или Камю?
Мой ответ станет решительным отрицанием этого предположения. Русский экзистенциализм был страстным порывом за границы философии, напряженным усилием уловить и описать нечто таинственное – конкретное бытие человека. Дело тут не только в новизне ставшего экзистенциальным философского стиля – наши мыслители вкладывали в свой дискурс глубинную жизнь «я», делая тем самым философию – философствование самим существованием их внутреннего человека. Дело было все же в возникавших смыслах, в сути учений, – в философии как таковой. А русская экзистенциальная философия начиналась намерением преодолеть Канта, уйти от «отвлеченных начал» рационализма в бытийственную конкретность. Русский экзистенциализм выступил с лозунгом радикального «оправдания» индивида – всякого конкретного человека. При этом наши мыслители опирались на собственный опыт существования, каждый на свой, как бы настаивая при этом на абсолютности своих глубинных открытий. В трудах Бердяева и Шестова были намечены духовные пути, выводящие философское мышление из послекантовских тупиков. Потому русский экзистенциализм это нечто большее, чем философия – движение одного категориального разума: за учениями русских экзистенциалистов просматривается целостная жизнь личности с ее волей и эмоциями, а также с ее глубинной тайной. Конечно, русские экзистенциалисты – не духовные учителя, создатели общезначимых методик. Их воззрениям не хватает теософской всеохватности, прослеженной до деталей антропологии, четкого свидетельства об опыте. И их сочинения, преодолевшие философскую абстрактность, не дотягивают до реализма, к примеру, антропософии Р. Штейнера или «науки Каббалы» нашего современника М. Лайтмана. Мифологическая тенденция таких учений русскому экзистенциализму не присуща. Но для воззрений Бердяева, Льва Шестова и Бахтина надо подбирать обозначения иные, чем философия. Чувствуя это, исследователи в связи с ними и говорят о гностицизме, герменевтике, «прозаике».
Примечательно то, что именно в стремлении преодолеть Канта – победить сам дух философии Нового времени – свое вдохновение черпали как Бердяев, так и Лев Шестов: Бердяев стремился выйти за пределы «чистого» разума, Лев Шестов – разума «практического». Иными словами, мысль Бердяева изначально следовала руслу гносеологии, мысль Льва Шестова была ориентирована этически и религиозно. Если вспомнить любимый обоими библейский образ, то можно сказать, что они стремились своими учениями примирить и соединить древо познания и древо жизни, встав тем самым над мировой трагедией грехопадения. Бердяев всю жизнь искал антитезы субъект – объектной теории познания. Как бы игнорируя позитивные науки, с самого начала он противопоставил их методу знание мистическое. В ранней – 1907 года – книге «Sub specie aeternitatis» он осознал себя «мистическим реалистом», познавательно направленным на «реалии» в средневековом смысле – на сущности запредельные в отношении чувственного опыта. В «Философии свободы» (1911 г.) свои гносеологические надежды Бердяев возлагает на «церковную мистику», требуя от нее при этом нетрадиционной «дерзновенности». Широко понятой, метафизической «церковности» он будет придерживаться до конца: в Церкви – Теле Христовом – субъект – объектный разрыв невозможен как невозможна обособленность членов единого организма. Бердяев неизменно позиционировал себя как христианина, признавал лишь «богочеловеческую» религию, однако в своем крене в сторону собственно человечности был близок не столько христианской традиции, сколько Каббале – древнейшему истоку и сокровенной душе не одного иудаизма, но и христианства. И уже в бердяевском труде 1913 – 1916 гг. «Смысл творчества» церковность отступает на задний план: со всем своим пламенным красноречием мыслитель доказывает, что прорыв в мир ноуменов способна осуществить сама творческая личность.
Этот философский поворот был обязан новому духовному опыту Бердяева, о котором он расскажет уже в 1940-е годы в автобиографическом «Самопознании». Опыт этот имел сверхъестественный характер и заключался в явлении мыслителю яркого света. Событие было осознано им как откровение творчества, отводящее от пути церковного покаяния. Сам Бог призывает человека творить его собственный мир, раскрывая скрытую доселе тайну: мир был создан для человека, мир и Бог – в человеке – творце, причем и сам мир – Человек Великий, Космический. Древнейшее представление мудрецов о тождестве микро- и макрокосма сделалось центром метафизики Бердяева. Весь его интерес отныне сосредоточен на тайне субъекта. Познавательный объект познания, повторяет он на разные лады, это сам познающий субъект, познание же – это самопознание, девиз святилищ древности. Что же касается изучаемого естественной наукой мира объектов, то он не что иное, как иллюзия органов чувств человека, его падшего мировосприятия, подлежащего исправлению на творческом – новом, открытом им, Бердяевым, духовном пути. В книгах 1920-1940-х годов, развивая обозначенную уже в «Смысле творчества» «философию свободного духа», Бердяев приходит к кажущемуся невероятным выводу. А именно, победа над «объективацией» означает не просто новую ступень гносеологии: вместе с кантовским «чистым разумом», «работающим» лишь в мире явлений, упраздняется, как бы растворяясь в творческом Свете, и ненавистный – лишающий человека свободы и несущий смерть «мир объектов». Здесь существо эзотерики Бердяева: все его труды говорят не о чем – то ином, как о чаемом всеми бессмертии, все они – поиски и принципиальное обретение духовного пути к вечности…
Такая же – сверхфилософская установка была с самого начала и у Льва Шестова. В своей первой (1898 года) книге «Шекспир и его критик Брандес» Лев Шестов конципирует человеческое существование как судебную тяжбу между конкретным индивидом и… категорическим императивом Канта. В последующих трудах 1900 – 1902 гг. («Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше», «Достоевский и Нитше») Лев Шестов абсолютно открыто ниспровергает этику с ее «чёртовыми» (Достоевский) «добром и злом», противопоставляя ей искания Бога на «пути, открытом Нитше». По мере взросления Льва Шестова – мыслителя «Нитше» уступает место в его учении библейскому патриарху – «отцу веры» Аврааму. Кантовский же «практический разум», «категорический императив», у зрелого Льва Шестова отождествляется с древом познания Торы и объявляется дьявольским соблазном. Как и в случае Бердяева, здесь намечен некий духовный путь: если отказаться от категорий греховного разума, создающего ложную, подчиненную законам действительность, заковывающего тем самым человека в цепи необходимости и обрекающего его на смерть, то человеку возвратится зрение библейских праотцев и откроется никуда на самом деле не исчезавший райский сад, где вечно плодоносит Древо Жизни. Шестовский путь предпочтения веры разуму не был тривиально – религиозным обскурантизмом, но он еще более солипсичен и «эзотеричен» в сравнении с «путем» Бердяева. Общее здесь то. что воля обоих мыслителей – к отрыву от философии и поискам выхода в новое измерение бытия. Ставя в своей последней книге («Афины и Иерусалим») дилемму «религия либо философия», Лев Шестов однозначно разрешает ее в пользу «религии». Вот только что это за «религия»? Самим Львом Шестовым она осмысливалась как понятое в аллегорическом смысле «странничество» Авраама, бредущего по пустыне в Землю обетованную, повинуясь одному Божьему зову. Духовные пути русских экзистенциалистов были все же путями приватными, сохраняющими для нас свою эзотеричность.
Бахтин, вроде бы, напротив, сугубо «прозаичен»: он – теоретик прозаического, повседневного существования человека и к тому же философствует, отправляясь не от самой «жизни», а от «искусства» – искусства романной прозы. О том, что эта явная бахтинская позиция – не что иное, как камуфляж, я писала множество раз. Изначальная цель этого мыслителя была весьма амбициозной – не чем другим, а созданием «первой философии», учения о нравственном существовании человека. Бахтин – мыслитель был безрелигиозен, но признавал «дух» и отождествлял его с «нравственной реальностью» – миром человеческих отношений. Духовной действительностью для Бахтина было то «das Zwischenmenschliche», которое проблематизировали западные философы – диалогисты. И вот, в своей книге 1920-х гг. о Достоевском Бахтин искомый им (вместе со всем Серебряным веком) духовный мир обрел в «полифонических романах» Достоевского. Речь идет не о метафоре, даже не о художественной модели действительной экзистенции общества – общения: диалогом «идей» героев этих романов, по Бахтину, конституируется подлинное духовное пространство. В заметке 1919 года «Искусство и ответственность» Бахтин дерзновенно заявил о своем философском замысле свести воедино «искусство» и «жизнь». Это была бахтинская реакция на послекантовскую «трагедию культуры» – тот разрыв культурных ценностей и «жизни», на который сетовали неокантианцы. Бахтин – диалогист – создатель философии духа, разновидности экзистенциализма. Насколько близко «прозаическое» бахтинское учение о диалоге религиозному воззрению его двойника – хасида М. Бубера? Быть может, на этот вопрос ответит знаток еврейского мистицизма. Я только констатирую очевидное – выход диалогизма Бахтина, как и экзистенциализма Бердяева и Льва Шестова, за пределы чистой философии.
Как видно, в русском экзистенциализме меня интересует его пограничный характер – выступание из области чистой философии, устремленность в пространство религии и оккультизма. Свои размышления я попыталась выразить в жанре философического письма, к которому нередко прибегали как русские, так и европейские авторы. Этот жанр удобен для проблематизации тем, остро и интимно занимающих человека, – речь идет, понятно, не только обо мне. «Адресат» моих «писем» выбран, разумеется, под стать их содержанию. Мой «собеседник» – коллега – философ, при этом продвинутый европейский антропософ, не безразличный и к русским вопросам. Мой читатель сможет на свой вкус домыслить ответы вымышленного «профессора», – это как раз и предполагает данный, достаточно рискованный словесный жанр.
Наталья Бонецкая, февраль 2021 г.Письма о русском экзистенциализме (подражание Чаадаеву)[1]
Письмо первое: антроподицея Бердяева и антропософия Штейнера
«Душа по природе своей настолько сильна, что способна вынести много рождений.»
Платон «Федон» 88 А (пер. С. Маркиша)«При воскресении мертвых: сеется в тлении, восстаёт в нетлении.»
I Кор. 15, 42Дорогой коллега!Московские зимние постоянные сумерки способствуют душевной сосредоточенности, следование тютчевскому императиву «Лишь жить в себе самом умей» становится естественным. Город давно сделался чужим, церковь уже не то светлое прибежище, каким была для меня в советские годы. Стараешься «прокрасться» по жизни незамеченной, «пройти, чтоб не оставить следа», – мне близко это настроение Цветаевой! Внутрьпребывание православных мистиков, жизнь в собственных мыслях, чему учил Ваш Доктор, – вещи вообще – то опасные, – мало – помалу раскрывают свою плодотворность. Вот из какого состояния души я пишу. Не стану его уточнять и перейду к существенной части своего письма.
Вы знаете, что уже несколько месяцев я веду исследование под кодовым названием «Бердяев – гностик». То, что философствование Бердяева очень рано сбросило собственно философские путы и вырвалось на простор духовной жизни, самопознания, богоискательства, – его приватной гностической мистики одним словом, – ясно, наверное, каждому. Но меня заинтересовали переклички двух гностических феноменов ХХ века – антроподицеи Бердяева и антропософии Штейнера. С кем же мне было обсудить эти вещи, если не с Вами – блестящим философом в антропософии и свободным антропософом в философии! Как соотносится бердяевская книга 1911 года «Философия свободы» с «Философией свободы» Штейнера, вышедшей в 1894 году и сочувственно упомянутой Бердяевым в его «Смысле творчества» (1916)? Случайна ли общность основных концептов у Штейнера – философа (отвлекусь от образа Великого Посвященного, «умнóго оккультиста») и русского экзистенциалиста, – таких как дух, свобода, Я, самопознание, назначение человека, индивидуализм – или субъективизм и персонализм у Бердяева, вместе с прочими категориями обеих версий философии духа? Всё же, наверное, не случайна, поскольку и Андрей Белый в своем мемуарном эссе «Центральная станция» (начало 1930-х гг.) замечает, что в «Философии свободы» Бердяева и сам Доктор распознал бы «не бердяевство, а Дорнах»! – Но почему же тогда Бердяев не воспользовался, как Вы любите выражаться, антропософским шансом своей кармы? Почему он яростно критиковал антропософию, утверждая, что в ней нет человека, заодно – в 1920-е – и Штейнерову «Философию свободы» за отсутствие там свободы? Считая Штейнера «замечательнейшим оккультистом», – ведь Бердяев не только признавал тайное знание, но даже настаивал на его необходимости, – он не мирился при этом с антропософским анализом космоса и человека, называл «разложением» естественнонаучный в основе Штейнеров подход и даже ощущал «трупный запах» от «распластованного» и разлагающегося антропософского мира. Как примирить эти две оценки Бердяевым феномена Штейнера? Я, может, сейчас чуть по – новому формулирую уже заданные Вам раньше вопросы. Они отнюдь не праздные и касаются не только историков философии, но и всякого человека, – позже я надеюсь это обосновать.
Но Ваш ответ на мои вопрошания разочаровал меня! Да и был ли это ответ хотя бы читателя книг Бердяева? «Бердяевская высокопарная, пошлая белиберда»: в точности эти самые слова я слышала и от церковных мракобесов. Вы восполнили их филологические изыскания совсем уж странной метафорой «бердяевская барахолка», чьи «ублюдки» – это «эсхатология» и «апокатастасис». Я Вас понимаю: и меня тоже иногда «заносит» – уносит поток идейных страстей. Но признаюсь Вам: я по – человечески люблю Бердяева, Булгакова и даже Шестова, им я обязана углублением и просветлением своего мировоззрения. Заступиться за них – не есть ли мой прямой долг? Сразу открою Вам свое бессилие пред стрелами Вашего великолепного осроумия, попадающего в самый центр мишени. «Русские мальчики» Достоевского, решающие «последние вопросы» в вонючих трактирах – вместо того, чтобы погружаться в философские трактаты: кто не примет такого генезиса литераторов Серебряного века, которых, как Вы пишите, не слишком сведущие западные слависты преподнесли миру под гордым именем «русских философов»?! Но зачем главную тенденцию тогдашнего христианства называть «апокалиптическим кокетством»? Сами страдая, не станем отнимать у других права на искренность страдания! – И почему Бердяев (вместе с Ходасевичем и М. Цветаевой) был обязан понять, что в Андрее Белом, по – хлыстовски исступленно пляшущем в берлинском питейном заведении (эпизод 1922 г., освещенный во многих мемуарах), в тот самый момент происходило рождение высшего «Я», совершалась встреча со Стражем порога – его личным дьяволом, которого он принял за Доктора?! По – моему, некорректно настаивать на такой – догматически – антропософской рецепции шокирующего эпизода. Но вот, Вы наполовину всерьез грозите Бердяеву (по сути, за отвержение им антропософского кармического шанса) загробным судом, – и чьим же? – египетских богов! Простите, многомудрый коллега: серьезный момент вашей шутки для меня в том, что изрекший ее стал в тот самый момент рупором «египетской» ложи Мемфис – Мизраим, куда в 1906 году вступил Рудольф Штейнер! И конечно, это тоже – теперь уж моя – шутка.
Итак, своим нежеланием «копаться в бердяевской барахолке» Вы побуждаете меня на свой собственный страх и риск разбираться в проблеме. Вы, уж простите, – не ас в русской философии; я же – никак не антропософский ас. Но я бы никогда не взялась судить об антропософии, будь я в ней совсем уж случайным посетителем: мне тоже был дан – и какой! – шанс пойти вслед за Доктором и тем ускорить свою эволюцию (говорю это в Ваших категориях). Антропософию я получила из самых первых – и каких! – рук: из дома Волошина в Коктебеле. Это произошло в самом начале 1970-х годов, – именно тогда и Вы открыли для себя Штейнера: Ваш родной город известен своими сильными антропософскими кругами. – Итак, в Коктебеле, на теннисном корте Литфонда я познакомилась с Еленой Д., молодой девушкой, моей сверстницей, которая жила в волошинском Доме, поскольку принадлежала к семье, близкой не только Марье Степановне, но и самому Максу. И мы с ней подружились. В Доме же, перед точёным ликом Царевны Таиах, я стала получать от Лены самиздатские, на папиросной бумаге, машинописные тексты книг и лекций Штейнера. Не сразу я поняла, что это такое. Философия? религия? наука? – так приступала я к новой подруге. А та – по внешности ботичеллиевская Венера, по складу ума и судьбе – Ася Тургенева или Маргарита Волошина, – музыкантша и эвритмистка по роду занятий – возбужденно – заговорщически шептала мне прямо в ухо: «Не-е-ет, ты не понимаешь – это совсем – совсем другое!!!» Уже тогда Лена сделала антропософию своей жизнью. Ныне ее ближайший друг возглавляет Международное антропософское общество, – Вы прекрасно знаете, кого я имею в виду. Лена же нашла себя в столь созвучных ее душе занятиях эвритмией, поселившись в 1990-х в Штутгарте. Что же касается меня, то начавшееся в 70-е мое углубление в христианскую традицию (куда я отношу не только православие, но и религиозную философию Серебряного века) шло рука об руку с изучением антропософии. В выборе между ними я никогда не нуждалась, антропософская практика мне всегда была чуждой. Но без антропософии русский Серебряный век понять невозможно.
…Интересно пускаться в воспоминания, они могут увлечь! Однако вернемся, мой великодушный собеседник, к нашей – надеюсь, общей теме. Приступая к ней полгода назад, я проштудировала три гносеологических – до – теософских труда молодого Штейнера. Это «Очерк теории познания Гётевского мировоззрения» (1886), «Истина и наука» (1892) и превознесенная Вами, не преувеличиваю, до небес «Философия свободы» (1894). Не Вы ли нарекли этот последний труд «книгой жизни», философской жемчужиной, дарованной миру Высшими силами ради его спасения? Для меня такая оценка более чем странность. При абсолютно непредвзятом подходе, ФС Штейнера ничуть не значительнее ФС Бердяева. Два гносеологических труда, авторы которых задались целью «преодоления Канта», кажущейся насущной на рубеже XIX-ХХ вв., просятся быть сопоставленными!
И Бердяев, и Штейнер искали такого пути познания мира, на котором не возникало бы рокового антагонизма между субъектом и объектом (заостренного послекантовской гносеологией) и упразднялась непреодолимая преграда между познанием и бытием, – искали познания сущностного. Ход рассуждения обоих – до некоторого момента! – весьма близок. Штейнер в ФС говорит о «восприятии» предмета познающим, к чему затем подключается «мышление», оперирующее «понятиями». Те же самые ступени познания Бердяев определяет чуть иначе: «Гносеология должна начать с установления различия между первичным нерационализированным сознанием и сознанием вторичным, рационализированным»[2]. Налицо полное – вплоть до важнейших терминов – совпадение: и для Штейнера, и для Бердяева познающий исходит из живой интуиции бытия, которую затем рационалистически оформляет.
Однако коренное мировоззренческое расхождение мыслителей проявляется тотчас же. Бердяев в двухступенчатом акте познания ценит его первый этап непосредственного восприятия. Он усматривает в нем таинственность и связывает с верой: воспринимая мир, мы уже верим в его существование, – восприятие не что иное, как наша практика веры. Штейнер же сосредоточивается на втором этапе – на мышлении, показывая его глубинные возможности. Отсюда невероятным образом – расширением сферы познавательного опыта – впоследствии разовьется система антропософии, – из гносеологического зерна вырастет гигантское древо духовной науки. Уже в ФС Бердяев встал на путь веры – некоей естественной мистики. А Штейнер, наследник немец кого идеализма, сделал ставку на рационализм и продемонстрировал, как этот последний может быть углублен и утончен до превращения в тайновеление. Оба мыслителя были мистиками, но представляли разные изводы мистицизма.
С трепетом перехожу я к своему пониманию ФС Штейнера. Ведь Вы так дорожите этой книгой! Сам Штейнер настолько ценил ее, что, по его словам, случись гипотетический роковой выбор, он предпочел бы сохранить ФС ценой гибели всех плодов своего последующего творчества. Еще в «Истине и науке» – в прологе к ФС – Штейнер втягивает своего читателя в опыт наблюдения его (читателя) собственного мышления. Он опирается при этом на Фихте, также призывавшего субъекта созерцать собственное познающее «я», – Фихте предупреждал, что для этого потребен особый орган, который есть лишь у тех людей, которые в своем духовном развитии обошли прочих. Кстати, корни экзистенциализма – «субъективизма», «персонализма» Бердяева тоже надо искать у Фихте! Уже в «Смысле творчества» он делает «я», субъекта, центром своего воззрения. И это «я» в бердяевской творческой биографии проходит путь от трансцендентального фихтевского «я» (таково еще «я» в книге 1934 г. «Я и мир объектов») до интимного «я» Бердяева, которое в «Само по знании» (1940-е гг.) порой звенит пронзительно исповедально. Вы, дорогой коллега, так цените этот пафос «я» – не только у Штейнера, но и у Штирнера, не говоря уже о Ницше. Но почему же, смею спросить, Вы не заметили этого пафоса у Бердяева – откровенного философа «я», всю жизнь не занимавшегося ничем кроме самопознания?..
Вернусь к ФС Штейнера. Сразу напомню Вам пикантный момент: Штейнер считал себя перевоплощением Аристотеля. Вы, антропософы, обходите молчанием такого рода связанные с Доктором вещи. К примеру: в начале 1900-х Штейнер себя и своих сторонников именовал «детьми Люцифера», издавал соответственно журнал «Гнозис Люцифера», а также, лелея уже «христологический» проект, усматривал связь праздника Духова дня – Троицы – с «люциферическим принципом»[3]. Никакое красноречие адептов Штейнера не выдавит из моего ментального мира устойчивый архетип: Люцифер – это дьявол. – А вот что пишет Ваш единомышленник – красноречивейший, остроумнейший, гениальный, быть может, Карен Свасьян о ФС Штейнера, усматривая в ней действие «царственной» «магической власти»: «Вершина, достигнутая тут [в «книге – мистерии», по Свасьяну. – Н.Б.], – та самая, с которой только приоткрываются “все царства мира и слава их”»[4]. Я отказываюсь понимать Свасьяна!! Он цитирует Мф. 4,8, где сказано о «диаволе», который берет Иисуса «на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их». И у Свасьяна получается, что Штейнер в ФС достиг вершины диавольского гнозиса и ведет туда своих последователей! Такое крутое манихейство мне уже совсем не по плечу! «Отойди от меня, Доктор, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»: перефразируя Мф. 4, 10, подражая Иисусу, отвечаю я сейчас и ответила давно. Но все же, скажите наконец, что это значит?! – Возвращусь однако к гносеологии Штейнера.