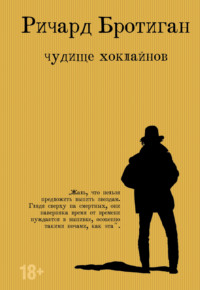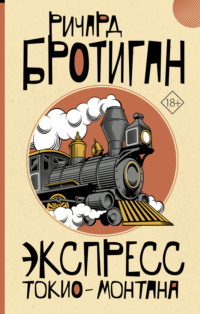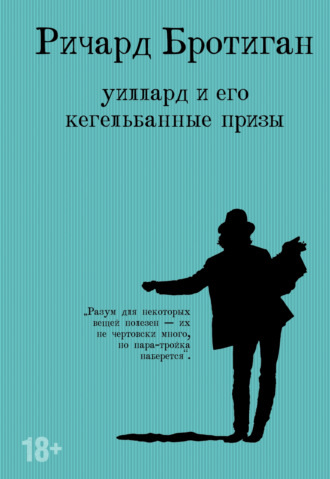
Полная версия
Уиллард и его кегельбанные призы
Человек с наслаждением, осторожно, вдумчиво потягивал вино из бутылки в коричневом пакете и глядел, как сгорает здание. Обученной почтовой ищейке отыскать его – пара пустяков. Псине только нужно бежать по следу из коричневых пакетов с пустыми бутылками – так она и доставит человеку письмо от матери: «Домой не приходи и хватит звонить. Мы больше не хотим тебя знать. Найди себе работу. С любовью, твоя бывшая мама».
Здание в воскресное утро пустовало, и никакая драма жизни и смерти не омрачила или, может, не осияла просмотр пожара. Пассажир не имел представления, почему люди собрались глядеть, как сгорает здание, – тем более раз их это не касается, не их дом сгорает и не соседний, угрожающий запалить их жилье.
Да, пассажиру это все казалось весьма необычным и увлекательным, а потом он вспомнил женщину, с которой много лет назад был близок. У них происходил местами весьма напряженный роман, который занимал пассажира добрую часть конца 1960-х, а в начале 1970-х наконец истощился. Роман, что называется, «временами».
Пока они не виделись, у нее возник неуемный интерес к пожарам, и она стала пожарной охотницей. Все бросала в любое время дня или ночи, чтобы попасть туда, где горит дом. Однажды около четырех утра она глядела, как двухквартирник переселяется в царство руин и пепла, и тут заметила, что на ней банный халат, пижама и шлепанцы. Едва заслышав невдалеке сирену, она выскочила из постели, накинула халат, нацепила шлепанцы и кинулась за дверь на зов пожара.
Она с полчаса глядела на пожар, прежде чем заметила, во что одета. Собственный наряд ее ошарашил. Она как-то слишком далеко зашла и потому забросила пожароведение.
Она совершенно не стремилась чокнуться.
Недоумевала, наверное, как же до такого дошло.
Она вернулась домой и поклялась забыть о сиренном зове сирен.
Спустя годы пассажир, наблюдая, как сгорает здание в Сан-Франциско, вдруг решил ей позвонить, если она еще в городе. С конца 60-х, когда они общались, она много путешествовала. Последний раз, когда они встретились, случайно, она жила в Сан-Франциско.
Может, она еще здесь.
Он решил позвонить ей из телефонной будки через дорогу от пожара. Вполне логично для пассажира, чей автобус уехал.
Зачем еще нужны бывшие возлюбленные огнепоклонницы?
Пассажир позвонил в справочную – ну точно, она еще в городе. Он набрал номер, и она тут же узнала пассажиров голос, хотя он сказал только «привет», и она ответила «привет», назвав его по имени – конечно, не Пассажиром.
Хотя вышло бы слегка забавно, скажи она: «Привет, Пассажир».
Пассажир бы испугался, ему было бы о чем задуматься.
Но ничего подобного, слава богу, не случилось, и пассажир отозвался на ее приветствие так:
– Я как раз о тебе думал.
– А, – ответила она.
– Да, – сказал он. – Я смотрю, как горит здание. Подумал, надо бы тебе звякнуть.
Она рассмеялась.
– Я от него прямо через дорогу, – сказал он.
Она снова засмеялась и сказала:
– Я как раз слышала по радио. Говорят, дым – в восемь этажей.
– Ага, – подтвердил пассажир. – И тут три пожарника, стоят на верхушках лестниц, поливают крышу водой, но ты об этом, наверное, знаешь лучше меня.
Опять: смех.
– Ну, – сказал пассажир, – вот, собственно, и все. В следующий раз звякну, если увижу, как что-то горит.
– Непременно звякни, – сказала она.
И они славно повесили трубки.
В прошлом у них бывали гораздо менее славные беседы. Пассажир вспомнил их общее прошлое: первую встречу, потом как они стали любовниками, ночи и дни вместе, как переползли из одного десятилетия в другое, а потом все развалилось на пустые годы и безмолвие душевных руин.
Он подумал о том, как только что ей позвонил. В своей нелепой логике этот звонок был каким-то идеальным.
Пассажир бы ни за что не позвонил, не отчаль автобус без него, не выкинь его автобус на место пожара, который пассажир решил исследовать, поскольку больше в географическом календаре нечего было делать в февральское воскресное утро странных скитаний, что начались весьма невинно, когда пассажир в конце сентября уехал из Монтаны.
Я подозреваю, пассажиру как раз и уготовано переезжать с места на место, но от этого не легче. Помочь ему толком нельзя, разве только удачи пожелать, и еще, будем надеяться, он хоть чуть-чуть понимает, что́ это с ним такое неудержимо случается.
С чего это я внезапно снова на Аляске, где меня кто-то везет по дороге, упорно желая показать поддельные тотемные столбы? Видимо, вот так оно все и происходит, когда дни, недели, месяцы и годы тебе вдруг уже неподвластны.
Я видал настоящие в музее антропологии университета Британской Колумбии, но решил ублажить человека, который хотел показать мне поддельные в Кетчикане, Аляска, потому что он милый человек, хочет быть хорошим хозяином, гидом, и какие-то поддельные тотемные столбы – часть его экскурсии.
Мы катим к поддельным тотемным столбам, и он рассказывает мне про свою личную жизнь, хотя повода я ему совсем не давал. У него очень сложная личная жизнь, и, по-моему, он хочет от меня доброго полезного совета, который, возможно, все уладит и прояснит.
Но я еду к каким-то аляскинским поддельным тотемным столбам, и мне просто неловко. После того вечера, когда меня спрашивали, чем я занимался днем, а я рассказывал, мне все говорили:
– Зачем он тебя туда потащил? Это же поддельные тотемные столбы, – и я не знал, что ответить, как не знал, что ответить насчет его личной жизни.
Я не могу позволить себе роскошь сложной личной жизни. У меня личная жизнь была простая, и нередко, имея простую личную жизнь, я вообще никакой личной жизни не имел. Я по ней, в общем, скучаю, но все сложности быстро возвращаются, и вот уже мои бессонные ночи полны удивления, как же это я снова умудрился потерять контроль над простейшими сердечными делами.
К поддельным тотемным столбам надо было идти по лесу.
В лесу этот человек про свою личную жизнь не говорил. Только сообщал названия растительности, которая встречалась по пути к поддельным тотемным столбам. Мы шли, и человек будто читал списки живых, которые я забуду, едва он проставит галочки.
Вскоре мне уже хотелось, чтоб он вернулся к своей личной жизни. Тогда я хоть не буду угрызаться, если что забуду.
Я вообще-то никогда не стремился запоминать то, что сразу не привлекло внимания. Думаю, по слабости характера, но сейчас это исправлять поздновато.
Мне только что стукнуло 47, и нельзя вернуться в прошлое, перемешать приоритеты и создать из них новую личность. Придется мне как-то и дальше жить с почти пятидесятилетней суммой себя.
Может, она и не сойдется с тем результатом, что я себе рисовал, когда был моложе и не такой покореженный, но я правда не могу воспроизвести список растений, которые мелькали у меня в мозгу на пути к поддельным тотемным столбам.
Тотемные столбы оказались совсем-совсем поддельными.
На обратной дороге в Кетчикан полил дождь. Холодный унылый декабрьский дождь падал с неба, и человек вновь заговорил о своей личной жизни, а я в машине будто усыхал, съеживался, уменьшался почти до ребенка.
Дворники с дождем справлялись, а вот я проигрывал борьбу с бесконечной и сложной личной жизнью этого человека. Мы ехали в Кетчикан, и ноги мои уже не касались пола, а одежда повисла на мне палаткой.
В тот дождливый аляскинский вечер меня его личная жизнь совсем доконала. Я бы и рад был посоветовать ему что-то полезное, но мне казалось, я не вправе, потому что у меня с ног свалились на пол ботинки.
Человек великодушно сделал вид, что не заметил.
Едва он досказал про свою личную жизнь и стало ясно, что продолжения не будет, я мгновенно вырос до нормального размера, от чего, естественно, вздохнул с громадным облегчением.
Почему-то ботинки опять оказались на ногах – можно было шагать в них к чему-то новому.
Например, к японскому кладбищу на гавайском острове Мауи, но сначала – резкое отступление, потому что я чувствую: если сейчас не запишу, то не запишу никогда, так что смиритесь со мной, и я вернусь к японскому кладбищу на Гавайях, как только смогу.
Японское кладбище ненадолго прерывается из-за одной штуки, которую я прочитал несколько лет назад в японском романе: про то, как человек встречается с женщиной в токийском супермаркете и она потом становится возлюбленной рассказчика. По-моему, это так экзотично – впервые встретить будущую возлюбленную в супермаркете.
Я об этом много думал, особенно в последнее время, по мелочи покупая продукты в Беркли, когда жил в доме, где повесилась женщина.
Я ходил за покупками в ближайший супермаркет, толкал перед собой тележку, набирал случайную еду, которую мне вообще-то неинтересно было есть, просто ежедневный паек необходим, никуда не денешься.
…и порой думал о японском романе, о встрече с новой возлюбленной в супермаркете. Какое необыкновенное и нелепое место для случайного интимного свидания!
3 февраля 1982 года закончилось.
Интересно, как бы этот супермаркетный роман начался и кто заговорил бы первым. Может, я бы стоял в отделе супов, ассортимент изучал? Пожалуй, банка томатного супа не помешала бы на случай пасмурной жизни, и тут вдруг мою краткую медитацию прервал бы голос блондинки.
Я и не слыхал, как она подошла. Я не говорю, что она со своей тележкой ко мне подкралась. Просто я не обратил внимания, а может, она и впрямь подкралась, выследила меня в отделе супов.
– Привет, – сказала она мило манящим голосом.
Я испуганно отпрянул от полки с томатным супом на возможный пасмурный обед.
Я раньше встречался с блондинками.
У меня вообще-то был насчет них пунктик.
Чуть увижу блондинку – сразу счастлив. Странно, как это я не заметил, что она подошла. После своего привета она сказала:
– Простите, мы с вами раньше не встречались?
На неком сборище одна женщина по правде мне такое сказала, и привело это к короткому роману длиной в один ноктюрн среди ночи.
Но тут была другая женщина.
Кто знает, чем все закончится?
Мы с ней встали в очередь в кассу, потому что женщина предложила меня подвезти, но сначала, конечно, пригласила к себе выпить, потому что это по пути ко мне домой, а домой – это туда, где повесилась женщина.
Покупательница перед нами в очереди нагрузила в свой тележечный поезд пять тысяч разных штук, и у нас было время познакомиться.
Ее звали Икс, она недавно окончила Калифорнийский университет в Беркли, изучала философию, но не нашла работу, где требовался бы спец по философии, и временно работала в бутике в Уолнат-Крик, и нет, у нее не было привычки разговаривать с посторонними в супермаркетах, но я как-то так смотрел на банки с супами, что она обратила внимание, и ей ни с того ни с сего захотелось что-нибудь узнать о человеке, который так серьезно относится к супам.
Я сказал ей, что думал, может, купить банку томатного супа на случай пасмурной жизни.
– Я примерно так и поняла, – ответила она.
У женщины перед нами остались 2399 штук, она выгружала свою Южно-Тихоокеанскую тележечную дорогу, длиннющий чек вился из кассы и уже сворачивался в ленту Мебиуса.
– Я хочу спросить про томатный суп, – сказала Икс. – Пожалуйста, поймите меня правильно, но сейчас ведь ясно, уже много дней ясно и, судя по прогнозам, дальше будет то же самое.
– Когда-нибудь станет же пасмурно, – ответил я.
– Пожалуй, оно и не важно – вы же все равно не купили томатный суп, – сказала она.
– Я иногда сначала думаю о чем-то, а потом это покупаю, – объяснил я. – С супом та же петрушка.
– Я рада, что с вами поздоровалась. Я редко встречаю таких, как вы.
Дальше наступила пауза – мы наблюдали, как опустошаются тележки женщины перед нами. В тележках оставалось уже меньше тысячи штук.
Кассирша так много всего из этих тележек пробила, что уже впала в беспомощность, как во сне вынимая банку тунца, коробку риса, брикет масла, пачку салфеток, коробку пластиковых ложек, упаковку чистящего средства, собачий ошейник, банку горчицы, один банан, бутылку уксуса, и прочее, и так далее.
Все это пробивалось, а молодой человек складывал в пакеты. Он трудился уже над пятидесятым пакетом. Окоченелость лица выдавала узника Чертова острова[3].
Если он работал, с боем прорываясь через колледж, в начале упаковки всего этого барахла он был первокурсником, а сейчас уже выпускником.
Икс улыбнулась. В этой улыбке я прочел, что скоро мы отсюда выйдем, отправимся к Икс, будем попивать там белое вино и ближе знакомиться.
Может, отпустим пару шуточек насчет продуктов, которые покупательница перед нами запихала в свои тележки, а может, поговорим о более интимном, что ускорит наше прибытие в постель Икс.
Но в супном отделе что-то очень быстро должно произойти. Не могу же я вечно здесь торчать и глазеть на банки с томатным супом.
Она вот-вот появится и откроет наш роман еще до закрытия супермаркета, иначе я так и буду размышлять о навязчивой японской книжке и никогда не стану романтическим участником супермаркетного романа, окажусь вместо этого на Гавайях, буду бродить по японскому кладбищу, что одним боком выходит к Тихому океану.
Захудалое кладбище, пожилая японская пара тщетно пытается его облагородить. Их не радует эта кладбищенская распущенность, они жалуются, что кладбище обветшало, но работы явно чересчур, им не под силу возвысить погост до стандартов надлежащего кладбищенского облика.
Сейчас около полудня, зной подавляет, а солнце жарит, не проявляя ни малейшего милосердия.
Со мной японка – та, что встречала меня в аэропорту Гонолулу. Она уступает мне, когда я тычу пальцем в кладбище и прошу туда заехать.
Она знает, что мои интересы и привычки нередко странны, и уступает, потому что я не всегда чудной, только изредка. Я часто уморительно скучен, о чем мне сообщали не раз. То есть я неделями способен жить, как обитатель донных отложений террариума.
Во власти безразличия и бездеятельности я бываю почти беспомощен, но сегодня, на японском кладбище гавайского острова Мауи, – совсем другое дело.
Большинство людей, приезжая на Гавайи, по кладбищам не ходят. Обычно людей занимают солнце и пляжи – две вещи, которые никогда не нравились мне, – поэтому на Гавайях я как бы не в своей тарелке, но обхожусь тем, что есть, а теперь вот есть японское кладбище, и можно его исследовать.
Возле кладбища – буддийский храм.
Японка родилась и выросла на Мауи, она рассказывает, что на этом кладбище лежат ее родственники, она ходила на похороны. Я не спрашиваю, кто и где они среди умерших. Мы с японкой расходимся. Я просто брожу, протаптываю свои дорожки поверх печатей бессмертия, а японку теряю.
Кладбища всегда меня завораживали, и за куцее время своей жизни я, пожалуй, слишком много времени провел на сотнях кладбищ по всему миру.
Как-то раз я болел в крошечном коттедже в лесах Мендосино. Я два года работал без отпуска, а затем подруга настояла, чтоб я прекратил работать, устроил перерыв и на несколько недель поехал с нею в коттедж на калифорнийском побережье неподалеку от готического городка Мендосино. Кто-то мою подругу пустил в коттедж, а еще у кого-то она одолжила на две недели машину для поездки.
Она взаправду хотела увезти меня отдыхать и сама все устроила. Мы приехали, назавтра я заболел и провалялся до самого отъезда.
Вообще-то она рассчитывала не на такой отпуск.
У меня был жар, перемежавшийся ознобом, от которого лязгали кости, и дни в постели тянулись годами. В нескольких футах от изножья кровати было громадное панорамное окно, и я пялился на лес, подступавший чуть ли не к подоконнику.
Молодой строевой густой лес, и никаких иных картин, одни деревья, нередко зеленые до черноты, не только потому, что я болел, – погода тоже была под стать моей болезни: хмурые низкие облака, низкие туманы и ды́мки, точно вешалки для одежи покойников.
Убийственно – сделать громадное панорамное окно, которое просто пялится на сокрушительную гущу деревьев. Ни малейшего между ними просвета. Абсолютные деревья. Владелец дома, наверное, ужасно любил на них смотреть, потому что больше в это окно смотреть было не на что.
И вот я валялся в постели, потел, дрожал и глядел на эти чертовы деревья.
Женщина, которая меня туда привезла, не планировала все время сидеть с больным, поэтому ездила в гости, бродила по городу и общалась с друзьями: ужины, вечеринки и т. д.
Я был так болен, что ничего делать не мог.
Я понимал, что женщине очень скучно, поэтому как-то раз собрал остатки сил и попытался заняться с ней любовью, но мое тело меня подвело.
Потом мы лежали в постели, и женщина заметила, мол, ей вообще не казалось, что это удачная идея, и она же мне говорила, но я ведь настаивал, что могу заниматься любовью, и увы, мое тело подтвердило, что я ошибался.
Женщина вылезла из постели и оделась.
Ей тоже было неприятно.
Она отправилась пить кофе с одной подругой из города, танцовщицей, и, наверное, беседовала о танцах – они ее сильно интересовали.
Про танцовщицу была любопытная история. Я с ней познакомился в Сан-Франциско тремя-четырьмя годами раньше и, можно сказать, втюрился. Ей тогда было лет 20, она выглядела на невинные 15 и танцевала в балете, который я несколько раз видел на репетициях и представлениях.
У нее было очень, очень интересное тело, а грудь чуть великовата для балерины. Блондинка, и такая по-соседски прелестная. Увы, танцевала она весьма апатично – наверное, потому в конце концов и бросила.
Однажды на репетиции в балете была сцена, где эта танцовщица в черном трико неподвижно лежала на полу. Остальные танцевали вокруг, а после пяти окаменелых минут ей полагалось встать и снова танцевать с ними.
Прошло пять минут, она не шевелилась – просто весьма соблазнительно лежала на полу. И вот ей пора бы поработать вместе с труппой, а танцовщица не движется. Очень важно, чтоб она уже включилась в балет, а она все лежит.
– Эй, С., – сказал один танцор, а потом уже заорал: – С.!
Бесполезно. Она уснула. Пришлось всем прервать балет и ее разбудить.
Она смутилась и была сонно, по-утреннему эротична.
По-моему, вскоре после этого она и ушла из труппы, и мы встретились только неделю назад в Мендосино.
В моей болезни и в непогоде наступил перерыв. На несколько часов стало солнечно, и грипп перешел в унылую ремиссию. Мы с подругой отправились на пляж у речушки и встретились там с танцовщицей и ее приятелем.
Кажется, мы устроили пикник с какими-то банальными французскими багетами, сыром, греческими оливками и белым вином. Еще, может, фруктов чуть-чуть. На пляже было довольно жарко. Обе женщины надели открытые купальники. Танцовщица была в бикини, а моя подруга – в более консервативном костюме.
И вдруг без особой, я бы сказал – без малейшей суеты они сняли бюстгальтеры, и я увидел грудь танцовщицы, для танцовщицы великоватую. Танцовщица по-прежнему выглядела на 20 (15), а мы жевали дальше, будто это предел нормальности – не обращать явного внимания на двух женщин, которые выставили свои груди.
В общем, моей подруге полезнее было пить кофе с танцовщицей, чем заниматься любовью с больным. Она ушла, а я вернулся к созерцанию деревьев из окна. И вдруг они мне стали невыносимы. Я выкарабкался из постели и забрался в одежду. С температурой, но плевать. Возле дома стоял древний велосипед. Девчачий ве́лик, и я, чуть не падая, очень медленно докрутил педали до ближайшего кладбища. Проехал где-то полмили, но мне показалось – целый континент.
Я слез с велика и пошел между памятниками, читая на них послания смерти. Старое калифорнийское кладбище. Многие мертвецы лежали там давным-давно.
Небо затянуло, тучи такие низкие, что уже почти моросило.
Лихорадка жгла меня, пока я бродил, читая мертвое, но почему-то я был живее, чем когда рассматривал деревья до, во время и после неудачи в любви.
Я снова сел на велосипед и стал крутить педали едва ли быстрее статуи велосипедиста, который медленно едет в постель и затем опять смотрит на деревья из окна.
Вернувшись, подруга изображала бодрость, принесла мне стакан апельсинового сока, села на краешек постели и сказала, что я скоро поправлюсь. Она не ошиблась, и теперь, спустя восемнадцать лет, я очутился за тысячи миль от того окна в калифорнийских лесах и моей вроде бы нескончаемой лесистой болезни, я очутился на острове среди японских могил, что цепляли взгляд, и океан по соседству гудит музыкой их тишины.
4 февраля 1982 года продолжается…
На этом кладбище я замечаю нечто занимательное, необычное. Похоже, куча надгробий, сгрудившихся вокруг постамента как бы памятника на океанской кромке. Я иду к нему вдоль череды столбов, нанизанных на сгнивший электрический провод.
Давным-давно провод нес свет в дальний угол кладбища, но систему бросили истлевать, так что ныне провод способен лишь на темень.
Никто больше не хочет освещать кладбище.
Решили, что на кладбище абсолютно незачем включать свет по ночам.
От сгнившего электрического провода сквозит печалью.
Интересно, помнит ли он, что когда-то выполнял свое назначение: освещать мертвых и отбрасывать их тени на бесконечные жесты и мимику моря.
Потом я стою возле кучи надгробий.
Их тут сотни.
Я не понимаю, зачем.
Может, у памятника проводили какую-то церемонию и они поэтому тут навалены? Эту загадку я должен разрешить.
4 февраля 1982 года закончилось.
Я ухожу от кучи надгробий и направляюсь к японке – спросить. Она тоже понятия не имеет, смотрит на пожилую японскую пару, что безымянно возится тут, пытаясь привести кладбище в порядок былых времен.
Может, в 1930-х это было очень чистенькое кладбище – вот таким они его и помнят, и хотят вернуть.
– Я их спрошу, – говорит японка, относясь к моим причудам очень предупредительно и терпимо. Она любит загорать на пляже и плавать в океане. Из всех ее гостей я, должно быть, – единственный турист, которого интересуют кладбища, а не великолепные гавайские пляжи.
Она идет к японской паре и спрашивает. Те отвечают, явно очень расстроены и часто показывают на кладбище. У пожилой женщины жесты куцые, а у мужчины широкие, размашистые. Его руки то и дело охватывают кладбище целиком, не упуская ни единой могилы.
Японка возвращается.
– Они очень переживают из-за состояния кладбища, – говорит она.
– Я вижу, – говорю я.
– Говорят, никому дела нет, а сами они со всем не справляются. Спрашивают, что такое с миром приключилось.
– А с надгробиями что?
– А, надгробия, – говорит японка. Она всерьез задумалась о том, что ей рассказала пожилая пара. – Они говорят, это надгробия с могил, которые раскопали, потому что семьи больше не хотят за ними ухаживать.
– А тела? – спрашиваю я, оглядываясь на кучу надгробий у океанской кромки. – Что с телами сделали?
– Если нужно было кремировать, кремировали, а прах смешали с прахом остальных в храме, – ответила она.
Я посмотрел на буддийский храм.
Он стоял на солнце, измученный и измочаленный.
– Они там хранят прах, – сказала она, глянув на храм.
Я опять посмотрел на кучу надгробий.
– Интересно, зачем их туда свалили.
– Наверное, не хотят выбрасывать, – ответила она.
– Грустно, – сказал я. – Теперь никто не знает, что они когда-то жили.
Многие надгробия лежали так, что не разглядишь, чьи на них жизни. Видны только спины. Имена людей, даты рождения и смерти спрятались.
Будто эти люди и не существовали никогда.
Я посмотрел на храм.
Такое анонимное место погребения, и краска лупится.
Нельзя однажды приехать, как я сейчас, выйти из машины, побродить среди мертвых, поразмышлять о них, спросить себя, кто они, как они жили.
В храме они исчезли с глаз долой и из сердца вон. Я заподозрил, что родственники, которые их выкопали, а потом отправили в буддийский храм, нечасто посещают свои воспоминания.
Сваленные в беспорядке надгробия поддерживали мою гипотезу. Я вернулся к этой груде – взглянуть напоследок. Я теперь знал их историю и ничего не мог с собой поделать – паршиво было сознавать, что друзья и родственники попятились от их смерти, больше не желая ее беречь.
По-моему, это так странно.
Почему не оставить мертвых в земле, куда их с самого начала положили с почестями под аккомпанемент похоронных стенаний? Недостатка места на кладбище не наблюдалось. Если мертвых собирались захоронить в храме, почему так и не сделать с самого начала?
В этой груде позабытых надгробий я не видел никакого смысла. Тут, наверное, со всем так, и с этим тоже.
Я отвернулся и пошел через кладбище туда, где ждала японка. Она от кладбища устала, ей хотелось уехать. Через несколько часов нам лететь в Гонолулу, а перед отлетом – обедать в ресторане ее матери.
Я миновал пожилую пару, что боролась с кладбищенской ветхостью.